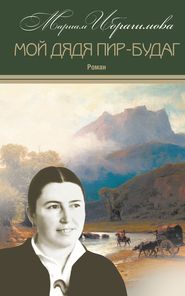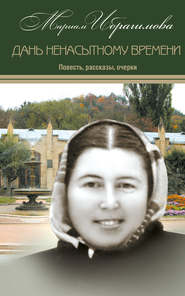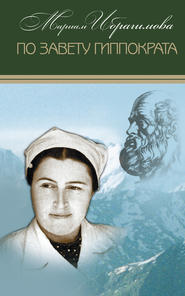По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Неумолим бег времени (публицистика)
Год написания книги
2018
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поразительно, но русские не умеют ценить своих лучших сыновей, таких как Пушкин, Лермонтов, Есенин, Павел Васильев… Не оценили они и не уберегли талантливого поэта, одарённого певца и актёра, знатока истории государства Российского, типично русского человека Игоря Талькова. Наверное, разочаровавшись в поступках современных идеологов, он отошёл к Богу и с душевной тоской «тщетно силился понять, как ты могла себя отдать на растерзание вандалам, Россия?».
А вандализму предавались не пришлые, а доморощенные, свои. Интересно, кто и за что угрожал Талькову? Кто спровоцировал драку и пустил пулю в него? Так вот, прежде чем осуждать, порождать злобу и ненависть, оплёвывать души ни в чём не повинных инородцев, служивших верой и правдой государству Российскому, познайте себя, не сейте зло, призывайте к миру и добру. Все мы – от единого Бога и должны помнить о Нём до того, как дойдём до последней черты.
«Кавказский край», 1992 г.
Мораль и право
В вечерней телепрограмме показывали новосёлов из казачьей станицы, недавно обосновавшихся под Москвой на базе какого-то промышленного предприятия.
Из интервью журналиста с атаманом следовало, что поселенцы – донские казаки.
Приятное впечатление произвёл атаман, он же руководитель предприятия. Представительный, без позы, просто одетый человек непринуждённо отвечал на вопросы. Его ответы и рассуждения свидетельствовали о неординарности, высокой культуре и завидной логике мышления.
Невольно подумалось: с таким атаманом не будут тужить казаки. Россия во все времена принимала и теперь принимает всех гонимых, пришлых, ищущих приюта, независимо от рода, племени, вероисповедания. Но, к великому сожалению, не все отвечают ей благодарностью. В былые времена инородцы, появлявшиеся на земле русской, строго придерживались неписаных законов морали. А именно, изучив язык, обычаи, нравы, честно трудясь, строго придерживались норм морально-нравственных устоев, присущих коренным жителям, то есть, как говорится, «не лезли со своим уставом в чужой монастырь», не рвались к власти. В этом отношении надо отдать должное российским немцам.
Размышляя о подмосковных казаках-новосёлах, невольно вспомнила недавнюю поездку в Железноводск. Где-то после Ессентуков внимание привлекли припаркованные легковые машины, вокруг которых (особенно у багажников) хлопотали группы вооружённых людей в одежде и регалиях «времён Очакова и покоренья Крыма». Попутчики пояснили, что это казачьи посты, выставленные на трассах. Остановили и нашу машину у въезда в город-курорт.
Водитель, взяв документы, подошёл к постовым, и после учинённой проверки мы поехали дальше. Неприятный осадок остался в душе, вспомнилась Великая Отечественная война, я предалась раздумьям.
Опытные работники ГАИ, наверное, не остановили бы машину, увидев в салоне пожилых и среднего возраста людей, не внушающих подозрения. А если бы и остановили, опять-таки, воспитанный постовой подошёл бы к водителю, представился и только тогда потребовал документы, удостоверяющие личность и права на владение или вождение транспорта.
Понимаю, что криминогенная обстановка в стране в целом и регионе в частности обострена до предела, к великому сожалению, обострились и межнациональные отношения. В критическом положении находятся и органы милиции с дорожно-транспортной службой. Им нужна помощь и со стороны казачества, и от дружинников. Но это не значит, что нужно стихийно создавать вооружённые формирования из казаков или дружинников, наделять их правами сыска и досмотра на трассах и в городе. Эти добровольные формирования должны действовать только под руководством участковых инспекторов и постовых ГАИ, строго соблюдающих свои права и обязанности.
Вооружённый казак, держащий под прицелом движущуюся машину, может случайно выстрелить. А если за рулём окажется кавказец? Из этой искры может вспыхнуть пламя межнациональной бойни. Ведь нервы у людей в условиях безвластия, беззакония, развала государства, экономического кризиса и нищеты, в которую повергли честных тружеников, пенсионеров, стариков, детей, напряжены до предела.
Возрождение казачества и благородных традиций можно только приветствовать, но казакам следует устанавливать свои порядки лишь у себя в станицах. А за пределами их поселений должны господствовать законы Конституции, гарантирующей личную безопасность и неприкосновенность честных граждан в правовом государстве.
Скажем прямо, ведь до так называемой «перестройки», а вернее сказать, до развала государства и августовского путча в стране существовал какой-то порядок. Его надо поддерживать всеми силами, не допуская произвола.
Курорты Кавказских Минеральных Вод всемирно известны. На лечение и отдых сюда едут люди из всех стран мира, проникая даже через «железный занавес». Теперь, когда занавес сорвали, сюда хлынула масса чужеземцев – на лечение, отдых, с благотворительными целями. Культура обслуживания гостей должна начинаться не с вестибюлей санаториев, отелей и гостиниц, а с момента вступления на землю Кавминвод, с железнодорожного вокзала, аэропорта. Ведь города наши не на осадном положении, а потому блюстителям правопорядка на постах и участках оружие лучше держать в кармане, а нагайки – за голенищем сапог, чтобы жители не пугались, а гости не думали, что «и ныне безумный Кавказ негодует, и мрачные думы его тяготят».
«Кавказский край», 1992 г.
Гарантия личной безопасности
Провозглашённая Генеральной Ассамблеей ООН 10 октября 1948 года Декларация прав человека призывала все страны и народы к защите гражданского достоинства и чести каждого человека, считая личность выше государства, политики и догм существующего строя.
Мне думается, что каждый человек, прежде всего, должен уметь сам постоять за своё достоинство и честь в условиях правового и иного государства. Также каждый должен иметь право на личную безопасность, которую обязаны обеспечить стоящие у власти.
Однако повседневность убеждает, что осуществить, вернее, обезопасить жизнь каждого человека в отдельности от посягательства преступников практически никакими правоохранительными органами и мерами морального воздействия не представляется возможным.
Отсюда следует, что в настоящем правовом государстве должен действовать Закон, обеспечивающий право на самозащиту. Криминогенная обстановка в нашей стране сегодня накалена до предела.
Статистические данные Главного информационного центра МВД СССР свидетельствуют, что за 1989 год от рук преступников погибло граждан нашей страны больше, чем за девять лет афганской войны.
Грабежи, кражи личного имущества, угоны автомашин – в особенности когда «вор у вора украл» – мало кого трогают, ибо стали привычным в условиях, если коллективная собственность растаскивается теми, чья рука ближе.
Растущая в стране преступность волнует людей не менее политического, экономического и социального кризисов. Публикации свидетельствуют, что не только простой народ, но даже правоохранительные органы лишены прав самозащиты.
Люди с одобрением отнеслись к массовому протесту работников Челябинского уголовного розыска, которые потребовали оружие, не желая идти на уголовников с голыми руками.
Ошская трагедия – убийство женщины-судьи, вышедшей навстречу уголовникам безоружной, её племянниц, случайно оказавшихся в доме, изнасилованных и зверски зарубленных топором, – потрясает! А приговор суда? Высшая мера только для двоих. Строгая изоляция для остальных, с пустой надеждой тюремного исправления. А если бы судья была вооружена и перестреляла бандитов, ломящихся в дверь, часть ошской земли очистилась бы от мерзости.
Но ведь ошская трагедия – не единственная, потрясшая страну… Да что говорить о провинции, если даже москвичи сегодня живут в постоянном страхе, запираясь в квартирах с наступлением сумерек и прислушиваясь к душераздирающим крикам, доносящимся с улиц, и громкой матерной брани собирающихся в подворотнях и подъездах на шабаш «рыцарей тьмы». И не только в ночное время.
На столичных улицах, в скверах грабят и насилуют средь бела дня. Даже в людных местах свидетели ограбления разбегаются во все стороны («Вакантный пост» В. Кондакова, «Советская Россия» от 19 октября 1990 г., «Банда выходит вечером» В. Белых, «Труд» от 13 ноября 1990 г.).
Мерзко становится на душе от сознания зависимости от слепого случая, унизительного бессилия даже перед буйствующими сопляками.
Народ охвачен страхом потому что опасность грозит всюду – дома, на улице, в поле, в лесу – и днём, и ночью. Никакие заборы, затворы, решётки, сигнализации и даже броня не гарантируют безопасность.
Государственные деятели, работники правоохранительных органов, социологи, психологи и представители общественности предаются нескончаемым дебатам в поисках выхода из создавшегося положения. Простые же смертные, читая оперативные сводки МВД, судебные очерки и просматривая телепередачи о злодеяниях преступников, негодуют, что мир сошёл с ума перед концом света.
Учёные, юристы, криминалисты, эксперты, изучая и анализируя причины и следствия растущей преступности, подтверждают известные истины, что резервом потенциальной преступности становятся типы с психическими отклонениями, тунеядствующие, деградирующие на почве алкоголизма и наркомании.
Но, пожалуй, одной из главных причин духовного и нравственного оскудения населения нашей страны явилось всеобщее пьянство, начиная от правящей элиты и кончая советскими пролетариями. Сталин, отменив сухой закон, оболванил народ, зная, что с «калинкой-малинкой», постоянно находящейся в состоянии хмельной эйфории, легче справиться, нежели со здравомыслящими трезвенниками, не отступающими от своих принципов и убеждений.
Сегодня мы пожинаем плоды посеянных Сталиным «зубов дракона» и имеем «удовольствие» лицезреть вороватых, дегенеративных, развращенных, паразитирующих элементов, которые хотят взять от жизни всё, и сегодня, сейчас, поднимающих алкогольные бунты. К великому сожалению, спасительное для страны и народа правительственное постановление по ограничению производства и продажи винно-водочных изделий, направленное на борьбу с пьянством и алкоголизмом, давшее заметный положительный эффект по снижению правонарушений и преступности, оказалось беспринципной кампанейщиной.
В 1989 году, когда производство и продажа одуряющих напитков были сокращены, число алкогольных психозов снизилось до 381 тысячи. Разумеется, уменьшилось и число преступлений, совершаемых людьми в состоянии опьянения.
Начиная с января 1990 года, в связи с ростом производства и продажи спиртного, снова преступность выросла. Статистические данные по России свидетельствуют, что за первое полугодие 1990 года в состоянии алкогольного опьянения совершено 43 тысячи тягчайших преступлений, то есть каждое третье преступление.
В первом полугодии 1990 года в исправительно-трудовых колониях нашей страны отбывали наказание 769 153 человека. Из них 62 процента рецидивистов, 30 процентов психически неполноценных, 16 процентов алкоголиков. Нет сомнения в том, что из тех 62 процентов закоренелых преступников большинство противозаконных деяний совершено под хмелем. Некоторые поклонники Бахуса считают, что сухой закон нигде в мире не оправдал себя.
Неправда! Более тысячи лет народы мусульманского мира, благодаря утверждённому в Коране сухому закону, сохраняли свои генетические корни, не повреждённые алкоголем. А потому «отсталый Восток» по сравнению с «цивилизованным Западом» по числу преступлений занимает последнее место.
Свободой и демократическими преобразованиями, происходящими в нашей стране, поспешили воспользоваться не только дельцы и комбинаторы пищевых предприятий, торговли и прочих злачных мест, но и главари воровских банд и шаек. В то же время гласность, как никогда, стала обнажать все пороки советского общества, тщательно скрываемые до начала перестройки под зелёным сукном письменных столов лицемерных партийных руководителей.
Преступность не порождена спецификой нашего строя. Она существовала во все времена и во всех странах. Вот только характер её и степень подвержены изменениям в зависимости от среды и тех, кто правит народами, ибо вождю уподобляется племя, правителю – подвластные.
Карл Маркс, изучивший и судебную медицину, и судебную психиатрию, знал о разного рода врождённых и благоприобретённых психических заболеваниях, умственной неполноценности, встречающихся у всех племён и народов, независимо от расовой принадлежности и цивилизации. Видимо, поэтому он утверждал, что со времён Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить наказаниями. Тогда возникает вопрос: как Маркс мыслил усовершенствовать людское сознание, при котором можно было бы претворить в жизнь проникнутое демагогией учение о построении коммунизма? Советская действительность показала, что при его первой фазе, социализме, уровень сознания правящих и подвластных был настолько низок, что власть и порядок в стране удерживались силою голого диктата, небывалого террора, рабства и геноцида по отношению к целым народам.
В сотворённом марксистами бесклассовом обществе классовая борьба обострилась настолько, что приобрела характер уголовщины и грозит гражданской войной.
В поисках выхода из создавшегося положения в правящих кругах нет единой позиции – одни требуют ужесточения мер воздействия по отношению к вышедшим из повиновения массам, другие, либерально настроенные, как, например, учёный Института государства и права АН СССР А. Наумов, считают, что «преувеличение роли смертной казни и вообще жёстких наказаний как средства, удерживающего от совершения преступлений, – одно из самых распространённых заблуждений».
Трудно согласиться с единомышленниками Маркса в этом вопросе. Меры жёстких наказаний по отношению преступивших нормы общественных уложений применялись начиная от родовых союзов, племенных структур и кончая цивилизованными государственными устройствами. Правовые нормы диктовались законодательными разделами всех вероучений, и расправы с отступниками были беспощадными. А потому и преступность носила спорадический характер.
И нет сомнения в том, что на дегенератов никакие гуманные меры не могут воздействовать – только физические, хотя иных зверей в облике человека не устрашает даже угроза смертной казни до часа исполнения приговора.
Из всех форм слабоумия опасны те, что периодически проявляются приступами садизма. Садисты встречаются пассивные, испытывающие чувство удовлетворения от причиняемой боли, они нередко провоцируют скандалы и драки.
Особо же опасны для близких и окружающих активные садисты – высшее и даже эротическое наслаждение они получают при виде крови, мук истерзанной жертвы. Этот тип неисправим, а сам порок, к великому сожалению, передаётся по наследству, и лучший способ профилактики этого рода преступности – физическое истребление.
Разглагольствование лицемерных филантропов в отношении отмены смертной казни, разумеется, по отношению к садистам, есть своего рода провоцирование злодеяний. К сожалению, вопли на этот счёт раздаются и среди известных учёных.
Трудно верить в искренность их гуманизма. Не могут быть сердобольными люди, изобретающие страшнейшие из оружий массового уничтожения. Сострадание у честного человека должно проявляться по отношению к невинным жертвам, а не к зверю в облике человека. Вот гуманисты ратуют за отмену смертной казни, пока опасность не касается их. Если же не угроза смерти, а простое притеснение со стороны властей проявляется к их собственной персоне, шум поднимают на весь мир. Можно себе представить их реакцию, если бы кто-то из подонков надругался над их ребёнком, над близким человеком или убил.