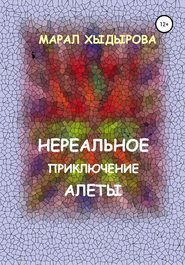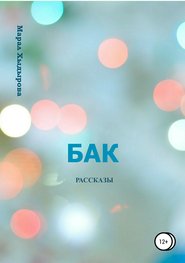По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Люди моего времени. Биографические очерки о деятелях культуры и искусства Туркменистана
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уникальная пластика и реалистичность форм в работах этого замечательного скульптора-монументалиста демонстрирует его отменный художественный вкус и природное чувство прекрасного. Туркменистанцы могут судить о творчестве Нурмухамеда Атаева по широко известным работам. Это пронзительно – вдохновенный памятник Нуры Халмамедову, парящие Пегасы над комплексом Национального музея, бюст-памятник Б. Кербабаеву в Теджене, полный драматизма памятник жертвам страшного ашхабадского землетрясения 1948 года, такой живой и народный памятник Сейиди на родине поэта, изящные фигуры всадницы и всадника перед зданием Кабинета Министров. Почерк скульптора – реалиста неизменно остается четким, исполненным вдохновения и лиризма.
Между тем путь мастера к искусству был не простой и, уж точно, не однозначный.
Отец Нурмухамеда был чабаном, и в 1943 году в кибитке становища в самом сердце Каракумов у него родился сын – четвертый ребенок в семье. Уже потом семья скотовода осела в новом селении «Тязе оба» Марыйского велаята, где прошло детство и отрочество Нурмухамеда. У сельских ребят детство, как правило, проходит в тяжелом труде, и его детские годы тому не исключение: после школы он всегда был либо на сезонных работах в колхозе, либо помогал копать арыки, а летние каникулы он проводил на сборе хлопка. Мечты у него были самые, что ни на есть мальчишеские: хотелось стать танкистом, а еще лучше – летчиком. Но особенно ему об этом думать было некогда.
Может быть, Нурмухамед так бы и не решился уехать из родного села, если бы не случай. После окончания семилетней школы, во время хлопкоуборочной страды, когда он работал в поле, к нему подошел двоюродный брат и поделился планами о том, что хочет ехать в Ашхабад, поступать в Медицинский институт. Брат предложил: а поехали вместе поступать! Но Нурмухамед усмехнулся: никакой институт не принимает абитуриентов с семиклассным образованием. У брата и на это нашелся ответ. Он вынул из кармана газету и прочел статью о том, как студент художественного училища показывал интересные фокусы. «Вот, – заявил брат, – если не институт, то училище, где учат на фокусников!». Теперь Нурмухамед серьезно задумался: а что, это вариант, да и учиться показывать фокусы, должно быть, весело. Сказано – сделано: Нурмухамед еле упросил родителей отпустить его учиться. Родители были против, но, подумав, что их сынок, привыкший к сельскому укладу жизни, быстро сбежит от городской суеты, дали «добро».
Тем временем Нурмухамед приехав в столицу, явился в художественное училище. «Где здесь у вас на фокусника учат?» – наивно спросил он в комиссии по приему документов. Ему объяснили, что здесь обучают изобразительному искусству, и он должен выбрать факультет: живопись, скульптура, графика, теория искусства и т.д. Сельский парнишка был расстроен: ведь он так хотел научиться делать фокусы! Но, как быть – домой не вернёшься – засмеют, придется пробовать поступать в это художественное училище. Как это ни странно, но он набрал проходной балл и начал учиться на живописца. Некоторое время спустя директор училища объявляет Нурмухамеду, что его решено перевести на отделение скульпторов, так как там недобор студентов, а на факультете живописи их слишком уж много. Опять Нурмухамед расстроился не на шутку: одно дело кистью по бумаге водить, а другое – в глине возиться. Но решение директора было непреклонным, и Нурмухамед отправился в студию скульпторов. Увидев мастерскую, он совсем огорчился – ну, никак не хотел он возиться с глиной! Что же делать!? Домой вернёшься, на всю жизнь неудачником прослывешь, придется идти в скульпторы! Года три учился он нехотя, спустя рукава. Его наставник В. П. Чудинов неоднократно пытался вдохновить его на работу, но все было бесполезно: Нурмухамед не хотел становиться скульптором! Так может быть, окончив училище, он уехал бы в свое родное село «ученным», если бы не один разговор старших ребят о будущем. Студенты были убеждены, чтобы в жизни стать человеком, обязательно надо учиться в институте! Услышав однажды, как ребята обсуждают, в какой институт ехать поступать, Нурмухамед вдруг до дрожи в ногах осознал, что с его «троечками» по предметам, его ни в какой институт не примут! Собрав всю свою волю в кулак, он дал себе установку, наверстать все упущенное и начать работать над собой. По вечерам, после окончания занятий в студии, он прятался за портьерами, и когда сторожа закрывали мастерские и уходили, он приступал к работе. Так ночами, поставив перед собой твердую цель – учебу в институте, мальчишка из Каракумов работал над своим развитием. Несомненно, такие самостоятельные ночные «факультативы» принесли свои плоды. Педагоги отмечали резкий скачок показателей Нурмухамеда по всем предметам. Мечта об институте оказалась не такой уж призрачной, когда в аттестате у него заблистали отличные оценки.
После училища, в 1962 году, Нурмухамед на 3 года ушел служить в армию в Подмосковье. Там опять-таки на его судьбу повлиял особый случай. Его сослуживец, рядовой Потапов, заметив, что на досуге туркменский парнишка лепит из глины небольшие фигурки, проникся уважением к таланту. Потапов предложил: «Нурик, хочешь, я тебе создам все условия для твоего творчества, ты только работай!». И в самом деле, ценитель прекрасного, Потапов, нашел неподалеку от воинской части местечко, нанес туда скульптурной глины (где он ее только раздобыл!), создал все условия для творческого процесса. В часы досуга Нурмухамед лепил, а Потапов восхищенно наблюдал за работой. Вскоре в части узнали, что талантливый солдат Атаев производит на свет какие-то удивительные вещи, и вскоре Нурик стал числиться на хорошем счету у командования. Между делом он разузнал о том, что положительно отличившиеся солдаты, находясь на 3-м году службы в армии, могут подавать документы на поступление в ВУЗ. Конечно, он воспользовался такой возможностью, командование снабдило его нужными справками и документами, вручили ему билет на поезд и отправили в Ленинград, поступать в художественный институт им. Репина.
Начался новый, интересный период в его биографии – учеба в знаменитом «Репинском». Нурмухамед стал учиться очень усердно, понимая, что нельзя упускать ни одной минуты драгоценного, без того уже потерянного в армии, времени. Он старался сдавать отлично не только основные предметы, но и второстепенные. Его стремления совершенствоваться и развиваться высоко ценили педагоги, уважали сокурсники. Вскоре портрет Нурмухамеда среди десяти самых лучших студентов Ленинграда появился во Дворце культуры работников просвещения (Юсуповский дворец), а потом и в Академии художеств.
В начале третьего курса ему посчастливилось учиться у знаменитого академика М. К. Аникушина, представителя классической школы, автора памятника А. С. Пушкину на Площади искусств. Михаил Константинович был не только замечательный педагог, но и добрый, отзывчивый человек. Он как никто, понимал студентов, продвигал их интересы, помогал во всем. Нурмухамед стал одним из любимых учеников Аникушина. Академические рисунки Нурмухамеда в качестве иллюстраций были включены в «Пособие по академическому рисунку» для студентов. Свою дипломную работу «Народное восстание» Нурмухамед защитил на отлично и получил направление в Аспирантуру. Академик Аникушин взял его к себе на работу в творческую мастерскую, и в течение трех лет он изучал и перенимал опыт и знания своего учителя.
Чтобы добиться определенного уровня мастерства и техники, Нурмухамед Атаев решил остаться работать в Ленинграде. Он обзавелся собственной мастерской и работал днями и ночами. Часто его приглашали другие скульпторы для коллективных работ над монументами, памятниками, фонтанными скульптурами – он с удовольствием соглашался на все, ведь это была дополнительная практика в копилку его опыта. Его наиболее значимые работы «ленинградского» периода, это портрет Сальвадора Альенде, который получил диплом на Выставке скульптуры республик Средней Азии и Казахстана в 1983 году; 5 скульптур вепсов (представителей малочисленного фино-угорского народа), которые сейчас находятся в краеведческом музее г. Подпорожье. Это памятник Ф. Дзержинскому для г. Ухта (Урал). Но наибольшую известность принесла Нурмухамеду работа над памятником-монументом первостроителям г. Комсомольска-на Амуре: масштабным, трудоемким, но интересным проектом.
В 1981 году ЦК ВЛКСМ объявил конкурс на лучший проект памятника первым строителям дальнего таежного города. Нурмухамед и два его товарища, скульпторы и ученики Аникушина, Э. В. Горевой и С. А. Кубасов стали участниками этого конкурса. Нурмухамеду была отведена задача – создать концепцию памятника и сделать эскиз, а в случае, если их проект победит в конкурсе, то все работы по памятнику будут делать они вместе. В их творческую группу влился еще архитектор Н. А. Соколов, который должен был помочь сделать расчеты и подготовить макет. Для Нурмухамеда эта была еще одна возможность попробовать себя в монументальной композиции, и он с энтузиазмом взялся за дело. Состоялась его первая поездка в Комсомольск-на-Амуре с целью знакомства с местностью, проникнуться атмосферой и духом города. Когда он оказался на береге Амура, у него перед глазами явилась картина, как в далеком 1932 году из причалившего к берегу парохода выгружаются молодые люди, приехавшие среди тайги поднимать город. Он представил все до мельчайших подробностей, выражение лиц, динамику чувств, каждую складку одежды, набор вещей, привезенных собой. Нурмухамед решил: именно так и будет выглядеть их памятник – группа молодых ребят, со своими вещами удивленно и тревожно вглядываются в таежные дали, простирающиеся перед ними. Его художественную концепцию памятника товарищи одобрили, оставалось только переложить ее на эскиз. А потом для всей группы начались сложные дни поиска, споров с архитектором, подгонка макета – но все это не зря, потому что проект ребят одержал безоговорочную победу на этом конкурсе. Памятник представляет собой пять пятиметровых фигур молодых строителей, которые только сошли с парохода на левый берег Амура. Впереди была сплошная тайга, дни и ночи битвы с природой, без сна и отдыха. Как бы понимая это, строители замерли в смятении чувств, у кого-то на лице решительная улыбка, мол, ничего, победим, у кого-то растерянность и смущение: не ожидали они таких трудностей! Уже 10 июня 1982 года в Комсомольске-на – Амуре состоялось торжественное открытие этого замечательного по композиции и полного жизни и чувств монументального памятника первым строителям. Работа над этим монументом, как бы, подвела первые итоги большого труда: Нурмухамед понял, что он состоялся как художник, как мастер, как профессионал.
В 1982 году он возвращается в Ашхабад, где продолжает свободную творческую деятельность. Скульптура Нурмухамеда Атаева отличается живостью форм, тонкой пластикой, большим вниманием к малейшим деталям, к мельчайшим подробностям образа. Это касается всех жанров, в которых работает художник. Все произведения мастера отражают внутренний мир, эпоху, чувства людей, обеспечивая динамику зрительского восприятия, предлагают нам на мгновение погрузиться в мир образа, изображенного скульптором. Портреты великих туркменских классиков Махтумкули, Кемине, Зелили, Мятаджи, Сейиди, а также же простых людей, например, портрет М. Гарагозова, репрессированного в сталинскую эпоху и проведшего 25 лет на Калыме, отсылают нас к целой палитре чувств и эмоций, решая не только эстетическую, но и общечеловеческую задачи.
Отдельно хочется выделить жанр художественного рельефа в исполнении Н. Атаева. Мне кажется, что произведения художника, сделанные в этом жанре, одни из лучших в композиционном решении и подаче образов. Вот, например, рельеф «Кемине среди народа». В этой работе мы можем всецело наслаждаться классикой жанра: образы, выступают, можно сказать, выплывают из плоскости, заставляя наше воображение усиленно работать на перспективу, до мельчайших подробностей отражают народный дух.
Такие произведения Нурмухамеда Атаева, как «Строители», «Пограничник», портреты-бюсты, рельефная композиция «Кемине среди народа» находятся в коллекции Туркменского Государственного музея изобразительных искусств. Скульптурный портрет студентки, выполненный им еще в студенческие годы, – в собраниях Государственной Третьяковской галереи (Москва, Россия). Его станковые произведения также находятся в частных коллекциях в России, США, ОАЭ, Таиланде.
Роза Тураева. Космос оперного искусства
Оперная певица, народная артистка Туркменистана Роза Сапаровна Тураева родилась в 1938 году в г. Мары. По воспоминаниям ее мамы – Ширбану Юзбаши – гызы, при том, что маленькая Роза начала ходить в 8 месяцев, примерно в этом же возрасте она и запела. Песня ее была незатейлива, но мелодична: малышка на все лады напевала звук «р», разгуливая по длинному балкону, на который выходили все соседские двери. После продолжительной распевки, Роза неизменно засыпала возле одной из дверей.
Тяжелое военное детство Розы прошло в г. Байрам-Али. Это были голодные годы, еды не хватало, мама была вынуждена тяжелым трудом зарабатывать на кусок хлеба себе и детям. Роза с братом как могли, добывали себе пропитание: воровали фрукты из садов, стреляли и жарили на костре воробьев и голубей, ели жмых. Но при всей тяжести обстоятельств военного времени, для Розы это были счастливые дни! Вместе с детворой они ходили встречать караваны, вереницей входящие в город. Самое любимое развлечение было на спор пролазить под веревкой, соединяющей одного верблюда с другим, занятие было рисковое, ведь верблюд – животное серьезное, могло и укусить озорников. Еще одно занятие было излюбленным у Розы – слушать радио, установленное в центре Байрам-Али. По нему она впервые услышала арию Лакме из одноименной оперы, по радио же она наслаждалась песнями народных певцов бахши. Потом она затевала концерты в своем дворе: собирала детвору, и они устраивали выступления для родителей. В ход шел весь песенный репертуар, услышанный по радио, плюс еще имидж маленьких артистов – непременно, мамины туфли, платья, помада, за что им потом от мам и доставалось. Роза также любила с ребятами лазать по руинам Старого Мерва, может быть отсюда пошло ее увлечение историей, всемирными географическими открытиями, астрономией. Став постарше она жадно глотала статьи журналов «Вокруг света», «Наука и техника», «Техника и молодежь», мечтая о том, что она сама когда-нибудь станет великим первооткрывателем. Но как ни странно, школу она не очень жаловала, часто пропускала занятия по точным наукам, и вместо уроков бежала в местный клуб, где целыми днями играл баянист – вот под его баян она и пела.
По характеру Роза была независимой и свободолюбивой, всегда стремилась к тому, чтобы было все по справедливости. Она всегда была заводилой в детских играх и шалостях, дралась с мальчишками, лазала по деревьям. Со временем, шалости и «мальчишество» исчезли, но прямолинейная и дерзкая натура, достойное поведение в любых жизненных обстоятельствах, остались с Розой навсегда.
Когда она окончила школу, они с мамой переехали в Ашхабад, а брат ушел служить в армию. Приехав в столицу, мама пристроила Розу на швейную фабрику, но поняв, что дочь шить не хочет, а хочет только петь, пошла ей на уступки. Друзья семьи добились, чтобы Розу прослушали в музыкальном училище, несмотря на то, что прием студентов был завершен. Так она стала учиться петь у Маргариты Георгиевны Фокиной, осваивая произведения Векирлена, Моцарта, Баха, Генделя. В училище она приходила в 7:30, чтобы до начала занятий поупражняться в вокале. Она музицировала себе на пианино и пела, но всегда приходили ребята из музыкальных отделений и прогоняли вездесущую первокурсницу с облюбованного места, чтобы самим позаниматься. Она, как и раньше, продолжала драться с мальчишками и спорить, в обиду себя никогда не давала. Как и раньше, без особых волнений своей совести, сбегала с занятий, правда теперь в кино. Доходило до того, что ее хотели исключить из училища за нарушение дисциплины. «Бойцовский» дух поутих у Розы только к 3-му курсу, «пацанские» выходки ушли куда-то, и она вдруг, неожиданно для самой себя, превратилась в хрупкую, милую девушку, которая уже не лазает по деревьям, не гоняет футбол с ребятами, но неустанно работает над собой. Из колеи ее иногда выбивали голодные обмороки, которые нередко с ней случались.
Первый раз она осознала вкус победы, когда на 3-м курсе играла Лизу в студенческой постановке «Бешеные деньги». Тогда из Москвы приехала авторитетная комиссия из театрального училища. Роза в роли Лизы была чудо как хороша: дикцию, темперамент, вхождение в образ, дивный голос члены комиссии оценили по достоинству. Руководству и педагогам училища было рекомендовано направить такую способную ученицу в Москву, в театральное училище, но если не в театральное, то по любому, в консерваторию! Но мама воспротивилась и не отпустила дочь на учебу, понимала, что в послевоенной суровой Москве ее худенькая, мечтательная по натуре Роза, которая может часами следить за движением звезд в небе, просто не выживет.
Кстати, любовь к астрономии, Роза Сапаровна пронесла через всю жизнь. Когда-то, во время вынужденной остановки поезда, они с мамой оказались в чистом поле. Над их головами раскинулось темное небо с миллионами ярких звезд. «Смотри, – сказала мама, – простирая руку в небо, – там конь, а вот девушка с саблей в руке!». Маленькая Роза сразу нашла среди звезд и коня, и девушку, а потом уже узнала, что это были созвездия Пегаса и Кассиопеи. Это было настолько захватывающе для нее – искать в небе созвездия, наблюдать, как движутся звезды, – что, будучи уже именитой певицей, она приобрела телескоп и брала его на гастроли, если считала, что сможет увидеть новые для нее звезды.
В Москву она так и не уехала, но при сдаче дипломного спектакля «Айна» в Государственном театре оперы и балета имени Махтумкули, который ставил вместе с выпускниками Д. Овезов, она так понравилась в роли Биби, что ее сразу взяли в театр солисткой. Ее дебют в театре состоялся на концерте, где она исполняла «Испанскую песню». Выйдя на сцену под свет софитов и увидев черноту зала, устремленную на изящную, хорошенькую «испаночку», у нее потемнело в глазах. Она до сих пор не помнит, как спела в тот вечер, но говорят, удивительно хорошо. Так началось восхождение яркой звезды под именем Роза Тураева на небосклоне туркменского оперного искусства. Ее путь был устлан не только лепестками белых роз, но и остриями язвительных шипов, которые ранили душу. Но разве истинный Артист может избежать этой стези?!
Считается, что для динамичного роста сопрано сначала надо спеть партию Розины в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини, потом Джильду в «Риголетто» и увенчать все Виолеттой в «Травиате» Д. Верди. У Розы было все в точности наоборот. Она пела Виолетту еще совсем юной, во многом не понимая, не пропустив через себя драматическую судьбу своей героини. Потом уже была и Джильда, и Розина, и ведущие партии в постановках «Любовный напиток», «Дон Паскуале» Г. Доницетти, «Лакме» Л. Делиба, «Пламенные сердца». Но после своей знаменитой партии Лейли в «Лейли и Меджнуне» Д. Овезова и Ю. С. Мейтуса, Роза на многое стала смотреть по-другому. Над образом Лейли, она работала вместе с замечательным дирижёром, народным артистом СССР Хыдыром Аллануровым.
«Он сотворил меня в этом образе, – признается Роза Сапаровна, – он пробудил во мне все чувства, эмоции одним только своим взглядом, чтением партитур. У Хыдыра Алланурова был уникальный дар – видеть в людях их душу! После образа Лейли у меня и Джильда, и Виолетта были уже другими: настоящими, проникновенными. Мне кажется, что партия Лейли – это высшая награда для певицы».
В 1972 году Роза Тураева стала заслуженной артисткой Туркменистана, а в 1984 году – удостоена звания народной артистки Туркменистана.
С 1987 в Туркменистане открылось Музыкальное общество (ныне Союз музыкальных деятелей), и она была назначена его председателем. В рамках работы Общества в сотрудничестве с редактором Алланазаром Реджеповым, она выпустила 7 номеров журнала «Бахшылар». Возглавляла Общество она вплоть до 1997 года.
Посвятив театру более 30 лет своей творческой жизни, в 1990 году она переходит работать в Государственный ансамбль народного танца под руководством Л. М. Смелянского, с которым сотрудничает более 10 лет.
За всю свою творческую карьеру Роза Тураева блистала не только на родной туркменской земле, ей рукоплескали московская публика, восточный зритель Японии, Шри-Ланки и Монголии, ценители пения Африканского континента и Европы: Германии, Швеции, Франции, Венгрии, Греции. Везде ее встречали с восторгом и овациями, любили не только за огромный талант, но и за ценные человеческие качества: душевность, скромность, стремление больше отдавать, нежели получать.
Она никогда не забудет памятную встречу в 1981, запавшую глубоко в сердце. Произошло это во время гастрольного тура туркменских артистов в Швеции, который был организован обществом «Дружба». Роза вместе со своими коллегами выступала в Гетебурге, в концертном зале. Аудитория представляла собой солидную публику, включая представителей советского консульства. При исполнении арии, Роза, взяв высокую ноту, долго ее держала. По завершении ее выступления, зал встал и взорвался аплодисментами. Успех был грандиозный. После Гетенбурга группа туркменских артистов приехала на юг Швеции, в Мальмо. Роза вышла прогуляться к берегу пролива, сев на скамеечке, долго вглядывалась она в эти дивные пейзажи. Неожиданно, две богато одетые дамы, гулявшие по набережной, подошли к ней. Они поздоровались, представились. Оказалось это русские эмигрантки. Они узнали Розу, так как были на концерте в Гетебурге и выразили свое восхищение ее искусством вокала. Женщины искренне радовались возможности поговорить и признались, что очень тоскуют по Родине, хотят вернуться, но дорога для них, как эмигрантов закрыта. Они готовы обменять свои бриллианты, меха и безоблачную жизнь в Швеции на улыбки своих родителей, близких и на дом, в котором выросли. Женщины, вспоминая о доме, заплакали, и Роза плакала, жалея их, она понимала, что они страшно несчастны в своем богатстве и сытой жизни, и если бы их позвали обратно домой, они все бросили и ушли бы в том, в чем приехали сюда. Тогда Роза упрочилась в своей вере в то, что счастье – тонкая субстанция, очень хрупкая и невесомая, что это – узнать очень трудно, но то, что оно не в деньгах и не материальных благах – это уж точно!
Когда-то в юности она мечтала спеть партию Виолетты и увидеть Южный крест. Ее мечты сбылись: в своей жизни «Травиату» пела неоднократно, и партия Виолетты стала одной из самых любимых в ее творчестве. Созвездие Южного Креста, которое можно обозревать только в южных широтах, она увидела в ЮАР, будучи там на гастролях. А еще, находясь на гастролях в Швеции, она, сидя на берегу и всматриваясь вдаль, хотела попасть в ту страну на другом берегу пролива, незнакомую ей, но такую манящую. Подруга сказала, что там Дания. Протянув руку, Роза тихо выдохнула: «Значит, я хочу в Данию»… Прошли годы, и она с гастролями попадает в старинный Копенгаген, такой шумный и такой красивый! Все о чем мечтает Роза Тураева, сбывается, потому что мечты ее светлые и теплые, как волны южного мыса.
Душевная щедрость ее видна невооруженным взглядом, рассказывая о событиях своей жизни, она не забывает о своих друзьях, добрых знакомых, чьим талантом, граничащим по ее мнению с гениальностью, она искренне восхищается.
«Гульбахар Мусаева для меня всегда была, есть и останется совершенством, – говорит Роза Сапаровна, – в ней привлекает все – не только стать, мастерство и абсолютная музыкальность, но и высота духа, страсть в танце, полет! Я очень любила смотреть ее непревзойденный танец в “Баядерке”, это просто надо было видеть!»
«У нас очень много невероятно талантливых, я бы сказала, гениальных художников, – утверждает Роза Сапаровна, – творчество многих из них я хорошо знаю, с некоторыми дружу с юности. Бердыгулы Амансахатов, Гульназар и Батыр Бекмурадовы, народный художник Туркменистана Шаджан Акмухомедов – глыбы не только в национальном изобразительном искусстве, они ни в чем не уступают по своей мощи и силе художественной мысли мастерам с мировым именем!».
Стелла Фарамазова: «Музыка – моя жизнь…»
Стелла Владимировна Фарамазова – один из самых ярких концертмейстеров нашего времени, замечательный педагог, посвятившая свою жизнь искусству.
Родилась она в 1969 году в Ашхабаде. В возрасте семи лет поступила в Республиканскую музыкальную школу, где стала учиться в классе фортепиано под руководством педагога Любови Семеновны Кац.
«В школу меня привела тетя – Изабелла Ходжабагиева, огромной души человек, замечательный музыкант, талантливый педагог – вспоминает Стелла Владимировна, – она сама работала в РМШ, выпустила много прекрасных музыкантов, была не просто педагогом, но наставником и другом».
Учебу Стелла продолжила в Туркменском государственном музыкальном училище им. Д. Овезова в классе кандидата наук в области искусств Маргариты Энверовны Ахмедовой, одновременно на 3–4 курсах занималась под руководством доцента Горьковской консерватории Натальи Александровны Стрелковой. В училище она увлеклась студенческим театром, занимаясь музыкальным оформлением спектаклей, и даже пробовала себя в роли актрисы. Друзья и педагоги нередко отмечали, что у Стеллы прекрасные вокальные данные, и если она приложит усилия, то сможет сделать неплохую певческую карьеру. Но на такие разговоры Стелла только улыбалась, она-то знала, что фортепиано – ее судьба, и поэтому стремилась освоить инструмент в совершенстве.
Успешно окончив училище, в 1981 году поступила в ТГПИИ, где училась в классе Жанны Николаевны Трутко и Александра Юрьевича Мекаева. После окончания учебы, Стелла осталась работать в институте концертмейстером, одновременно сотрудничала с кафедрами вокальной, дирижёрской, духовых, струнных, национальных инструментов. Она также занималась и педагогической деятельностью на кафедре ансамбля и концертмейстерского мастерства.
С большим энтузиазмом Стелла участвовала во всевозможных интересных музыкальных проектах, понимая, что сотрудничество с различными музыкантами и непрерывная практика игры на инструменте только совершенствует и шлифует ее мастерство. В качестве концертмейстера участвовала во всех музыкальных конкурсах регионального и международного значения. На первом международном конкурсе им. Нуры Халмамедова, который проводился в Ашхабаде в 1993 году, она была награждена дипломом за лучший аккомпанемент: она аккомпанировала баритону Исмаилу Джумаеву, который получил Гран-При конкурса и скрипачке Ольге Мятыевой, которая была удостоена диплома. Помимо этого Стелла – обладательница дипломов за высокое исполнительское мастерство на региональном конкурсе вокалистов республик Центральной Азии и Казахстана, на 6-м Региональном конкурсе духовых оркестров и исполнителей на духовых музыкальных инструментах, на 2-м Региональном конкурсе пианистов, вокалистов, скрипачей и виолончелистов им. Н. Халмамедова. Она также участвовала в международном конкурсе оперных певцов в г. Казань (Россия) с Исмаилом Джумаевым, в Одессе (Украина) со скрипачами, в международном конкурсе юных скрипачей в г. Алматы.
«Музыкальную культуру я впитала, слушая исполнение знаменитых музыкантов и вокалистов, таких как Лев и Наталья Власенко, Вера Горностаева, Станислав Иголинский, Зара Долуханова – говорит Стелла Владимировна. – Они произвели на меня неизгладимое впечатление, и я всегда стремлюсь к тому, чтобы мои студенты в обязательном порядке, слушали аудиозаписи известных исполнителей и определяли для себя ориентиры для дальнейшего совершенствования».
С 1993 по 1995 г. г. она проходит стажировку по специальности «концертмейстерское мастерство» в классе профессора А. А. Старикова. За это время Стелла сыграла огромное количество концертов, причем играла она не только как концертмейстер, но и как солист в камерном трио и квинтете с такими исполнителями как Э. Худыев, Т. Ахмедов, С. Ризаев, Р. Клычев, Т.Атаев, И. Джумаев, Х. Джумаев, Г. Балтаева, Г. Нурыева, Ж. Саян и др. и объездила с концертами все велаяты страны.
Стелла Фарамазова является активной участницей и со-организатором концертов и тематических вечеров классической музыки, посвященных творчеству Брамса, Моцарта, Рахманинова, Верди и творчеству туркменских композиторов Н. Халмамедова, В. Мухатова, Ч. Нурымова и других, проводимых в Туркменской национальной консерватории.
«Будучи студенткой, мне довелось играть перед самим Нуры Халмамедовым, – делиться воспоминаниями Стелла. – Мы играли его «Посвящение», и педагоги, конечно же, хотели, чтобы великий композитор внес свои коррективы в наше исполнение. Но он был человеком очень деликатным и доброжелательным: он поддержал нас, сказав, что мы исполнили все правильно и очень вдохновенно. Мы конечно были счастливы, хотя педагоги были готовы к жесткой критике с его стороны».
Многие уверены, что роль концертмейстера на сцене второстепенная, а главная, конечно же, принадлежит солисту. Такое мнение складывается от незнания профессиональных особенностей . На концертмейстере лежит большая ответственность и невероятные эмоционально-физические нагрузки, ведь он должен знать не только свою музыкальную партию, но и партии своих партнеров на сцене. Хороший концертмейстер должен быть великолепным пианистом, уметь импровизировать, менять тональность по просьбе солистов. Помимо этого, он всегда должен держать себя в форме, ежедневно упражняться на инструменте по несколько часов в день.
«Так уж сложилось, что я не могу позволить себе существовать вне инструмента, – рассказывает Стелла Владимировна, – даже в отпуске я стараюсь не оставаться надолго без упражнений на фортепиано. Мастерство концертмейстера требует регулярной практики, иначе теряется навык, забываются партии. Я участвую во всех концертах, работаю со многими музыкантами – только чтобы постоянно держать себя в тонусе. Однажды, когда мы организовали концерт, переложив оперные партии в инструментальные, было много музыкальных номеров, и я играла на сцене 1,5 часа бессменно!».
В практике Стеллы Фарамазовой был и такой случай. Конкурс им. Нуры Халмамедова проходил в разных местах – вокалисты выступали в одном концертном зале, инструменталисты – в другом, а концертмейстер у них всех был один – Стелла. Она тогда ухаживала за больной бабушкой и жила далеко за городом, в поселке. Автобусы курсировали редко, и чтобы успеть вовремя, ей приходилось добираться до города на любом транспорте, что подворачивался – даже на тракторе. Ходить приходилось по пыльным поселковым дорогам, поэтому у Стеллы в сумке всегда была сменная обувь. Отработав партии с вокалистами, ей приходилось бежать в другой концертный зал на очередной тур с инструменталистами. Однажды ей пришлось ждать попутки дольше, чем она рассчитывала, и все артисты и авторитетное жюри ждали ее прибытия, ведь без концертмейстера никакого номера не получиться. Вот вам и второстепенная роль! Концертмейстер на сцене с солистами – равный партнер, который сделает все, чтобы сольная партия звучала как можно насыщенней и экспрессивней.
Стелла Владимировна всегда совмещала профессию концертмейстера с педагогической деятельностью, и не мыслила своей жизни без этих двух составляющих. Ею подготовлено более 200 музыкантов-концертмейстеров. Как она сама говорит, она – очень строгий преподаватель: похвалить студента за безупречную работу может позволить себе только на выпускном экзамене, когда студент продемонстрирует все навыки и умения, которые получил в процессе учебы.
«Музыка – моя жизнь, – признается Стелла Владимировна, – и предназначение свое в жизни я вижу только в том, чтобы передать все свои знания молодому поколению. Как педагог, я использую все средства, чтобы раскрыть студентам всю глубину музыкального произведения и донести до них ответственную миссию концертмейстера. Не скрою, что не все студенты «горят» желанием быть аккомпаниаторами, и роль педагога – сделать все, чтобы влюбить их в свою будущую профессию. Мы учим их чувствовать музыку и своего сценического партнера, придерживаться одного ритма и даже делать вдох в одно и то же с ним время. Кроме этого аккомпаниаторы обязаны знать все партии, диапазоны голосов, историю музыкальных произведений. Умение импровизировать – неотъемлемая часть мастерства концертмейстера: особенно это важно в работе с вокалистами, ведь голос это очень капризный инструмент, может менять свою тональность в зависимости от обстоятельств, например, если певец слегка простыл. Иногда вокалист может попросить концертмейстера изменить тональность прямо перед концертом. Это очень сложная задача, но мастер своего дела никогда не скажет “нет”, он постарается сделать так, чтобы солист на сцене чувствовал себя комфортно и исполнил свою партию блестяще. Всем этим премудростям мы учим наших студентов, совмещая теорию с практикой. Особое значение придаем воспитанию культуры общения с партнерами по сцене».
Творческие порталы Хемры Шира
Хемра Шир – известный туркменский писатель, поэт, драматург, обладатель премии Хаджи Исмаилова. Его произведения переведены на русский, персидский, турецкий, татарский, афганский, японский, немецкий, эстонский языки. В 1997 году, вышедший в Иране сборник его стихов «Прекрасный мир детей» (в переводе Юсефа Годжуга и с великолепными иллюстрациями Нилофар Мирмохаммади) занял первое место в рейтинге продаж переводной литературы.