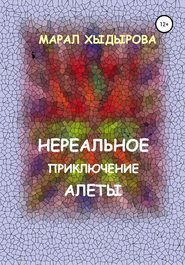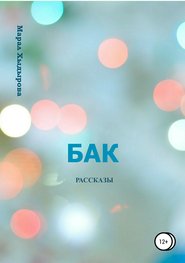По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Люди моего времени. Биографические очерки о деятелях культуры и искусства Туркменистана
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Художник никогда не стоял на месте, используя каждую минуту своего бытия для совершенствования мастерства. Своими «университетами» он считал Дом Творчества «Дзинтари», который, действительно, являлся в те годы не просто местом обмена опытом керамистов и скульпторов, но огромным источником вдохновения и творческой энергии. Как вспоминает очевидец активности «Дзинтари»: «сумасшедшие люди приезжали на взморье не ради морских купаний, не ради очарования маленьких кофеен на улице Йомаса, не ради глотка рижского бальзама, имевшего вкус недоступной Европы… Они приезжали для того, чтобы сутками до крови стёсывать ладони об особую, кусачую, шершавую местную глину» (А. Пищулин). Это было райское место для художников, творящих в глине. Латвийская земля благоволила керамистам, и именно в «Дзинтари» Джумадурды почувствовал силу и магнетизм такого простого материала, как шамот. «Шамот – эта такая особая керамическая масса, в которой сырая глина смешивается с измельчённой обожжённой. … В нём можно вырезать отверстия, гнуть его как хочешь, хоть в воронку закручивать; после обжига он приобретает уникальную поверхность, и керамические красители тоже воспринимает по-своему – иначе, чем гладкий черепок» (А. Пищулин). Джума Джумадурды был одним из первых туркменских скульпторов, кто объединил в своем творчестве станковую скульптуру и декоративно прикладное искусство, подняв керамику на особый пьедестал, с которого открывались все возможности этого живого и, как никогда, современного материала. Он очень любил работать с шамотом и часто обращался к нему, хотя его рабочий арсенал включал в себя медь, дерево, бронзу, алюминий, гипс. Художник был уверен, что шамот, после обжига и обработки, способен сохранить в себе не просто замысел творца, но и его искренние чувства, мысли и вдохновение, с которым он приступал к работе. Из шамота созданы самые трогательные и любимые самим художником произведения, в которых ему особенно хотелось подчеркнуть драматизм событий, глубину чувств, полет мечты: «Скорбящие» (1972), «После битвы» (1990), «Семейство» (1972), «Пустыня» (1979), «Читающий» (1977), «Мать и дитя» (1980).
Серия работ Джумадурды, сделанных в конце семидесятых, посвящена личности восточного мыслителя Омара Хайама и его творчеству. Такие работы как «Омар Хайам. Лирика», «Омар Хайам. Мерв», «Омар Хайам. Астроном» отсылают нас к мудрой древности и священности знаний. Эти работы украшают экспозицию Туркменского государственного музея изобразительных искусств. Очень много работ художника посвящено портретам как туркменских классиков («Махтумкули», «Молланепес», серия работ «Кемине», серия работ «Сейиди»), так и известных его современников («Чары Нурымов», «Р. Аллаяров», «Сахы Джепаров», «К. Кулиев», «Бяшим Нурали», «Нуры Халмамедов»). Особенно любим им Кемине, ему художник посвящает такие работы как «Кемине в пути», «Странствующий Кемине», «Кемине с осликом», «Кемине и пир», «Портрет Кемине». Возможно, народный герой, блистательный сатирик и поэт так близок Джумадурды потому, что и сам он обладал способностью тонко подмечать и передавать в скульптуре юмористические моменты. Невольно улыбаешься глядя на такие работы как «Наказание» (1978), «Девочка с собакой» (1984), «Погонщик и ослы» (1996), «Попался» (1998), «Читающий» (1977).
В 60–70-х очень большой популярностью пользовалась техника чеканки и выколотки на меди, и, конечно Джумадурды не мог не включиться в творческий процесс, произведя на свет великолепные чеканные картины. Почти все они хранятся в разных музеях: «Песня Каракумов» (1970) в художественном музее г. Фрунзе, «В новую жизнь» (1971) в музее г. Каунаса, «Хлопкоробки» (1974) в художественном музее г. Магнитогорска. Туркменский государственный музей изобразительных искусств является обладателем таких сокровищ, как «Колыбельная» (1965), «Раздумье» (1971), «Портрет Нуры Халмамедова» (1972), «Женский портрет» (1972), «Бедствие» (1974), «Мечта» (1979).
Живописные полотна Джумадурды, вобрав в себя краски национального колорита, уходят корнями в счастливое детство и юность, в вековую гармонию радости и грусти, солнца и тени: «Мать и дочь» (1987), «Портрет отца» (1975), «Курбан – Байрам» (1998), «Семейство» (1985), «Млечный путь» (1998), «Дерево памяти». Его графика к эпосу «Горкут Ата» тонкой невидимой нитью связывает древние предания о героях с современной трактовкой произведения.
Искусствовед Любовь Беликова в своей критической статье о работах Джума Джумадурды «Пластические символы» так характеризует его творчество: «За какую бы тему ни брался художник, – будь то стихи Омара Хайама, эпос или современный сюжет, – все приобретает в его работах особый смысл и значение… Джума умеет уловить неповторимое очарование сиюминутного, быстротекущего процесса жизни и заставляет остановиться прекрасное мгновение, достойное стать темой для произведения искусства…».
Произведения малой пластики мастера, такие как «Мелодия», шамот (1967), Портрет Сары Гаррыева, дерево (1970), «Пальван», бронза (1979) приобретены Третьяковской галереей.
Дурсунсолмаз Мухаммедова: «Ни дня без творчества!»
Работы народного художника Туркменистана, керамиста Солмаз Мухаммедовой всегда узнаваемы по стилю и высокому качеству исполнения. На международных и национальных выставках они неизменно вызывают восторг и удивление у мастеров и ценителей художественной керамики. «Как вы это сделали!?», – всегда спрашивают ее художники, знающие толк в керамической технике. Такие вопросы – самый высокий комплимент для Солмаз, признание уникальности ее мастерства.
Ей не важно, с каким материалом работать: глина, шамот, фарфор – важно, чтобы в каждом ее произведении присутствовала тайна, ключ от которой храниться в сердце самой Солмаз. Некая магическая сила присутствует в каждом ее произведении: это не просто безупречные формы, сильная композиция и умелая техника, здесь есть еще какие-то неведомые таинственные компоненты.
Серия удивительных декоративных ваз «Ветерок в пустыне», «Каракумы», «Южная ночь» будто созданы из частей вселенной, кажется, что осколки звезд, крупицы песка, дуновение ветра и всплеск речной волны объединились и легли в композицию. А Солмаз при этом дирижировала. Красивую мы придумали легенду. Но на самом деле, все гораздо сложнее: бессонные ночи, сотни эскизов, вечный поиск совершенства, тяжелый труд в мастерской по созданию и обжигу объектов. Все это удел мастера, но Солмаз счастлива в каждой минуте своего творчества.
Родилась она в Ашхабаде, в творческой семье. Ее отец – актер театра и кино, режиссер Вепа Мухаммедов известен своими работами в фильмах «Сын пастуха», «Случай в Даш-Кале», «Шасенем и Гариб», «Дорога горящего фургона», «Кугитангская трагедия», «Кечпелек». Мама Рухсара тоже была актрисой, но отказавшись от этой профессии в пользу семьи, долгое время проработала ассистентом режиссера по монтажу на киностудии. Семья Мухаммедовых жила рядом с киностудией, и в их доме часто бывали актеры, режиссеры, операторы, художники. Солмаз с детства занималась творчеством, любила петь и танцевать, очень хорошо рисовала. По настоянию отца она училась и в музыкальной, и в художественной школе, но занятия живописи ей были куда как приятней, чем разучивание музыкальных гамм. Она окончила художественную школу с отличием и легко поступила в художественное училище им. Ш. Руставели на живописно-педагогическое отделение. В училище Солмаз подавала большие надежды. Но на втором курсе она резко переменила свои планы и попросила перевести ее на отделение декоративно-прикладного искусства, класс керамики. Педагоги недоумевали: как можно перевестись с такого престижного отделения в не очень, мягко говоря, сильный класс. Считалось, что в «прикладники» идут те, кто не очень хорошо рисует. Но у Солмаз на то были свои причины. Ее двоюродный брат Клычмурад Ярмаммедов посоветовал ей сделать такой выбор, так как керамика, как направление в искусстве только входила в моду, а женщин-керамистов вовсе было единицы. Более того, брат настоятельно рекомендовал ей после окончания училища, поступать в элитный тогда Московский государственный художественно-промышленный университет им. С. Г. Строганова. Этот ВУЗ славится высоким уровнем обучения, гарантирующим полное овладение мастерством.
Целеустремленность – одно из сильных черт характера Солмаз, и поставив перед собой цель – поступить в «Строгановку», она работала не покладая рук. Услышав о планах дочери, родители отказались отпускать свою дочь в Москву, и ей пришлось в течение года буквально на коленях упрашивать маму благословить ее поездку. В итоге, та согласилась, но объявила о том, что денег на дорогу не даст, поэтому после училища, Солмаз бежала на подработку, чтобы накопить на билеты и проживание в Москве, а после работы готовилась к поступлению.
Упрямая Солмаз трижды «штурмовала» Строгановский университет. Причем на «ура» она сдавала все экзамены по рисованию, живописи и композиции, а «заваливали» ее, как правило, на истории искусств и русском языке. Солмаз всегда училась с удовольствием, много читала и на фоне своих ровесников выделялась грамотностью и эрудицией. Все гуманитарные предметы она знала наизусть, при этом ей не надо было даже зубрить. Но на такие вопросы, как «Сколько окон и дверей в Зимнем дворце», точных ответов она не знала…
Лишь поступая в университет на третий год, она стала студенткой этого престижного ВУЗа. Вся учеба проходила у Солмаз в постоянном круглосуточном труде, она не жалела себя, осваивая новые для себя технологии, методы, приемы. По ночам много читала, делала этюды, эскизы, училась содержание облекать в соответствующую форму. Никогда не искала легких путей.
Над своей дипломной работой она трудилась в течение года, долго вынашивала проект, обдумывала каждую деталь. Конечно же, ей хотелось показать все то, чему она научилась, доказать педагогам, что она стала настоящим Художником. Остановила она свой выбор на фарфоровом сервизе из 36 предметов – самый сложный вид работы, плюс ко всему нелегко осуществимый: надо было ездить в Подмосковье на фарфоровый завод Вербилка. Свой сервиз, выполненный на высоком художественном уровне, Солмаз назвала «Курбан-Байрам», расписав его удивительно живой, тонкой миниатюрой. Ее дипломная покорила сердца самых строгих членов экзаменационной комиссии и была признана одной из самых лучших работ. Сейчас сервиз «Курбан-Байрам» хранится в музее «Строгановки», а еще один экземпляр этого потрясающего произведения керамического искусства находится в Музее изобразительных искусств в Ашхабаде.
Университет Солмаз окончила с отличием и вернулась в родные края победительницей.
По возвращению в Ашхабад Солмаз работает главным художником на предприятии сувенирной продукции, потом в Художественном фонде Союза художников Туркменистана, при этом занимается и свободным творчеством. В 1983 году ей предложили принять участие в 2-х месячном Всесоюзном симпозиуме керамистов, который был организован в Латвии. Солмаз, не раздумывая, согласилась. На симпозиуме, где собрались мастера со всех союзных республик, была поставлена определенная задача: в течение двух месяцев керамисты должны представить свои работы на суд жюри, и самые лучшие из них будут делегированы на Международный конкурс керамистов в Италию. Приехав на симпозиум, Солмаз с энтузиазмом взялась за дело, но вазами из глины и шамота никого не удивить. Ее мастерская была завалена многочисленными эскизами и рисунками. Опять в голове стала крутиться мысль об изделии из фарфора, но нужны были заводские технологии, чтобы работы смотрелись изящно и нежно. Где ей же ей на чужбине взять эти заводские технологии!? Но она не привыкла впадать в отчаяние, а собрав всю волю в кулак, стала искать решение. Оно нашлось в лице директора Рижского фарфорового завода, который пошел на уступку и, в виде исключения, позволил Солмаз занять рабочее место на заводе, чтобы реализовать свой план. В результате упорного труда и творческого вдохновения родились на свет удивительные, необычайно изящные композиции: «Гелинлер» и «Нежность», которые были признаны на симпозиуме лучшими керамическими произведениями. Эти две композиции и отправились покорять Международный конкурс керамистов в г. Фаэнце в Италию. Ни для кого не стало неожиданностью, что работы Солмаз на этом конкурсе завоевали первую премию по всем критериям, это была действительно заслуженная награда талантливой художницы, большой труженицы, патриотки. В дальнейшем во всех работах Солмаз, так или иначе, отражаются национальные мотивы, культурные традиции, народная философия.
Солмаз принимала участия в десятках различных выставок, как в Туркменистане, так и за рубежом. Ее работы смогли по достоинству оценить поклонники декоративного искусства России, Турции, Италии, Франции, Казахстана, Узбекистана, Ирана. Но всякий раз их мнение было неизменно: «Брависсимо, маэстро!». Ажурное глиняное кружево и «3D» объемы на ее арт-объектах волнуют умы, как простых зрителей, так и профессионалов. Изящество и трогательная элегантность форм пробуждает в нас желание прикоснуться и погладить гладкую выпуклость фарфора.
За ее плечами реализация интересных творческих проектов. Так в 1985 она приняла участие в оформление здания Ашхабадского цирка совместно с народным художником Туркменистана Иззатом Клычевым и Клычмурадом Ярмамедовым. Весь масштабный керамический декор внутри здания выполнен Солмаз вручную. В 2011 году ею создана монументальная композиция «Тюльпаны», которая украсила собой музыкальную школу-интернат при Консерватории. Ее панно «Музыка», уже несколько лет радует глаз студентов Института культуры Туркменистана. Когда в поселке Махтумкули (Каракала), открылся музей Махтумкули-фраги, то несомненным украшением его стала и серия керамических произведений Солмаз «Поэзия Махтумкули».
Елена Орешкина: «Верить, не отчаиваться и двигаться вперед»
Услышав один раз песни в исполнении уникальной в своем жанре артистки, лауреата премии Ленинского комсомола, лауреата музыкального государственного телевизионного конкурса «Янлан диярым», исполнительницы авторских песен – Елены Орешкиной, невозможно забыть ни те солнечные, радостные ощущения, полученные от звуков ее голоса, ни сам ее светлый, исполненный вдохновения образ. Собираясь на встречу с Еленой, я вспоминала ее творческие вечера, которые мне удалось посетить, и то радостное настроение, с которым я, как зритель, покидала зал. Меня тогда поражало трепетное отношение певицы к сцене, своему зрителю, то теплое общение, которое на протяжении всего концерта беспрестанно идет между ней и аудиторией. Уже во время беседы с Еленой, я каждый раз ловила себя на мысли, что мое настроение заметно поднимается от звука и тембра ее голоса, от той доброжелательности и искренности, которые она излучает. Я сидела и думала: как правильно она поступила, что ни на минуту не изменила своему дару и своему великому предназначению – дарить радость людям.
Музыка присутствовала в ее жизни с детства. Со слов матери, маленькая Лена засыпала только под музыку. Если мама, думая, что дочка заснула, выключала телевизор, то ребенок сразу же просыпался и требовал снова его включить. Музыкальный ребенок всегда найдет свою сцену: Лена всегда была активной участницей «дворовых» спектаклей. Да, дорогой читатель, с ностальгией мы сейчас вспоминаем детские концерты, которые местная ребятня организовывала для жителей своего двора, что немало способствовало развитию творческих способностей и воображения детей. Помимо того, что Лена росла очень музыкальной, она любила танцевать: танец для маленькой девочки – прекрасное средство выразить свою радость и поделиться ею с другими. Горячее желание делиться вдохновением и душевной теплотой было, есть и будет у нее всегда, невзирая на годы, обстоятельства и расстояния…
«Моя мама очень красиво пела цыганские романсы, наверное, это у меня от нее – любовь к песне, – признается Елена. – И, если мама находилась в зале, я специально для нее пела цыганские романсы, зная, что это ей очень нравиться!».
Мама, видя музыкальные способности дочки, определяет ее с первого класса в музыкальную школу на класс скрипки. Ходила Лена в эту школу две недели, после чего музыкальную учебу пришлось оставить: мама работала допоздна, дочку некому было забирать из школы и, понимая, что улица и проезжая часть большой риск для маленькой девочки, она решила отказаться от музыкальной школы. Но где-то в классе шестом при ашхабадской школе № 46, где училась Лена, был организован вокально-инструментальный ансамбль «Дружба» под управлением Вилена Семеновича Саатцазу – учителя пения. Это было, действительно, удачей для одаренного ребенка. В свое время не вышло со скрипкой, и возможность научиться играть на гитаре Лена ни за что не упустила! Долгие годы мечтой девочки было научиться играть на фортепиано – ведь это так здорово, когда ты можешь петь и при этом аккомпанировать себе, но гитара – это тоже вариант, тем более, что пианино с собой не возьмешь в поход, а вот гитаре всегда местечко найдется! Лена стала осваивать бас-гитару, и уже через год перешла к изучению шестиструнной, уж так красиво звучал этот инструмент. Ребята из ансамбля показывали ей аккорды, и она хватала все на лету. Умение играть на гитаре позволило ей самостоятельно выходить на сцену, петь и аккомпанировать себе. Именно гитара способствовала тому, что в дальнейшем Лена стала создавать и исполнять свои собственные песни. В последствие, долгие годы она выступала перед аудиторией в сопровождении своей неизменной спутницы – шестиструнной гитары.
Вокально-инструментальный ансамбль «Дружба» вскоре стал очень популярным, поэтому ему было доверено представлять республику на концерте, посвященном 60-летию Всесоюзной пионерской организации в Москве, наряду с танцевальной группой и ансамблем дутаристов. С ансамблем «Дружба» Лена Орешкина часто гастролировала, их много снимали на ТВ, о них говорили на радио, записывали их песни. Вот тогда-то она стала серьезно задумываться о том, чтобы посвятить свою жизнь сцене. Где бы она ни выступала, всюду люди отмечали ее необычный, сильный, приятный слуху голос. Конечно же, в первую очередь, все советовали Лене получить профессиональное обучение по классу вокала – нужно расти, не останавливаться на достигнутом! Она так и сделала, но уже после завершения экономического техникума. При поступлении в музыкальное училище она исполнением «Колыбельной Светланы» из кинофильма «Гусарская баллада» сразу покорила сердца членов жюри и без сомнений была зачислена на учебу в музучилище. Параллельно с этим, как это ни удивительно, она продолжала профессиональную карьеру, и училась на заочном отделении торгово-экономического факультета Института народного хозяйства.
Педагоги в музыкальном училище видели в Елене прекрасную камерную певицу с академическим репертуаром. Но саму ее привлекал больше жанр авторской песни, в котором она находила способ выразить себя. С большой теплотой вспоминает она о своем педагоге заслуженной артистке Туркменистана Нине Алексеевне Шумской: «Благодаря ее стараниям, во время моей учебы в училище, я получила богатый опыт концертной практики. Я выступала на разных сценах, но первая сцена, где состоялся мой дебют и, которая на долгие годы оставалась для меня почти как родным домом, это – сцена Ашхабадского Дома офицеров, там проходили мои творческие вечера, концерты, живое общение с публикой». Ее выступления перед людьми разных профессий, рабочими коллективами, студентами, военными, спортсменами, не прошли мимо ЦК комсомола. В дальнейшем, ее часто приглашали на различные мероприятия всесоюзного и регионального масштаба, она имела грандиозную возможность знакомиться с людьми из разных республик и разных сфер деятельности.
Благодаря своей настойчивости и целеустремленности, Елена ухитрилась получить на руки три диплома: бухгалтера, экономиста и вокалиста, и три линии судьбы, которые никак друг с другом не конфликтовали, вели Лену по жизни: профессиональная карьера бухгалтера и экономиста и творческая карьера автора-песенника и исполнителя.
Елену очень часто приглашали выступить на различных мероприятиях, и она всегда с готовностью откликалась. Так, она в январе 1989 года, была откомандирована комсомольской организацией в Афганистан с гуманитарной миссией. В составе большой делегации, в которую входили артисты театра им. Молланепеса, поэты, врачи, она выступала и перед жителями селений, и перед советскими солдатами, воевавшими в Афганистане. В этой поездке к ней подошел один местный афганец и спросил, знает ли она песню «Катюша»? Елена заинтересовалась и, в свою очередь, стала расспрашивать его о том, откуда ему известна эта песня. Оказалось, афганец учился в Москве. В итоге они спели эту песню вместе. До сих пор она хранит самые светлые воспоминания и об этом эпизоде, и о людях, с которыми пришлось выступать на одной сцене. После этой поездки, в 1990 году она была приглашена как артистка, на форум, посвященный юбилею создания комсомольской организации Узбекистана. На этой встрече присутствовал первый секретарь ЦК ВЛКСМ, который, узнав о том, что боевая девушка из Туркменистана была с творческой программой в «горячей точке», предложил Елене работать в ЦК. Но ее вовсе не интересовала карьера комсомольского лидера, ведь она рождена для того, чтобы петь и делать этот мир чуточку лучше.
Очень любила Елена выступать перед студенческой молодежью, ее живые песни сразу подхватывались и шли в народ. Часто она была желанным гостем Туркменского государственного университета им. Махтумкули, особенно в разгар сезонов студенческих КВНов, которые проходили под патронажем университета. Нередко она была не только приглашенным гостем, но и членом жюри. Даже было время, когда она готовила для КВН-турниров команду курсантов военного института.
С большой теплотой и участием Елена относится к ветеранам Великой Отечественной войны, и на майских праздниках всегда отзывается на предложения выступить перед ними с концертной программой.
Долгое время Елена проработала в комитете специальной Олимпиады Туркменистана и знает о трудностях и проблемах ребят с ограниченными возможностями не понаслышке. Всегда помогала, как могла, зная, что любая помощь востребована. Однажды ей захотелось написать Гимн Параолимпийцев Туркменистана «Светлый мир». В этой песне она призывает людей помогать тем, кто ограничен в возможностях, но при этом не теряет надежды на свою личную победу. Никогда не отказывает она и в просьбах об организации праздника для больных детей. Здесь она выкладывается на все «сто», стремиться вселить в измученные детские сердца радость, ощущение легкости и счастья, понимая, что не все из них смогут преодолеть тяжелую болезнь. Такие детские песни, как «Снежинка», «Весна пришла», написанные ею специально для маленьких слушателей, очень любимы детьми.
Как признается Елена, для нее высоким примером Гражданина и Человека является актер и активный общественный деятель, народный артист России Константин Хабенский. Он не просто создал специальный «Фонд помощи детям, больных раком», но и делает все для продвижения и распространения идеи активного гражданского участия в судьбах больных детей. Елена познакомилась с Константином в интернет-сети, они много общаются, обсуждают вопросы расширения границ благотворительности, и Елена очень признательна ему за то, что он не закрывается от общения с людьми, всегда доступен и открыт для новых идей и предложений, касательно Фонда.
Стремление объединять вокруг себя людей, помогать ближним по мере собственных сил, вдохновлять окружающих на добрые поступки и взаимопомощь – одно из самых сильных человеческих качеств Елены, нашедшее отклик в ее творчестве. Тематический диапазон ее авторских песен очень широк, но все они обращены к самым светлым сторонам человеческой личности, призывают к дружбе, единению, ненасилию и миру. Ею создана «Песня о дружбе между Россией и Туркменистаном», в которой она обращается к людям двух стран сохранять добрососедские отношения, ведь доброе общение – это то, что нужно для мира. Хоть Елена родилась в России, но вся ее жизнь, работа, творчество связаны с Туркменистаном, поэтому ее душа всегда стремиться к тому, чтобы никакие границы не помешали дружественному общению между народами этих двух стран. В 2001 году Елена стала участницей Конгресса соотечественников, организованного в Москве. Специально к этому мероприятию ею написана песня «Добро пожаловать в Россию». Свою песню она исполнила в зале МГУ на встрече с ректором В. А. Садовничьим. За эту песню Елена Орешкина была удостоена медали Московского государственного университета им. Ломоносова. Известна также ее «Песня о дружбе межу народами Туркменистана и Турции», которую она посвятила исторически сложившимся, многовековым взаимоотношениям между двумя братскими народами.
По своей натуре, Елена очень общительный, позитивный человек, с удовольствием сотрудничала и сотрудничает с различными организациями и ведомствами. Так, например, Национальный спортивный комитет, зная отзывчивость и готовность Лены к работе, часто приглашает ее на различные мероприятия, встречи, форумы. По своей собственной инициативе она создала песню, посвященную нашему национальному футболу, песня так и называется «Футбол» и обращена, в первую очередь, к молодому поколению, пропагандируя здоровый образ жизни и занятия спортом. На тесное творческое сотрудничество с военными указывает и созданная ею песня о службе в армии «Армейские дела», опять-таки призывающая молодых людей не «бегать» от армии, а честно, с достоинством отслужить Родине. Часто Елена выступала со своими песнями на пограничных заставах, поддерживая дух солдат и вдохновляя их.
Большой стимул для рождения лирических песен дает Елене уникальная туркменская природа. «Мне очень нравится дерево чинар, – делится Елена, – оно не только очень нежное и грациозное, оно еще дает очень много тени в знойный полдень, это невероятно женское дерево – красота и самоотверженность сочетаются в нем. Мою песню я так и назвала «Чинара». Такими песнями, как «Мой независимый Туркменистан», «Ашхабад», «Чурчури», «Алый цветок», «Азиатка», «Девушка с дутаром», «Новруз-байрам», «Влюбленный джигит» Елена прославляет родной край, Туркменистан, людей, живущих и работающих здесь, народные традиции и обычаи, ведь вся жизнь женщины, которая поет, неразрывно связана с этой благословенной землей.
25.07.2015
Николай Амиянц. Эпоха скрипичного мастерства
Имя заслуженного деятеля искусств Туркменистана Николая Амиянца неразрывно связано с основанием и развитием туркменской скрипичной школы.
Он родился и вырос в Ашхабаде. Его родители – мать Нина Осиповна Черкезова и отец Артем Амбарцумович – не имели прямого отношения к музыке, но зато родственники были не просто профессиональными, но прославленными музыкантами и педагогами. Его дядя – народный артист РСФСР и Таджикской ССР, композитор и педагог Сергей Артемович Баласанян внес большой вклад в становление и развитие таджикской оперы и балета, за свой балет «Шакунтала» он был удостоен высшей награды от президента Индии. Его брат – Сурен Артемович – был трубачом и педагогом, автором этюдов для трубы, переложений пьес из "Детского альбома" Чайковского, "Альбома для юношества" Шумана и др. Двоюродные брат и сестра Николая Исай и Седа Аванесовы были скрипачами, но страшное ашхабадское землетрясение 1948 года навсегда оборвало их жизни…
Николай стал обучаться игре на скрипке в шестилетнем возрасте, да так и остался преданным этому невероятно-притягательному инструменту. Совсем еще малышом он сыграл полный концерт для скрипки Оскара Ридинга, и талантливого мальчика немедленно перевили сразу во второй класс. Учится он у замечательного педагога А. Ф. Коржина. Успешно окончив музыкальную школу, он поступает в училище к педагогу Альфреду Николаевичу Ицкову – ученику знаменитого профессора Цейтлина. Завершать свое среднее образование Николаю пришлось в Баку при национальной консерватории, так как этот город принимал у себя эвакуированных детей и подростков из разрушенного Ашхабада. Здесь его наставником стал доцент А. Ходжумян – ученик известного скрипача и педагога Бретаницкого, который, в свою очередь, являлся учеником великого Ауэра.
Будучи студентом Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова, он учился под руководством профессора И. Лукашевского и одновременно работал в ансамблях кинематографии и различных оркестрах, стал обладателем трех премий Московского молодежного фестиваля.
В 1957 году ему предложили остаться работать со знаменитым оркестром Михайловского театра, но Николай всегда скучал по своим родным и друзьям, поэтому предложения не принял и вернулся в родной город. Здесь в Ашхабадском музыкальном училище он начал свою педагогическую деятельность, одновременно работал концертмейстером оркестра филармонии под управлением Г. Аракеляна, а также в театре оперы и балета им. Махтумкули. Ему не требовались многочисленные репетиции, чтобы сыграть сложные партии, много времени он отдавал редактированию концертных программ, перекладывал национальные и классические музыкальные пьесы на скрипку. Николай Амиянц является автором целого ряда гамма-образующих упражнений и упражнений для свободного и независимого движения пальцев по грифу.
В училище – в то время кузнице музыкальных кадров (ведь консерватория открылась только в 1972 году) нагрузки были неимоверные, каждый педагог нес на себе 2,5 рабочих ставки. В течение долгого времени Николай Артемович заведовал оркестровым отделом. Он был бессменным руководителем легендарного ансамбля скрипачей, который в те времена включал в себя шестьдесят участников. Для ансамбля он опубликовал сборник из 10 классических пьес под собственной редакцией и 5 пьес переложил из музыки туркменских композиторов. Триумфальные выступления ансамбля прославили Туркменистан далеко за его пределами.
За всю свою славную трудовую деятельность Николай Амиянц выпустил целую плеяду блистательных артистов, которые продолжили музыкальную карьеру в Туркменистане и заграницей: в Казахстане, Армении, России, во Франции, США, Новой Зеландии, Финляндии, Германии и других странах. Среди них такие талантливые музыканты, как Давид Тумасов, Ханна Извекова, Ольга Мятиева, Аннасолтан Атдаева, Агат Аветисян. Он подготовил замечательных педагогов, которые составили костяк скрипичной школы Туркменистана. В Ашхабаде это Амия Умарова, Марал Оразова, Зинаида Ахметджанова – педагоги РМШ; Айна Касимова, Ибрагим Оразов, Элина Григорян, Сейран Касими – педагоги в музыкальном училище, Нязик Сарыева, Бахрам Доллыев – педагоги в Национальной консерватории. А сколько талантливых педагогов работает в велаятах! Звездный дуэт скрипачей Довлета и Оразгуль Овезмурадовых – это тоже ученики Николая Артемовича.
Ему посвятили свои произведения такие туркменские композиторы, как Керки Назаров «Вальс» и Ашир Кулиев «Сюита».
«Иногда из музыкальных школ ко мне приходили ученики, которые вроде бы не подавали особых надежд, а иногда, казались и вовсе безнадежными, но после коррекционных упражнений, особенно в постановке рук, технике игры и по восприятию музыкального произведения в целом, они неожиданно раскрывались, втягивались в занятия и оканчивали учебу у меня блистательными музыкантами. Вы не можете себе представить, какое это счастье для педагога, видеть своих учеников мастерами своего дела!», – делится Николай Артемьевич.
Уникальность его педагогического вклада в становление и развитие музыкальной школы состоит и в том, что он не просто обучает, он объясняет, играет и показывает студентам динамику музыкального произведения, его сложные моменты и философскую основу. Все его ученики могут получить у него консультации и по устройству скрипки: он научился ремонтировать и настраивать инструмент, поэтому ему не составляет труда помогать студентам в этом деле.
«Туркменская земля рождает очень много талантов, – говорит маэстро. – Главное, их вовремя разглядеть и поддержать. Для того, чтобы из способного пятилетнего – шестилетнего малыша вырос блистательный музыкант нужен большой вклад, как моральный, чисто педагогический, так и материальный, а это приобретение хорошего инструмента с чистым звучанием, и участие ребенка во всевозможных концертах, музыкальных конкурсах и фестивалях, где также должно быть обеспечено прекрасное звучание и акустика. Это все необходимо для профессионального роста».
04.06.2016
Нурмухамед Атаев. Классика в скульптуре