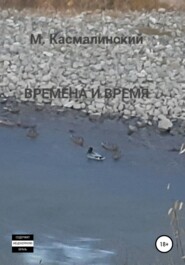По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь с войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Где сейчас орда? Где твои братья-угры?».
Я – кипчак, гордо заявил Ырысту.
«Хотел я тебя повесить, – сказал князь. – Повременил. Теперь ты мне сгодишься. Отвезешь письмо к своему царю. Эй! Позовите писца! Петрик!».
Вошел бледный отрок со свитком, встал к наклоненному столику, разложил на нем гусиные перья.
«Пиши! – велел князь. – Кагану угров, мордвы, пайсенаков, потомку Скифа и ветру степей… Правитель Савмата и Ладожи, хозяин леса, хранитель священных погостов, великий князь Романтяй… челом бьет! Записал? С новой строки: ежели ты, тля плешивая, отседова не уйдешь…».
Вдруг на улице прогремел взрыв. Все поспешили к слюдяному окошку, но неожиданно рассыпалась дверь, и в горницу вошел крест-накрест перевязанный пулеметными лентами мужик в тельняшке. Бритая голова на мощной верблюжьей шее формой была, как маленький конус, нечеловечески широкие плечи переходили в надутые руки, которые только отсутствием копыт отличались от ног молодого бычка. Он поднял ручной пулемет и расстрелял князя и воеводу. Отрока добил из пистолета, а колдуна задушил. Чаклун только успел просипеть: «Надо дождаться полной луны». Мужик обнял Ырысту и сказал: «Я – майор спецназа Силантий Попадуля! Прибыл за тобой. Мой звездолет стоит заведенный, пошли. Возвернемся в свой временной пояс. Давай скорее, нам лететь полтора деципарсека».
Ырысту не понял, что это за деципарсек такой.
Мужик пояснил: «Пятьсот миллиардов верст в космическом пространстве. Там сейчас находится планета, в расстоянии восьмидесяти земных лет».
Как можно расстояние измерять временем, а время расстоянием? Ырысту запутался. И проснувшись еще долго голову ломал на эту тему.
В этот день Ырысту из заключения вывел Петрик. Он не стал привязывать пленника цепью, а показал – иди, мол, за мной.
– Кто такой Курт Драйер? – спросил Ырысту.
– Одна фашистская гнида, – сказал Петрик, погладив немецкий автомат. – Такая же, как ты.
– Ну, дякую нижайше.
– Ни ма за що.
О, как, подумал Ырысту, я еще и фашист! А не украинская ли повстанческая армия три года нежно дружила с вермахтом и СС? А Красная армия – всего-то… Напраслину возводит бледнолицый!
Они ушли за деревню, где до лесной опушки расстелилось заросшее поле. С краю трава была выполота, обнажились присыпанные землей картофельные кустики.
Петрик протянул сучковатый черенок хлябающей тяпки.
– Полоть! – приказал он. – Окучить. Умеешь? – презрительно спросил, наводя на Бардина дуло шмайссера.
– Доводилось.
– Форвертс! – Петрик натянул на глаза козырек форменной кепки, в околыше которой чернела дыра – немецкого орла Петрик давно скрутил.
Ырысту принялся полоть. Сразу отметил: картошка не уродилась. Ничего, и без нее протянут. И так коньяки с шоколадом жрут. Итак, полковник будет наводить обо мне справки. Определенно есть нехилое подполье у бандеровцев. И что он узнает? Первое, он узнает о дезертире Ырысту Бардине. Это мне на руку. Второе: если у них есть свои люди, штабные работники, – допустим, есть, – полковник узнает, что дезертир имел при себе важную информацию. Но это лишь догадка особистов! Что такого у меня могло быть? Компетентные товарищи интересовались той квартиркой, где мы с Кирилловым и Жоркой… Кукушка из часов, вот что! Часы могли быть тайником? Могли. А в птичке, предположим, агенты (свои или фрицев) прятали донесения. Но кукушка была у Жорки. А если ее не нашли у Жорки, не нашли у Стефана Кириллова, логично заподозрить, что эта хрень у Бардина. Может такое быть? Как вариант. Но это сейчас несущественно. Полковник узнает, само собой пытается выяснить подробности. Вещи утрачены. Это уже сказал. Скажу еще раз. И третье – совсем непонятное. Красноармейца Бардина ищут журналисты. Тут затруднительно, даже предположить нечего. Войек сказал, что редакция газеты просит сообщить. Уловка тех же особистов? Вполне возможно. Ну, хорошо. Пан полковник решает, что Ырысту достоин доверия. Что там говорили? Привлекут к какой-то акции. Что за акция? Мост взорвать. Склад продуктовый ограбить. Шлепнуть секретаря обкома. Все что угодно! И на акции они будут следить пристально. Надо выполнить задание нормально. Без фанатизма, но, не навлекая новых подозрений. Добиться доверия, обрести свободу передвижения. В идеале – получить личное оружие. Не привлекая внимания, собрать жратвы и тогда сваливать. На все про все месяц-полтора. Потом дожди, слякоть. Потом пройдет эйфория победы, жизнь упорядочится. Накроет страну контрольный колпак. Нет, бежать надо пока еще сумятица, пока армия расходится по домам…
И грохнул выстрел! Одиночный выстрел. Ырысту вздрогнул и, не успев ничего подумать, упал на землю, перекатился. Сжал тяпку, как винтовку – это моторная память.
…запел, загудел бубен, замерцала каменно-черным гора, свистящий вихрь пролетел над речными порогами…
Выглянул из травы, увидел Петрика с автоматом. Это он стрелял.
…закрутились колокольчики, каемчатый рукав взметнулся к небу. Засекло, засверкало вокруг и страшная песня шамана…
Петрик смотрит на шмайсер и говорит: нечаянно.
…спиралью взбуровил неистовый ветер снега на алтайских вершинах. И бубен дрожит…
Петрик меняется. Петрик дряхлеет. Только пехотная летняя кепка не изменилась. Змеистые рубцы – морщины и шрамы – легли на лицо, Петрик – старик, похожий на тощего бульдога в электрическом шоке. В таком же пожилом окружении он зигует, кое-как поднимая руку. Деды в фашистской форме идут по Крещатику. Ырысту понимает, что это – Крещатик, это – Киев, впереди – тот, что чуден при тихой погоде, влево пойти, попадешь на проспект Степана Бандеры. Здесь марширует также молодежь гордая свастикой, эсэсовской формой, нацистскими знаками. Шествие, факелы, украинская речь. И машут приветственно девушки, красивые девушки с зелеными волосами, с синими локонами, с багровыми прядями, с серьгами-кольцами в ухе, в носу, на губах, на бесподобно оголенных животах. Все рады фашистскому маршу.
Гул затих, видение исчезло, Петрик снова молод и бледен, он смотрит на автомат, который его подвел. Со стороны селения показались люди. С осторожностью, перебежками в поле бежали бандеровцы, а впереди – высокая баба в пестрой косынке. Петрик закричал: мамо, я стрелял, нечаянно. Мужчины выпрямились в полный рост, а мамка Петрика, подбежав, обожгла сынка подзатыльником – звонким, словно пастух хлобыстнул по земле сыромятным бичом. Из ее причитаний Бардин понял, что это Петрика послали прополоть картоплю, а он, не будь дурак, решил воспользоваться дармовым трудом арестанта.
Бородатый бандеровец заржал, показывая пальцем на Ырысту, который лежит в траве и целится в кусты из тяпки. Ырысту угрюмо отбросил черенок. Моторная память, чего ты стебешься? Четыре года войны и ни одного ранения. Думаешь, почему? Выдержка стерха, реакция мухи.
Бардина вернули в погреб, откуда долгое время не выпускали. Кинули поганое ведро и раз в день (или в ночь?) ставили на верхнюю ступеньку кружку воды и миску баланды. Курева не давали, в разговоры не вступали, Ырысту даже не знал, кто ему приносит пищу, явно не Ракицкий, тот бы, в любом случае, пару слов сказал. Свеча иссякла, да и спичек не было. Ырысту впал в отрешенное забытье, сидел на столе, поджав ноги, и созерцал темноту. Ни видений, ни снов значительных не было явлено, только мерещился несколько раз факельный марш в бывшем советском Киеве.
Одиночество и темнота. Так продолжалось тысячу лет. А может, неделю. Сложно сказать. Европеец – немец или русский – давно с ума бы сошел. Однажды он слышал дождь. По стенам погреба сочилась безвкусная вода. А после Ырысту позвали. Он вылез наружу с ведром в руке. Толстый бандеровец все-таки натянул маскировочный костюм. Подыши, предложил пухляш. Ырысту подышал. Под пасмурным небом – бабушка на коленях перед лункой. Один ее цветок был сломан. Она поднимала стебель прямо, он падал, она поднимала. Так повторялось снова и снова.
– Где Загорский? – спросил Ырысту.
Толстяк промолчал, сорвал с ветки горсть незрелых яблочек и бросил их в рот.
– А как его зовут? Я даже имя не знаю.
Бандеровец подвигал челюстью, выплюнул яблочную массу и сказал, нехотя:
– Михась.
– Михаил, значит. А тебя?
Толстяк не ответил и крикнул бабушке, что встань-ка, дурная-старая, сломан цветок, не оживишь. Старушка подняла голову, по щекам ее текли серые слезы. Бандеровец разозлился и загнал Бардина обратно в погреб.
Снова темнота и одиночество. Но теперь Ырысту не впал в оцепенение. Он громко произнес: «Сижу под землею в темнице сырой вскормленный на воле, уж не молодой». Водрузил скамейку на стол, освобождая место, где принял упор лежа, стал отжиматься.
Отжимания, приседания, перерыв, во время которого Ырысту вслух читал стихи, все которые мог вспомнить. Забытые строчки восполнял по своему усмотрению.
Я вам не старик, не сумасшедший, мы еще повоюем. Что там будет в полнолуние? Или поверят, или повесят. Какая-то определенность. Только, сидя, в подземелье не поймешь где день, где ночь.
День, ночь, день, ночь, скрип засова, ковшик, глоток воды, пятьдесят отжиманий, победа фашистов в следующем веке, телефон без провода, общество потребителей, пятьдесят приседаний, и днем и ночью кот тупой все ходит по цепи златой. А Жорка? Жорка упокоился в мире мертвых, бесплотным облачком застрял в ветвях священного дерева Байтерек. Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не еврей. Ветви – небо, корни – подземный мир, равновесие между мирами нарушено, только Алтай еще держит…
– Живый? – голос того бородатого, чьи глаза выдают больную печень. Сколько времени прошло? Где Ракицкий?
– Вилазий!
Кто такой Вилазий? Римский император, сын Мудясия, победитель при Карфадури.
– Эй! Выходь!
Никакого покоя, шляются всякие, подумать не дают.
Поднялся по лестнице. Терапевтическая доза свободы с запахом навоза. Ржание коней, дымчатый дождь. Бородатый привел Ырысту к полковнику, сам остался снаружи. Ырысту вошел в горницу, пан полковник сидит на подлокотнике кресла. На нем кольчуга и плащ. В углу стоит наказанный двуручный меч…
Сон?