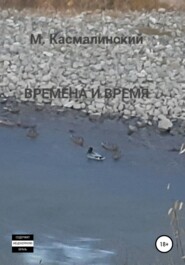По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь с войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Нажралась чего-то, – озабочено вздохнул бородатый. – Лекарство бы.
– Может ветеринара вызвать? – сыронизировал Ракицкий.
– Вылечить бы. Жалко колоть.
– Жалко колоть, да хлопцам мясо тоже нужно хавать, – сказал полковник.
Голый Ырысту стоял и слушал этот странный разговор. Потом он догадается, что это тоже тактика допроса, но сейчас было тяжко. Одной рукой почесал затылок, вторую не отпуская от паха.
– Скоро картопля пойдет, – мечтательно сказал Ракицкий. – Молодая с укропом, с простоквашей холодной. Не еда, а песня.
– А картопляники? З вершками, – вспомнил бородатый, плеснул себе самогона. – За победу! – провозгласил он, с почтением поднял кружку в сторону пана полковника, выдохнул и выпил.
– Плесни мне тоже, – приказным тоном сказал полковник. – Нет, не этого. В шкапчике коньяк. Бесподобное пойло, подарок штурмбанфюрера. Он, наливай. Тильки не в кружку. Стакан там есть. За победу. Слава Украине!
– Героям слава! – отозвался Ракицкий. Бородатый с опозданием тоже повторил лозунг.
Полковник блаженно почмокал и с удовольствием закурил. Бардин завороженно смотрел на огонек папиросы.
– У Бадона в схроне, – сказал полковник. – Целая коробка шоколада. Надо бы забрать на обратном пути. И, как вариант, Бардина Ырыста к акции привлечь. Як мыслити?
– Под присмотром, – предложил Ракицкий.
– А лучше расстрелять его, – сказал борода, посмотрев на Ырысту циррозными глазами цвета облепихи. – Береженого Бог бережет.
– Тогда уж повесить, – сказал полковник. – Торжественно повесить и устроить гуляние.
– Скоро как раз Иванов день, – сказал бородатый.
– А как насчет того, что враг нашего врага, есть друг? – поразмыслил вслух Ракицкий.
Ырысту понемногу приходил в себя, осваивался со своей наготой. Хотели бы повесить, уже повесили бы.
– Дайте докурить, – тихо сказал он.
Пан полковник пару раз глубоко затянулся и затушил папиросу в пустой спичечный коробок.
– А мне сдается, он – комиссар. Что-то в нем такое… отвратительно коммунистическое.
– Говорит, он против советской власти, – сказал Ракицкий.
– Говорить можно, что угодно, – поморщился полковник. – Если против, как же тогда умудрился столько советских наград заработать? А где они? – пан полковник резко обратился к Ырысту. – Где ордена? Где вещи твои?
Вещи в мешочке, мешочек на ветке, подумал Бардин.
– Выбросил. Закопал, – почти не соврал, одну медаль он, правда, сунул в землю еще в Германии. – Меня земляки не поймут с такими побрякушками. Я ему говорил, – Ырысту кивнул на Ракицкого. – Больше половины друзей и родни репрессированы.
– Репрессированы, – передразнил пан полковник. – Слова какие знаешь! А почему дурочку ломал в первый день, что ни бэ, ни мэ на москальском говоре.
– От волнения, – сказал Ырысту. – Пан пулковник! Який из мене развидик? Вы сами подумайте. Кто бы мне доверил важное? Ну, вы в меня вглядитесь! Я, что похож на хлопца, которому командир можно секретное поручить? На передний край слазить, это да. В бой нас гнали бодро. А всякие хитроумия, то не ко мне.
Ракицкий подошел и сунул тлеющую цигарку в зубы Ырысту.
– Кури без рук, только ротом, – строго сказал он. – Я твои причиндалы видеть без слез не могу.
– Это от волнения, – не разжимая губ, промычал Ырысту.
А Ракицкий, стоя спиной к полковнику, вдруг улыбнулся одними глазами и ободряюще подмигнул.
– Из Сибири, значит. Алтай. Слыхал. – сказал полковник, забросил ногу на ногу. – И твой народ… Большой народ?
Ырысту докурил, шагнул к столу, чтобы затушить окурок.
– Там стой, – рявкнул Ракицкий и сам забрал цигарку.
– Народ мой малочисленный. Про нас писали, – вспомнил Бардин. – Типа, симпатии алтайцев склоняются к Пекину и Токио, а не к Москве и Петербургу. Херню писали, надо сказать.
– И что маленький народ и все – шпионы? – спросил полковник.
– Нет, почему? Еще вредители есть. А в глуши – единоличники. Сидят на горных лугах, баранов пасут, а потом баранов едят. Не отдавая ни кусочка государству. Страшные люди. Враги.
– А зачем вы воюете за это государство?
– А я, пан полковник, извольте видеть, не воюю. Я хочу, чтоб меня оставили в покое. Да так складывается, что те, кто хочет жить спокойно и своим делом заниматься, оказываются предателями и дезертирами. В этом у нас эзотерические разногласия с Советской властью.
Как-то так, подумал Ырысту, надо еще повстанческой армии польстить, сказать, что я преданный поклонник Степана Бандеры. И побольше украинских словечек.
Но разговор уже был закончен. Полковник сказал устало: «Будем проверять» и велел отвести Ырысту обратно в погреб.
– А баня как же? – неуверенно напомнил Ырысту.
Пан полковник удивился такой наглости.
– Может тебе еще и бабу привести? Бабу хочешь?
Ырысту съежился.
– Чего ты зажался? Что встал? Ха-ха-ха. Привстал! Нет, вы посмотрите на него. Зверек!
Нельзя тебе в баню сейчас, сказал Ракицкий, сопровождающий Бардина в темницу. После бани в холод – заболеешь. В другой раз.
Ырысту прижимал между ног ворох своей одежды, оттого шел неуклюже, как сытый индюк. В небе тускло проступил серп растущей луны.
В погреб Ракицкий бросил два теплых тулупа, дал Ырысту щепотку махорки, листик газеты, спички, огарок свечи.
– Экономь, – предупредил он.
Ырысту устроился на лавке, зажег огонь. Хотел почитать обрывок газеты, а она на немецком. И еще на немецком! Он заметил тонкие буквы, нацарапанные с краю стола: «Kurt Drajer Morgen Ich sterbe».