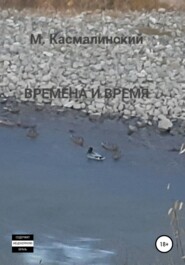По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Путь с войны
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Сольки бы, – жалобно сказал бородатый.
– Мгм, – согласно промычал кудрявый и тряхнул рыжеволосой головой.
Характерно так тряхнул. Это Бардин уже видел. Да и весь облик его… Но этот жест! Тут чедырген-искорка блеснула яркой стрелкой, и догадка озарила Ырысту. Вот на кого он похож! Это когда было то? До войны, незадолго, в сороковом. Точно!
Ырысту с хрипотцой произнес, подражая тому человеку:
– Усе можливо деля А-андрия Ракицького!
Кудрявый вздрогнул, замер с открытым ртом. Повернулся, с отпавшей челюстью воззрился на пленника.
– Сын? – спросил Ырысту.
Кучерявый опять мотнул головой.
– Племянник.
– Похож. Очень. Я с утра голову ломаю.
А толстяк начал быстро говорить, из его речитатива Ырысту через пень-колоду понял, что пузатый утвердился в своей убежденности о внедрении Бардина к повстанцам, потому что он, вишь, в курсе биографии и родственных связей, а это могут предоставить лишь в НКВД.
Кудрявый отмахнулся. Пересел к Ырысту поближе.
– Как? Ты знал дядю Андрия? – задал вопрос Ракицкий.
Конечно, он – Ракицкий, если племянник. И как сразу не догадался!?
– Знал? Почему? Знаю.
– Он жив?
– Живее нас с тобой, – Ырысту поддел с гимнастерки хлебную крошку, прилепил ее на язык.
– В бубен ёбнуть? – деликатно спросил Ракицкий.
– Я не сильно его знаю, Андрия-то. Пьянствовали два дня. Но на пьянке сдружились как-то. Он так головой брыкнет и хрипит: «Можливо усе деля Ракицького!». Я помню. Так не «для Андрия», а «деля». Нет: «де-эля!».
– Где это было?
– В одном селе, я туда к другу на свадьбу ездил. Село в Кулундинской степи, это запад Алтайского края. А может уже Казахстан, я в ихних границах не разбираюсь.
– На свадьбе познакомились с дядей?
– Ага, на свадьбе. Загуля-али-и, ух!
Вклинился пузатый, он недоверчиво прислушивался к разговору, сказал, что не может такого быть, чтобы спецпереселенец и враг приглашался на чью-то свадьбу, а значит Андрия Ракицкого казнили, значит – Ырысту лжет, он – большевистский шпион.
– Съезди, узнай, – равнодушно сказал Ырысту. – Название села не помню, помню, что смешное. Друга моего спроси, они корешатся с Ракицким. Друга фамилия Урбах.
– Немец?
– Точно, немец.
– И ты говоришь, – задумчиво сказал Ракицкий. – Что в какой-то степи…
– В Кулундинской.
– В степи, непонятно какой, есть село, где во время войны немец играет свадьбу, а на эту свадьбу он приглашает депортированного галичанина?
– Сибирь, – пожал плечами Бардин.
Кудрявый поразмыслил. Толстяк опять полез со своими выводами, Ракицкий отмахнулся от него, сказал Ырысту:
– Я верю, – он обрадовался до невозможности. – Я верю, конечно! Дядя Андрий живой! Это же… А жинка? Марика? Она?
Ырысту наморщил лоб, вспоминая:
– Сидела с ним рядом. Такая бровастая. Стопки отбирала.
– Черянвая-пречернявая?
– Не, седая. Совсем седая.
Ракицкий буквально на миг загрустил и снова расцвел.
– Мы их схоронили заочно, а они живые оказывается. И как? Что? Где там и что происходит?
– А что происходит? – невесело усмехнулся Бардин. – Все, как везде происходит. Эшелон из Галиции остановился. Доставленных бросили в степь. Это осень тридцать девятого. Голая пустошь, немецкий поселок далече, с другой стороны железной дороги. Немцы там поселились двести, может быть, лет тому. А ваши депортированные…мерзлая картошка в земле оставалась, самая мелкая. Крапиву варили и лебеду. Пыль с колосков. Многие померли. Землянки вырыли, перезимовали с грехом пополам. Весной обживались: огороды разбили, избы построили. Потихоньку. Работать ваши умеют, к лету уже кое-какая скотина завелась. Опять многие померли, но в следующую зиму было уже попроще. Что хорошо: власть туда особо не суется. Да и кто там власть? Такие же ссыльные или их потомки. Еще казахи и татары, но этим все до манды. Они партийными притворяются, а сами ходят к мулле. Намазы, халаты, обряды, многоженство у них, как и было всегда, и закон на это не писан. А в немецкое село и украинскую деревеньку часто никто не ездит. Так что живут-выживают, ведь официально их как бы и нет.
– А Андрий? – требовательно поторопил Ракицкий.
– Крепкий хозяин. И, кстати, на водку крепкий. Уважаемый человек. Семью кормит. Сначала трудно было, говорит, потом приспособились. Присто-со-вувался, так? Он в одном степном хозяйстве подряжался овец пасти, потом дорос до коров. А когда коров пасешь, можно и молочка втихаря сдоить для детей.
– Так не было у них детей, – удивился Ракицкий.
– Взяли. Я ж говорю: многие померли. Дети остались, твой дядька взял.
– Чужих усыновил? – уточнил Ракицкий.
– Как усыновил? Взял. Да и какие они чужие, если подумать? Двое ребятишек.
– Благостную весть ты мне принес, – с пафосом сказал Ракицкий. – Это радость большая, отцу сообщу… Спасибо тебе.
– Спасибо, как говорится, на хлеб не намажешь. Мне еще бы пожрать. Дальше пойдем?
– Да ни. Здесь заночуем, утром пойдем, – сказал Ракицкий, ставя перед Ырысту котелок с торчащей из каши ложкой. – Тебя вязать? Или не сбежишь?
Смысл бежать? Ырысту подъел остатки каши, попутно рассказывая Ракицкому о жизни его дяди в далекой Сибири, все, что мог вспомнить, а лакуны в повествовании заполнял историями других людей – судьбы ссыльных до крайности похожи.