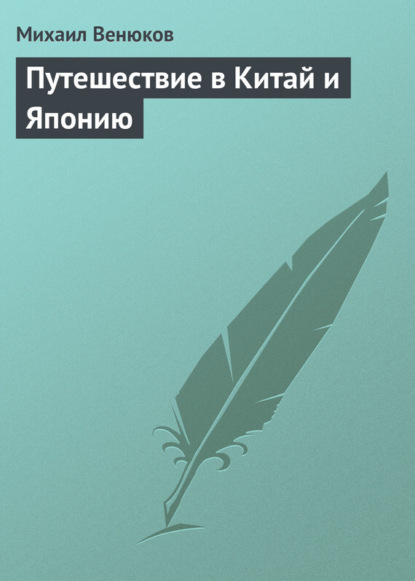По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Путешествие в Китай и Японию
Автор
Год написания книги
1896
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Мы провели в Сингапуре уставные сутки, побывали везде, где обыкновенно бывают туристы, то есть в ботаническом саду, в китайских лавках, в европейской гостинице и пр., и, наконец, отправились далее, сделав запас мангустанов – этого «райского» плода, который по вкусу, конечно, превосходит все другие произведения растительного царства и, к сожалению, растет только в самом соседстве экватора. Ни одна европейская теплица, ни один ботанический сад умеренного пояса не воспитывает мангустанов, да и в самом жарком поясе их можно найти только на полуострове Малакке и соседних Зондских островах. Даже на Цейлоне (7° широты) их нет.
Разумеется, после сингапурской остановки последовала обычная перемена нескольких пассажиров, то есть одни съехали с парохода, другие прибыли на него. В числе последних был один богатый китаец, откупивший для себя одного целую каюту в первом классе, впрочем, только до Сайгона, что не особенно дорого. Высокий ростом, довольно тучный, с большими, наблюдательными глазами, щегольски одетый во все белое, не только надушенный парижскими ароматами, но и умытый парижским мылом, с огромным бриллиантом на перстне, он немедленно обратил на себя внимание всех, тем более что порядочно говорил по-французски.
– Кто это такой?
– А это откупщик опиума в Сайгоне. Французское правительство, соблазняясь тем, какой доход извлекают англичане из продажи ост-индского опиума в Китай, развело и у себя, в Кохинхине, опиумные плантации. Китаец – оптовый скупщик этого опиума, нечто вроде бомбейского Сасуна[37 - Сасун – арабский еврей, наживший огромное состояние на торговле опиумом.], и, разумеется, очень богат. Одной пошлины с вывозимого им товара поступает в сайгонскую таможню около двух миллионов франков.
– Браво! Вот так гуманизм, на этот раз уже католический и тем более гнусный, что в Европе французы постоянно укоряют англичан за отравление опиумом китайцев!.. Где капитан S.?
Господин S. на палубе, тоже интересуется китайским откупщиком и готов бы порицать и его, и свое правительство; но position oblige[38 - Position oblige (французск.) – «положение обязывает».]. Он ведь только что назначен временным начальником французской эскадры в японских и китайских водах и, следовательно, при случае должен будет своими пушками служить интересам откупщика-отравителя. Но как он прежде не раз выражал мне свое негодование на торговлю опиумом, то я без церемонии спрашиваю его: что думает он о данном случае?
– Видите ли, – отвечает он, сильно сконфуженный, – в первые годы утверждения нашего в Кохинхине[39 - Кохинхина – часть Индокитая.] доходы колоний были так малы, что правительство склонилось на представление губернатора: допустить разведение мака в этой стране, запретив, впрочем, продавать опиум дома, а только на вывоз, для чего и отдало последний в руки монополиста, ответственного за соблюдение условия. Потом уже трудно было разрушить раз установленное…
– В особенности, когда оно дает два миллиона в казну, – замечает какой-то немец из Франкфурта или Гамбурга, уже не раз попрекавший французов захватом не только Кохинхины, но даже Эльзаса…
Я заминаю беседу, очевидно готовую перейти в колкости и неприятную для будущего французского адмирала. Ведь грубый немец мог бы этак добраться и до грабежа французами дворца Юань Мин-юань[40 - Юань Мин-юань – дворец около Пекина, разграбленный и сожженный англо-французами во время грабительского похода на столицу Китая.], доставившего столько интересных вещиц не только капитану S., несколько непоследовательному, подвижному в своих убеждениях, но и всегда верной себе благочестивой императрице Евгении[41 - Евгения – жена французского императора Наполеона III.].
В Сайгоне монополиста-китайца встретили с почетом его друзья, не только из «небесных», то есть из его соплеменников, но и из простых смертных в европейских костюмах. Видно, что он – особа. Да, ему принадлежит и самый огромный дом в городе, отчасти занимаемый полицейскою префектурою. Эта префектура, монастырь, губернаторский дом и жандармская казарма составляли в 1869 году, так сказать, редуты[42 - Редут – укрепление с обороной на все стороны.] европейской цивилизации, введенной французами в Сайгоне и вообще в Кохинхине. Думаю, что главным образом благодаря им Сайгон и напоминал собою отчасти наши Варнавин и Аягуз, где прогуливающийся по улицам приезжий думает среди белого дня: верно, жители все ушли на покос или спят после обеда. Деятельный, торговый элемент населения, китайцы поселились в стороне, верст за семь, в посаде Шо-лоне, где мы наблюдали их муравейник; а в самой столице французской Кохинхины оставались несколько тысяч аннамитов в соломенных хижинах да с десяток французских авантюристов, содержавших два-три кафе, плохую лавку со всяким гнильем, цирюльню для бритья местных чиновников и офицеров и кабак для матросов. Были еще в городе солдаты, жившие в каких-то сараях вместо казарм, моряки, для которых стояли на реке несколько полурасснащенных парусных судов, таможенные досмотрщики, крейсировавшие на паровых катерах, и жандармы, важно измерявшие каждого встречного с целью решить вопрос: следует или не следует схватить его за шиворот и представить начальству? Более ничего не было… Какая разница с великолепным Гонконгом, который, однако же, построен на голом, скалистом острове, а не среди плодороднейшей в мире равнины!
Я старался узнать, что сделано французами для умственного развития сравнительно, впрочем, образованных аннамитов, для их сближения с европейцами; но оказалось, что очень немного. Во-первых, губернатор предписал им (это я сам читал в местной официальной газете) строить дома по планам и не иначе, как с разрешения начальства, как у нас было при Николае Павловиче[43 - Николай Павлович – царь Николай I.] по городам; во-вторых, для них заведены были две-три школы, где обучали католическому катехизису и истории Меровингов[44 - Меровинги – франкская королевская династия (середина V века – середина VIII века).]… Одна, впрочем, назначалась для приготовления переводчиков, необходимых французским администраторам из морских офицеров и родственников бюрократии Министерства колоний в Париже; но она плохо преуспевала. И завоеватели сердились, что трудно «цивилизовать» аннамитов, которые-де заражены конфуцианством и предпочитают китайскую грамотность европейской. Полицейская жилка французов также трепетала от негодования, когда аннамиты, во избежание подушных налогов, целыми сотнями записывались в реестры населения под одним именем, которое притом для них ничего не значит, ибо они меняют его раз пять в жизни: при замене молочных зубов настоящими, при достижении половой зрелости, при женитьбе, при назначении на какую-нибудь должность и пр. Французские офицеры и чиновники откровенно сознавались, что, выведи сегодня правительство из Сайгона войска, завтра от французского господства не останется и следа или, пожалуй, одни насмешки.
А поводов к последним немало. Я уже не говорю о Меровингах и катехизисе, преподаваемом последователям Конфуция; это – дело, над которым потешаются и сами французы, не монахи и не патеры. А вот, например, администрация и торговля – занятия серьезные, и которые европейские цивилизаторы не прочь бы монополизировать, чтобы показать азиатам, как их нужно вести. Случилось раз, что китайцы из Шо-лона вывезли с сайгонского рынка весь свободный рис, и адмиралу-губернатору стало нечем кормить солдат и матросов. Как тут быть? В странах, управляемых не бюрократически, дело было бы устроено просто: собрался бы местный правительственный совет, разыскал бы соседний рынок, где есть в продаже рис, и послал бы туда покупщиков с теми самыми деньгами, которые назначались на продовольствие солдат. Легко могло бы при этом случиться, что покупка риса обошлась бы дешевле сметных цен, и тогда администрация торжествовала бы. Но не то бывает и было при французских колониальных порядках. Губернатор-адмирал телеграфировал морскому министру в Париж, что-де «грозит голод солдатам, нужны покупки рису». Министр, долго не думая, то есть спеша удовлетворить телеграфное требование подчиненного, послал телеграмму же в Гавр: «Закупить целый корабельный груз рису и немедленно отправить в Сайгон». Сказано – сделано; деньги заплачены огромные, и через два месяца рис, слегка подмоченный и прогорклый, прибыл в Сайгон. Оказалось при этом, что он воротился на родину, и между туземцами смех был всеобщим… Я тоже улыбнулся этому рассказу, но при этом не мог не вспомнить, что и у нас население южной части Приморской области долго кормилось мукой, доставляемой контрагентом морского ведомства Паллизеном, который привозил ее из Кронштадта. И, в то же время, адмиралы-губернаторы во Владивостоке жаловались, что хлебопашество в русских южноуссурийских колониях не развивалось, ибо колонисты не видели, куда им сбывать свой хлеб. Нужно было, чтобы в край прибыл, из-за 4 000 верст, генерал-губернатор, который, наконец, разрешил покупать для солдат и матросов во Владивостоке хлеб у соседних русских земледельцев в долине Суйфуна.
На пути из Сайгона в Гонконг проливные дожди сопровождали нас почти всю дорогу, причем замечу, что хотя начало каждого сопровождалось небольшим порывом ветра, но самое падение капель совершалось по отвесным линиям, то есть при полной тишине воздуха. Нередко дождь переставал, но солнца мы не видали за сплошной массой облаков. На поверхности моря мы не раз замечали широкие полосы плавучих водорослей или чего-то вроде желатина, слизи – «протоплазмы», как шутя говорил один спутник, голландец Герст, не совсем веривший в нахождение последнего вещества в природе. По этому поводу у меня с ним завязалось довольно тесное знакомство, которое поддерживалось и впоследствии, в Нагасаки, где он был врачом при японской больнице и вместе наставником юношества по математике и химии. Как кровный голландец, он любил науку, но любил и металлы, притом не столько тунгстеп[45 - Тунгстеп – вольфрам.], молибден и стронций, сколько золото и серебро, принадлежащие к иной химической группе. Впоследствии он написал любопытную книгу о Японии; но, вероятно, полюбил эту страну не с одной химической точки зрения, а и с экономической, потому что услуги его ценились там хорошо. Должно было привлекать его к этой стране и другое обстоятельство: для скорейшего изучения японского языка он, немедленно по прибытии в Нагасаки, завел учительницу, довольно красивую мусме[46 - Мусме (японск.) – девушка.], которую нанял сначала на год, но которая, вероятно, удерживала его при себе и потом. Таковы уж обычаи европейцев в стране восходящего солнца, не лишенные интереса и в антропологическом смысле, ибо они создали среди сплошь черноглазых и черноволосых японцев новую расу, рыжеватую, иногда почти совсем белокурую.
Между Сайгоном и Гонконгом мы встретили пароход «Тигр», принадлежащий той же компании «Des Messageries Francaises». Произошел обмен каких-то сигналов, и через несколько минут капитан «Камбоджи» сообщил мне, что на «Тигре» отправляется в Европу русский посланник в Китае, Влангали. Это известие напомнило мне родину и заставило болезненно сжаться сердце. Я рассчитывал на генерала Влангали как на единственное лицо на крайнем Востоке, которое могло мне покровительствовать в моих работах; он ведь был ставленником и даже другом Е. П. Ковалевского и слыл за человека хорошего, не теснившего соотечественников, как это делают все русские дипломаты за границею, а помогавшего им по мере возможности. И его положение в Пекине как старшины европейского дипломатического корпуса, очень уважаемого как европейцами, так и китайцами, обеспечивало мне возможность увидеть и узнать многое, что непременно должно было ускользнуть от меня при других условиях. И кто-то его заменил? И надолго ли? У нас всякая soi-disant[47 - Soi-disant (французск.) – так сказать.] самостоятельная деятельность, то есть не простая переписка бумаг, так зависима в действительности от произвола и вкуса ближайшей по месту власти, что будь семи пядей во лбу – ничего не сделаешь, если эта власть вздумает противодействовать, особенно исподтишка, дипломатически или по-штабному, то есть с улыбкою на устах и с фразами сочувствия на языке…
С самого почти Сайгона мы следовали на северо-восток, сначала в виду берегов Индокитая, и раз ночью увидели город с довольно ярким уличным освещением. Это, конечно, был Биньтуань, и мы сначала были удивлены такою вовсе не азиатскою роскошью, как множество уличных фонарей, которые одни могли производить виденный нами отблеск освещения в воздухе; но оказалось, что это были огни рыбаков, которые во множестве плавали по бухте и в устьях реки, ловя рыбу в тихой воде острогами, так как рыба шла на огонь. Через сутки после этого мы различили на севере, в тумане, остров Хайнань. Это уже передовой пост Китая, а стало быть, недалеко начало моей деятельности – не книжной, которой я предавался в Петербурге и во все время плавания, а наблюдательной и разыскивающей действительность. Видя по карте, что мы идем скорее, чем можно было ожидать по расписанию движения, я спросил капитана, когда мы будем в Гонконге. Он отвечал, что часами двадцатью раньше, чем следовало бы, потому что находившийся у нас на пароходе временный начальник французской эскадры в китайско-японских водах пожелал сделать из Гонконга поездку в Кантон, чтобы посмотреть, в каком виде находится там европейская колония после войны 1857–1860 годов, во время которой Кантон был, правда, взят и разграблен союзниками, но от которой досталось и европейским факториям. Для такой поездки нужно на местном пароходе около тридцати часов времени, а если осматривать город, то и больше; но так как мы должны были простоять в Гонконге по расписанию сутки и имели еще двадцать часов, выигранных на переходе от Сайгона, то нечего было опасаться опоздать возвращением на «Камбоджу». Я немедленно условился с начальником французской эскадры ехать вместе, что было тем выгоднее для меня, что почтенный капитан S. бывал уже в Кантоне в 1857 году, при разгроме его, и мог мне дать самые обстоятельные сведения о его укреплениях и о порядке овладения им. С его стороны любезность простерлась так далеко, что он предложил мне дать из французского консульства (или духовной миссии, не помню уж теперь) проводника по Кантону, знающего французский язык. Этого мне потом никогда не удавалось получить ни от русских консулов, ни от русского поверенного по делам, несмотря на данные им свыше предписания о всяческом содействии мне! А консул в Тяньцзине, Скачков (старый знакомый по Западной Сибири), отказал мне даже в такой простой вещи, как содействие к осмотру строившегося там порохового завода, и я получил это содействие от американского представителя Медоуса, вместе с двумя янками.
II
Мы прибыли в Гонконг довольно рано поутру и через полчаса уже плыли на высоком, американской системы пароходе по направлению к Bocca-Tigris[48 - Bocca-Tigris (французск.) – «Пасть тигра», укрепления на Жемчужной реке.], то есть к устью Кантонской реки. Было время, когда эта «Тигровая пасть» была очень страшна, потому что с обеих сторон была обставлена пушками, на которых, положим, литейщиками-иезуитами нередко вычеканивалась по-латыни христолюбивая надпись: «Иисус – спаситель мира», но которые могли не пожалеть даже самых преданных последователей христианства. С 1860 года эта опасность уничтожилась: англичане обязали китайцев не восстанавливать батарей, разрушенных союзниками в 1857 году. Итак, Кантон ныне открыт для нападений с моря, если только китайцы не вздумают накласть в русло реки и многочисленных ее рукавов подводных мин. Мы миновали сначала архипелаг мелких, но высоких островов, рассеянных по морю перед дельтою Кантонской реки и на картах редко отличаемых от низменных островов, образующих самую дельту; потом прошли в Восса-Tigris, достигли Вампу и, повернув на запад, подошли к самому Кантону и лежащей около него, на острове, «европейской концессии», или кварталу, населенному европейцами и американцами. Число их в это время было уже невелико, потому что крупные негоцианты предпочитали жить в Гонконге, а в Кантоне водворены были приказчики да миссионеры. Так как временем нужно было дорожить, то я немедленно взял рекомендованного проводника, паланкин с носильщиками и отправился в путь. Соображая, что в эту пору года (июнь) день в Кантоне оканчивается в семь часов, я надеялся увидеть значительную часть города и коснуться северной и восточной части его стены, которую штурмовали англо-французы. И ожидания мои не только оправдались, но были превзойдены. Долговязые и хотя худощавые, но мускулистые носильщики ходили крупной рысью, так что, измерив потом по плану пройденное ими расстояние, я убедился, что они делали около семи верст в час. Остановки были самые кратковременные: только чтобы дать проводнику время указать предмет, заслуживавший внимание, а мне – взглянуть на него снаружи и очень редко внутри, лишь бы убедиться, что имевшееся у меня описание из «Treaty Ports»[49 - «Treaty Ports» (английск.) – «договорные порты».] соответствует современности. Я вообще должен сказать, что эта превосходная книга да еще «Путешествие» Девэ, сделанное лишь за три-четыре года до меня, были мне преполезными пособиями, только, к сожалению, не по моей специальности, то есть военной части. Для последней все приходилось добывать личным трудом, за что, впрочем, я и благодарен судьбе, потому что, вследствие этих личных обзоров, я приобрел большой навык в короткое время узнавать многое, да не только узнавать, а и запоминать раз навсегда[50 - Способность эта, впрочем, была у меня всегда, и я доселе хорошо помню подробности местностей, виденных мною на Амуре, в Небесных горах, на Кавказе, в Польше, в Швейцарии и пр.; но с физиологической точки зрения любопытно, что, помня хорошо виденные предметы, я часто забывал и забываю название их и вообще собственные имена. То же и относительно книг: помню их содержание, объем, характер печати, но забываю заглавия и имена авторов.]. Для Кантона у меня был еще ментором капитан S., который хотя и не сопровождал меня во время осмотра, но объяснил потом все, что могло интересовать меня с военной точки зрения. Оттого мое описание этого города вышло довольно объемистым и составило мой первый отчет в Главный штаб. Отчет этот, правда, не был никогда обнародован, но я его видел, по возвращении моем с Востока, в канцелярии военно-ученого комитета; только куда он, да и многие другие донесения мои девались потом – не знаю. Чиновник Барун, заведовавший этой канцелярией, тоже объяснить мне этого не мог… или не хотел. Быть может, об этом когда-нибудь и что-нибудь скажут генералы Обручев и Фельдман. Полковник же Гельмерсен, я знаю, читал мои донесения и, письмом в Шанхай, предлагал мне даже немедленно печатать их в «Русском инвалиде» и «Военном сборнике», с уплатою гонорара; но предложение это вовсе не было осуществлено до самого моего возвращения в Петербург, когда некоторые из моих рукописей я уже сам передал редактору, генералу Менькову, да и то списав их с черновых, у меня сохранившихся, а не с беловых, штабных.
Кантон некогда был богатейшим городом Китайской империи. Об этом свидетельствуют Стаунтон и все другие путешественники XVIII и первой половины XIX столетий. В 1869 году это было уже не так. Открытие европейцами, по Нанкинскому миру 1842 года[51 - Нанкинский договор – первый неравноправный, грабительский договор, навязанный Англией Китаю, он положил начало закабалению Китая капиталистическими странами.], Шанхая и других северных портов нанесло первый и очень сильный удар столице двух Куанов[52 - Столица двух Куанов, то есть двух провинций – Гуандун и Гуанси.], а война 1856–1860 годов довершила ее падение. За кантонцами осталась слава первостепенных торгашей и ремесленников; но достатки их сильно уменьшились с уничтожением монополии на внешнюю торговлю. Особенно же вредит Кантону соседство Гонконга: там, на почве «свободного обмена», цветет контрабанда, рядом с которой никакая правильная, то есть легальная, торговля невозможна. А тут еще пиратство в устьях Кантонской реки, откровенно поддерживаемое англичанами из того же Гонконга. Это пиратство нисколько не опасно для больших английских пароходов, посещающих Кантон; но оно очень опасно для китайских джонок, которые не могут бороться с разбойниками, всегда хорошо вооруженными винтовками и даже пушками, купленными в том же Гонконге. (Кажется, что оно не совсем исчезло и теперь, когда центр его, Тонкин, стал французским владением.)
В Кантоне мне впервые удалось видеть образец плавучего города. Хотя я знал о его существовании еще со школьной скамьи, но не имел верного понятия о его наружности, считая самое название города метафорою. Между тем в действительности это настоящий город, вроде Венеции, только без домов и площадей на сваях, а исключительно из лодок, стоящих почти плотно одна к другой. Есть улицы и кварталы, есть своя полиция, свое право собственности не только на лодку со всем, что она содержит, но и на известное место на реке. Китайцы на своих лодках держат и живность, особенно уток и кур, яйца которых частью едят, частью употребляют на вывод цыплят. Да они и своих детей родят и воспитывают там же, из поколения в поколение.
По возвращении в Гонконг мы увидели, что впереди у нас остается еще несколько часов времени, и потому, естественно, отправились в город, на этот раз многочисленным обществом. Нам советовали даже и не разделяться на мелкие кучки, а тем более не ходить в одиночку, по крайней мере в китайской части города, то есть на девяти десятых его протяжения. Китайские «дельцы», населяющие Гонконг, знамениты своими воровскими и даже разбойничьими проделками. Одинокого европейца, если он не вооружен порядочно, они останавливают среди белого дня на улице, бросают ему в глаза табаку, обирают и потом скрываются. Никто из соседних лавочников в свидетели грабежа не пойдет; напротив, все будут утверждать, что никакого подобного события не было на их улице. Мало того, иногда они завяжут ограбленному глаза и рот, выведут его за город, да и бросят где-нибудь в стороне от дороги: ищите, мол, разбойников где хотите. Даже в самом Гонконге, то есть в европейской части города, они сумели обокрасть банк, проведя издали, в каменистом грунте, подземный ход в кладовую и вытаскав по нему огромные суммы в серебре, то есть металле довольно громоздком и тяжелом. Для производства последней операции они воспользовались воскресеньем, когда все английские банки и конторы бывают заперты и совершенно пусты. Были ли участниками в этом монументальном воровстве китайские компрадоры, то есть счетчики банка, никогда не было дознано. Англичане знают китайцев хорошо и соответственно тому обходятся с ними. Как только смеркалось, ни один китаец не смеет показаться на улице без фонаря и без билета от полиции; а последний выдается только домохозяевам и ими может быть передаваем на время лишь жильцам их домов в случае крайней надобности, например, для выхода за лекарством или врачом. На городской пристани, где все лодочники – китайцы, полиция, в предупреждение воровства с их стороны, приказывает им держаться на их лодках в нескольких шагах от берега и только тогда дозволяет коснуться последнего, когда торг с нанимателем сампана (лодки) кончен в присутствии полицейского агента, а принесенные нанимателем вещи сложены у самого места нагрузки, откуда носильщики немедленно прогоняются… При таком порядке вещей естественно возникает вопрос: зачем же англичане позволяют жить китайцам в Гонконге, и притом в огромном числе – 115 000 душ на 2 500 европейцев? А это уже коммерческий расчет! Помощью этих-то «небесных» (celestials) негодяев[53 - Презрительная кличка, данная китайцам англо-французскими захватчиками.] совершается большая часть нечистых дел, которыми обогащаются английские купцы-князья, дворцы которых составляют европейский квартал города и которых именитейшие представители заседают уже в британском парламенте. Гонконг, как и Сингапур, есть один из важнейших мировых центров контрабанды и даже пиратства, а местные китайцы суть главные агенты по производству этих благородных промыслов, во славу of the christian civilisation. Только бы эти китайцы не делали мерзостей британскому населению города, а там пусть творят что хотят! Если же некоторые из них по неловкости попадутся, так что скрыть дела будет нельзя, то можно немедленно повесить их десяток-другой: перед этим здесь, как и в голландских колониях Зондского архипелага, не останавливаются, благо китайцев много, счета им никто не ведет и заступиться за них официально некому.
Меня очень интересовали в Гонконге Абердинские доки, выстроенные из гранита и служащие местом всяких исправлений и снабжений для английской эскадры в китайско-японских водах, которая в 1869–1870 годах достигала до 24 судов, в том числе нескольких броненосцев. Но время не позволило мне побывать там, ибо эти доки лежат вдалеке от города; да и доступ туда иностранцам, не принадлежащим к командам чинимых судов, затруднителен. Зато я мог посетить превосходный английский морской госпиталь, который помещен на трех больших старых кораблях, стоящих на якоре против самого города. Опрятность, чистота воздуха и даже свежесть его в больничных каютах поразили меня. Английские матросы и солдаты во время болезней помещаются едва ли не лучше, чем русские офицеры в наших пресловутых военных госпиталях, где и здоровый человек в два-три дня пребывания может легко заболеть. Как это достигнуто в жарком климате Гонконга, я не вполне понимаю; но очевидно, что система наружных галерей (балконов или веранд), – завешенных легкими бамбуковыми шторами, которые, не пропуская солнечных лучей, дозволяют, однако же, воздуху проникать всюду, – играет тут главную роль. Лед, как привозимый с Аляски, так и приготовляемый искусственно в самом Гонконге, также служит к немалому облегчению страданий больных, особенно лихорадочных и горячечных. Наконец, важным условием скорого выздоровления больных служит простор их размещения и возможность выходить из больничной палаты на верхнюю палубу, где, под полотняным навесом, можно прогуливаться, играть в шашки, читать или просто беседовать с товарищами. Плавучий госпиталь есть предмет особенного внимания и забот как губернатора Гонконга, так и адмирала, командующего флотом в Китайском море, и это не на словах или на бумаге, как бывает у нас, а на деле. Смертность в госпитале очень мала; гораздо меньше, чем даже в санаториях английской Индии.
Ну, а опиум, создавший величие и богатство Гонконга, где же он?.. Его уже почти нет или по крайней мере есть не больше, чем в Шанхае, Кантоне, Фучжоу и других открытых китайских портах. От времен, когда Гонконг пользовался монополией опиумной торговли, остались только великолепные памятники в виде дворцов Дента, Джардиня, Росселя и других отравителей Китая, да из этих дворцов первый, то есть, Дентов, обращен в гостиницу. Обширный дом Джардиня с великолепным парком, разведенным на голых некогда скалах, красуется несколько в стороне от города; но сам хозяин его живет в Лондоне и состоит членом парламента, как и товарищ его по фирме, Матисон. А сын великого отравителя, который держал тринадцать клиперов[54 - Клипер – быстроходное парусное судно.] для развозки контрабанды по китайским портам, уже принадлежит к сословию ученых и составил себе известность путешествиями в Австралию. Дома Джардиня, Росселя, Герда и пр. имеют свои отделы почти во всех портах Китая и Японии. Это ведь, собственно говоря, паевые товарищества, где всякий приказчик или конторщик, если, по испытании, найден надежным, получает пай или становится associe[55 - Associe (французск.) – компаньон.]. В этом безвестном звании он может сделаться богачом и потом стать основателем собственной фирмы; но обыкновенно этого не бывает, а разбогатевший пайщик только становится официальным представителем своего «дома» в одном из портов и тогда великолепно живет и пользуется почетом между собратьями, торговыми parvenus[56 - Parvenus (французск.) – выскочки.]. Чтобы достигнуть этого величия, нужно только не кутить смолоду и быть «хорошим», то есть плутоватым и наглым, приказчиком; затем два-три хороших надувательства китайцев или даже европейских собратьев – и репутация дельца установлена. Его ищут, как гения, для руководства делами какого-нибудь банка или огромной торговой фирмы, пароходной компании и т. п. Я знал потом одного такого «почетного» афериста в Шанхае. Он два раза спасался в Америку от расчетов за его коммерческие мерзости, но оба раза был выписываем снова в Китай, как «умнейшая голова», знавшая, кого, когда и на сколько можно обобрать безнаказанно. В шанхайском отделении «Hong-Kong and Shangai bank'a»[57 - Hong-Kong and Shangai bank (английск.) – Гонконг-Шанхайский банк, филиал «Банка Англии», один из главных рычагов закабаления Китая.] он был чуть ли не директором, и грудь его была украшена одним иностранным крестиком, потому что он был в то же время чьим-то вице-консулом, или, как говорилось, charg? des affaires[58 - Charg? des affaires (французск.) – поверенный в делах.] одного посольства, чинам которого платил по 18 процентов годовых за вверяемые ему на текущий счет их капиталы… Другой подобный коммерческий гений – уже не из янок, а из макаоских португальцев – привел к банкротству колоссальный дом Дента и, ничего, продолжал пользоваться уважением торгового мира! О коммерсантах из евреев, вроде Сасуна и Ландштейна, или персов, вроде Фрамжиев, Новроджиев и пр., я уже не говорю: это народ, при приближении к которому нужно зашивать карманы, если в них что-либо есть. Это они-то доныне отстаивают теорию, которую так наивно высказал в английском парламенте бывший гонконгский губернатор Джон Боуринг, что «опиум – это предмет роскоши у китайцев, как у нас табак или херес: зачем же воспрещать его продажу, в ущерб бюджету Индии?».
Я запасся в Гонконге кое-какими книгами и картами, которых мне недоставало, и вечером, на самом заходе солнца, мы двинулись в путь. «Камбоджа» значительно опустела, потому что с нее сошли все пассажиры, ехавшие в Гонконг, Кантон, Макао, Манилу и северокитайские порты. Для последних был назначен особый пароход той же компании «Messageries Francaises», который и шел за нами следом, пока в Формозском проливе не отделился от нас на запад, тогда как мы держали курс на северо-восток. Формозский пролив не без основания пользуется дурной репутацией между моряками: подобно Ла-Маншу, он вечно в волнении от ветров. Но еще хуже репутация Китайского моря, начинающегося по выходе из него: тут находится область знаменитых тайфунов, которые приводят иногда море в состояние бешенства или кипения, без всяких признаков правильности в направлении огромных пенистых волн. Наш капитан часто заглядывал на барометр и в книгу Пиддингтона о теории штормов, иногда покачивал боязливо головой, но вообще вел корабль твердой рукою. В этом отношении нужно отдать справедливость компании «Messageries Francaises»: не пожалев денег на жалованье капитанам, она привлекла к себе на службу лучших офицеров французского флота, и оттого с ее пароходами случается гораздо меньше несчастий, чем, например, с судами английской «Peninsular and Oriental Company» или американской «Pacific Mail Steamship Company»[59 - «Pacific Mail Steamship Company» (английск.) – Тихоокеанская компания почтовых пароходов (американская).]. Впрочем, сомнения нашего осторожного командира не оправдались: штиль сопутствовал нам от берегов Формозы до самого почти входа в Вандименов пролив. Мало того, с приближением к последнему нас охватил такой туман, что нужно было сначала уменьшить ход, а потом и вовсе повернуть на запад, чтобы не наткнуться на скалы, которые лежат в соседстве пролива. Благодаря этим слишком уж осторожным маневрам мы потеряли целых десять часов, но зато, когда погода прояснилась, имели удовольствие видеть себя вдали от опасности. Скоро я мог показать Шеврье и другим спутникам превосходный, чисто геометрический конус пика Горнера, и затем мы уже вообще начали следить за живописными берегами Японии, которые от времени до времени появлялись на горизонте, иногда очень близко от нашего пути. «Quel beau pays!»[60 - Quel beau pays (французск.) – какая красивая местность!] – было почти постоянным и всеобщим восклицанием, к которому присоединилось и другое: «Какой приветливый народ!» – когда мы перед входом в Иедоский залив увидели несколько японских лодок, находившиеся на которых рыбаки любезно раскланивались с нами. Да, есть огромная разница в темпераментах и обычаях трех соседних наций: японской, китайской и малайской, несмотря на то, что они часто живут и издавна жили в тесном соприкосновении, подчинялись влиянию одного и того же буддизма, одной и той же китайской грамотности и плавали по одному и тому же морю на одинаковых джонках.
Но вот и Иокогама, с целым флотом судов перед ней и с построенным на холме домом английского посольства над ней. Ведь это уж самый «крайний Восток»; ехать далее некуда. В прежние, поэтические времена сколько бы радостных чувств излилось по этому случаю, а теперь даже поэт Колон, лет 19 от роду, занимается в минуты окончания 45-дневного странствования чем же? – сведением счета расходов от Марселя!.. Правда, он швейцарец и приехал в Японию сколотить капитал продажей и починкой часов. А о Шеврье и говорить нечего: он стал серьезен и больше всего интересуется тем, какие цены на шелк стоят в Иокогаме и как велик будет учет в местном отделении «Учетной конторы».
По приезде в Иокогаму, как ни был я доволен концом полуторамесячного плавания и достижением первой цели путешествия, я не мог не поставить себе еще раз вопроса: что меня ожидает тут и позднее в других местах, где предстояло мне жить? Так как в Иокогаме и Иедо[61 - Иедо – старое название Токио.] не было русской миссии, ни даже консульства, то я становился единственным русским, обитающим вблизи японской столицы, без всяких практических занятий. Затянись такое пребывание надолго, и подозрение в том, что я – тайный русский агент, попросту a russian spy[62 - A russian spy (английск.) – русский шпион.], непременно укрепилось бы, как в иокогамских европейцах, так и еще более в японцах; а такое подозрение было бы слишком для меня невыгодно, даже опасно ввиду того, что еще недавно японцы вырезывали неприятных им европейцев, а со мной могли расправиться тем легче, что за меня некому было бы заступиться. Вот почему положил я себе на этот раз не жить долго в Иокогаме, а, познакомившись с начинавшимися у японцев военными реформами и с ходом продолжавшейся еще у них междоусобной войны, уехать в Шанхай и Пекин. Полагаю, что это решение было благоразумно, хотя и опрокидывало мой первоначальный план, по которому первый год моей командировки я полагал посвятить Японии, а второй Китаю. Итак, на другой же день по моем водворении в «H?tel des Colonies»[63 - «H?tel des Colonies» (французск.) – гостиница «Колониальная».] начал я искать способов ознакомиться: 1) с современным японским государственным устройством и 2) с состоянием флота, войск и военных учреждений в Японии. На первый вопрос, к сожалению, ниоткуда удовлетворительного ответа я получить не мог. Ни иокогамские европейцы-купцы, ни иокогамские английские и американские журналы «Japan Herald» и «Japan weekly Mail»[64 - «Japan Herald» (английск.) – газета «Японский вестник». «Japan Weekly Mail» (английск.) – журнал «Японская еженедельная почта».], ни даже дипломатические и консульские чиновники, с которыми удалось познакомиться[65 - С этой целью, по просьбе моей, был устроен Шеврье обед, на который были приглашены некоторые его знакомые из французских консульства и посольства, между прочим известный знаток Японии и японского языка дю Буске.], ничего определенного не знали сами. Им, конечно, было известно, в общих чертах, что тайкунат опрокинут и микадо сам взялся за управление государством, но и только[66 - М. И. Венюков посетил Японию в то время, когда в стране происходила буржуазная революция 1868 года, внешний толчок которой дали попытки иностранных капиталистических стран превратить Японию в колонию. Завершилась падением власти сёгуната, или тайкуната, как называет его М. И. Венюков, то есть феодального абсолютизма. Сёгун – титул японских военных диктаторов, в процессе войн и ослабления власти микадо (императора) захвативших фактическую государственную власть. В результате ликвидации сёгуната была восстановлена императорская власть.Японская буржуазная революция была половинчатой, она дала возможность сохраниться значительным пережиткам феодализма и передала власть в руки помещичье-буржуазного блока.]. Чем заменен многовековый феодальный строй и заменен ли еще чем? кто наиболее влиятельные лица около микадо? и как зовут его самого? и что он за человек? – я ни от кого узнать не мог, хотя много было в Иокогаме лиц, видевших, как микадо был пронесен через Канагаву в Иедо в золоченом домике, или клетке, с наглухо завешенными окошками. Иные, видя под редкими заявлениями правительства подпись Даи-зиокан, думали и уверяли меня, что это – официальное имя микадо, подобно тому, как в Китае богдыхан Жень-ди официально назывался Кхан Си и с последним именем перешел в историю; настоящего же собственного имени микадо никто не знал, ибо таков был древний обычай в Японии – скрывать священное имя главы государства от подданных, чтобы не подвергнуть его профанации. Кое-что, да и то смутно, узнал я о роли в японской революции Сацумы, Тозы, Нагато, Айдзу; упоминали передо мной имена Санжо-дайнагона и Ивакуры-цюнагона[67 - Санжо – Сандио. Ивакура и Санжо являлись представителями придворной аристократии, то есть феодальных элементов. В этом сказывалось взаимопроникновение феодально-помещичьей и торгово-промышленной групп, создавшее непреодолимое препятствие к завершению в Японии буржуазной революции.]; но какой исход имела их деятельность, – мне никто объяснить не мог. Лето 1869 года вообще было смутной, переходной эпохой в японской истории.
Скоро, впрочем, разнесся слух, что последние защитники тайкуната, находившиеся в Хакодате под предводительством адмирала Еномато, взяты в плен и что, следовательно, междоусобная война кончилась. При этом рассказывали, что во время борьбы двух сторон войска микадо, видя, что их противникам нечего есть, посылали им продовольствие и что, когда зашла речь о сдаче тайкунцев, почти поголовно израненных, то им дозволено было сначала израсходовать все патроны, чтобы сохранить военную честь. Эти два рассказа казались сначала анекдотами, но они были подтверждены многочисленными свидетельствами очевидцев и дали мне высокое понятие о рыцарском духе японского народа и, в частности, сословия саймураев[68 - Саймураи – самураи, одно из господствующих сословий в Японии, в то время низшие слои дворянства, составлявшие военные дружины феодалов. В буржуазной революции 1868 года выступали против феодального режима.] (шляхты), из которого тогда формировались войска как микадо, так и сиогуна.
Около Иокогамы, несколько севернее ее, были казармы одного батальона победителей; и когда он, наконец, вернулся с театра войны, то я пошел посмотреть жилища, служебные порядки и ход военного образования героев. Оказалось, что по отношению к помещению все европейские солдаты, кроме английских, могли бы позавидовать японцам, потому что эти помещения были необыкновенно опрятны, достаточно просторны и пользовались совершенно чистым воздухом. Последнее, впрочем, неудивительно, потому что в Японии и самая невзрачная хижина крестьянина-бедняка проветривается отлично, благодаря обычаю иметь днем все двери настежь; но казармы, благодаря присутствию в них множества людей и особенно их одежды и амуниции, в целом свете (опять-таки, кроме Англии и ее владений) отличаются известным запахом, и вот этого-то запаха не было в иокогамских. Постелями солдат служили, как везде в Японии, широкие нары, днем прикрытые одними бамбуковыми циновками, чрезвычайно чистыми, а ночью – войлочными и ватными подстилками и одеялами, которые хранились в самих нарах. Вместо подушек были обычные у японцев скамеечки или обрубки дерева с выемкой для головы; они тоже днем сохранялись внутри нар. Так как казармы были разделены на мелкие комнаты, человек на десять каждая, то сохранение постелей, запасной одежды и других вещей не требовало сундуков с замками, потому что однокомнатные товарищи хорошо знали друг друга, и воровство между ними было неизвестно. Оружие и амуниция висели на стенах, у изголовья каждого солдата; другие вещи, если имелись, находили себе место в небольшой мансарде, которая обычна во всех японских домах и иногда служит жилищем-спальней для стариков и детей, а у солдат заменяла кладовую. Ранцев – этого ярма европейских воинов – у японских не было вовсе. Одежда их состояла из сюртука и панталон легкой черной шерстяной ткани без всяких кантов, обращающих военный мундир в ливрею. Она была настолько широка, что не теснила солдата при самых трудных движениях. Обувь, по дороговизне европейской, была японская, то есть сандалии и чулки; головной убор – картуз того фасона, как у моряков, то есть невысокий цилиндр (а не безобразный и вредный конус, как в кепи) с плоским козырьком. Он прикрывал, в большей части случаев, нелепую японскую прическу с сосискою из волос; но встречались уже солдаты, стригшие волосы по-европейски. Самое небольшое количество галунов служило для отличия офицеров и унтер-офицеров от солдат; о бессмысленных эполетах, разумеется, не было и речи. Амуниция состояла из двух патронных сумок, поясной и через плечо, да национальных сабель – неизбежного еще остатка шляхетных традиций, с которыми расстаться саймураи не соглашались, как с символом их дворянского достоинства. Ружья у иокогамского батальона были системы Снайдерса; но в других, как мне говорили, были употребляемы и иные системы, потому что японское правительство, по незнанию военного дела и неимению собственных оружейных заводов, покупало тогда всякое скорострельное оружие, какое доставляли ему европейские купцы в Иокогаме и Нагасаки. Поддержка оружия в исправности оставляла желать многого, так как японские солдаты не забывали, что они – саймураи, то есть благородные, и чисткой занимались неохотно. Учебная стрельба производилась редко, вероятно по недостатку или дороговизне патронов; самые фронтовые учения не были часты, гораздо реже, чем у нас или в Пруссии; оттого фронт не был щеголеват. Зато караульная служба составляла упражнение постоянное и приучавшее солдат к одним из главных трудностей военного дела: перенесению устали и к бдительности.
Наблюдая занятия японских солдат во время караулов, я не без удовольствия заметил, что те из них, которые не стояли на часах, а оставались в караульном доме, не предавались азартным играм, спанью или выпивке, как у нас, а предпочтительно читали книги или просто беседовали. Конечно, тут многое могло зависеть от устава, запрещающего те или другие развлечения и дозволяющего лишь известные; но мне не раз приходил в голову, и притом совершенно серьезно, вопрос: когда-то русские солдаты будут в караульных домах заниматься чтением, а не битьем друг друга по носам картами, игрой в орлянку или курением вонючей махорки? Двадцать пять, пятьдесят или сто лет потребуются для такой перемены нравов? И я готов был отвечать сам себе: пожалуй, более ста, потому что в это время граф Д. Толстой[69 - Толстой Д. А. (1823–1889) – царский министр народного просвещения, реакционер, ярый противник обучения народа.] употреблял все меры, чтобы «мужичье» оставалось безграмотным. С другой стороны, меня занимало то обстоятельство, что в японской армии вовсе не было и помину о телесных наказаниях, хотя бы расштрафованным, а между тем солдаты вели себя примерно: ни драк, ни буйств, ни воровства, ни нарушений дисциплины, сколько-нибудь выдающихся. Самым жестоким наказанием за порочное поведение было изгнание из роты или батальона по приговору товарищей. При мне был один такой случай в Иокогаме, не знаю уж, чем обусловленный. Провинившийся и осужденный плакал, как ребенок, валялся по земле, умоляя сослуживцев о прощении, но все было напрасно. С него сняли мундир, оружие и выпроводили за калитку казарменного двора, не нанося ему, однако, ударов. Так по крайней мере мне рассказывал очевидец.
Наравне с ознакомлением с японской армией я старался ознакомиться с путями ее перемещения в случае войны. Оказалось, что главный из них – морской, как оно и естественно и даже выгодно в стране, омываемой морем и раздробленной на множество островов. Чтобы пользоваться им независимо от иностранцев[70 - Которых обойти, однако же, было трудно, например при возвращении войск из Хакодате в Иедо.], японские даймиосы, или удельные князья, накупили множество пароходов и даже парусных судов европейской постройки, а правительство бывшего сиогуна Хитоцу-баси (Стоцбаши) приобрело даже броненосец, из числа распродававшихся американцами после междоусобной войны в Соединенных Штатах. Денег на это было истрачено массу и часто вполне бесполезно, потому что европейцы продавали всякую дрянь, слегка лишь покрасивши корпус судна, другой раз совершенно гнилого. Да и японцы были несведущи в мореплавании по-европейски, особенно на пароходах. В Иокогаме все помнили, как они, пустив в ход машину на первом купленном ими пароходе, не умели ее остановить и потому все делали круги по рейду и, наконец, подали сигнал об опасности, к общему смеху европейцев, стоявших на берегу и на палубах кораблей, бывших в порту. Итак, морской путь для перевозки войск был хоть и главный, но не всегда надежный, а при войне с какой-нибудь сильною морскою державою и просто невозможный. Нужно было обратить внимание на дороги сухопутные, и я занялся их изучением и, во-первых, с точки зрения проходимости для войск всех родов оружия. Оказалось, что даже пресловутые семь больших дорог (Токаидо, Ханкаидо и пр.) не везде годны для движений кавалерии и артиллерии, потому что на них, как и на всех прочих, в гористых частях края встречаются лестницы, доступные только пешеходам. Это было повторением системы шоссейных дорог, построенных по другую сторону Тихого океана – в Перу, инками и так затруднявших движение конницы Пизарро и Альмагро. О мелких, проселочных дорогах нечего и говорить: они в Японии сплошь и рядом обращаются в лестницы, хотя устроены с немалыми издержками на камень, часто даже плитняк, которым вымощены. Большие дороги по большей части обставлены рядами деревьев, предпочтительно хвойных, которые не теряют листвы зимой. При разнообразии форм и цвета этих деревьев это делает японские дороги очень живописными, а в жаркое время доставляет путникам и прохладу; но зато в дождливую пору не позволяет грязи высыхать с достаточной скоростью. Мосты, где они есть, почти все деревянные, очень выпуклые в средине и узкие; но на больших реках переправы делаются предпочтительно на паромах, а иногда и вброд, причем у перевоза всегда есть толпа носильщиков, опытных в деле и хорошо знающих русло реки. Японские паромы обыкновенно невелики. Не нужно забывать, что в Японии, как во всякой гористой стране, иногда даже ничтожнейшие ручьи так вздуваются от дождей, что переправа через них становится невозможной.
Большую часть всего сейчас сказанного мне легко было узнать по личным наблюдениям вокруг Иокогамы и Иедо и из книг европейских путешественников, проникавших внутрь страны, от Кемпфера до Олкока. Но иное было дело относительно направления дорог, так как все европейцы, бывавшие в Японии, путешествовали почти постоянно лишь по одной линии из Осаки в Иедо – по так называемой Токаидо, с придачей еще небольшого пространства от Кокуры до Нагасаки на острове Кюсю. Даже у Зибольда сведения по этой части очень несовершенны, а все прочие путешественники по Японии, кроме Кемпфера, видимо, пренебрегали этой, конечно очень сухой, но важной частью географии. По счастью, у японцев есть немало карт специально дорожных, а между географическими находятся столь значительного масштаба (например, Ино, 10? верст в 1 дюйме), что нет особого труда отыскивать важнейшие пути по стране. Я немедленно купил целую коллекцию этих карт и отправил их в Петербург, присовокупив и таблицу расстояний между важнейшими городами Нипона и Кюсю. Для составления последней, которая в печати заняла потом всего одну страницу, пришлось работать более недели, так как нужно было сначала списать маршруты по кратчайшим путям, перевести японские ри в версты и сделать массу сложений, а иногда еще брать расстояния с карт циркулем по масштабу, так что для какой-нибудь одной цифры, потом исчезавшей в ряду других слагаемых, тратилось нередко пять-шесть минут времени, не говоря уже про плату переводчику, работавшему по часам.
Покупая японские карты, не мог я обойти и планов хотя бы важнейших городов: Иедо, Осаки и т. п., которые все составлены японцами очень тщательно и отлитографированы иногда с изяществом. Вообще любопытно, что хромолитография очень развита у японцев и приложение ее к картографии сделано ими едва ли не раньше, чем европейцами. Можно иногда упрекнуть их в излишней яркости красок, в неудачном выборе условных знаков, слишком грубых и не довольно вразумительных; но сказать, что японцы не умели литографировать карт, никак нельзя. Да не только литографировать, а и составлять, что гораздо труднее, потому что требует знания геодезии и топографии. Полагаю, что на всех японских картах астрономические пункты нанесены по европейским определениям главным образом Крузенштерновым[71 - Крузенштерн И. Ф. (1770–1846) – знаменитый русский мореплаватель, руководил вместе с Ю. Ф. Лисянским (1773–1837) первой русской кругосветной экспедицией. Экспедиция Крузенштерна произвела многочисленные съемки побережий Тихого океана.]; но все, что внутри береговой линии, конечно, основано на японских съемках. Эти съемки были отчасти маршрутными, отчасти кадастровыми, но не топографическо-инструментальными; оттого горизонтальные очертания рек и дорог по большей части верны, а ситуация плоха да в придачу еще испорчена рисованием гор в полуперспективе, а не в плане.
Покупая карты в магазинах, где вместе с тем продаются и картинки, не мог я, разумеется, не обратить внимания на последние. Их рисунок и окраска известны всем, но не все обращают внимание на две особенности японской хромолитографии, да и живописи, которые, однако же, очень замечательны. Первая состоит в необыкновенном уменье художников представлять падающий снег и дождь, чего европейские артисты, даже первоклассные, делать не умеют. Вторая особенность, тоже техническая, но в другом роде, состоит в уменье японцев приготовлять цветные эстампы, сжимающиеся или растягивающиеся. Вы покупаете картинку вершка в четыре длиной и вершка три шириной, отпечатанную как будто на крепе или шагреневой, матовой бумаге; потяните ее – и поверхность ее удвоится, утроится, даже учетверится, с сохранением полной пропорциональности частей рисунка и взаимных отношений теней и красок. Вы можете наклеить вашу картину в таком растянутом виде; но если перестанете ее растягивать, она сожмется почти до прежнего объема. Как это достигается, я не знаю, но несомненно, что для подобных картинок приготовляется особая бумага из очень крепких, растяжимых, но упругих волокон. Шагреневая же поверхность может сообщаться и прессованием уже отпечатанной картинки, как то делается с японскими крепами или кисеями.
Изучение японской картографии, а вместе и географии, не мешало мне заниматься и статистикой Японии. На первый раз я избрал предметом изучения японскую внешнюю торговлю, быстрое развитие которой составляло самый выдающийся факт из экономической истории страны. Шеврье помог мне своими связями в иокогамском коммерческом мире; из торговой палаты я достал ведомости привоза и вывоза; новые знакомцы-купцы пояснили мне обычный ход их негоциаций с японцами, значение на японском рынке разных предметов привоза из Европы и Америки и значение для Европы и Соединенных Штатов некоторых статей отпуска, например, шелка, яичек шелковичных червей, чая, лакированных изделий и пр. Нетрудно было заметить, что японская внешняя торговля совершенно изменилась не только по объему, но и по характеру с того еще недавнего времени, когда единственными европейскими торговцами в Японии были голландцы, содержимые почти под арестом в Дециме. Европейско-американские купцы теперь командовали рынком, несмотря даже на то, что работали каждый про себя, тогда как у японцев все делалось с общего согласия. Имея в своем распоряжении морские перевозочные средства, которых совершенно лишены еще были японцы, английские, американские и французские торговые дома ставили цены, определяли размер ввоза так, чтобы рынок был далек от переполнения европейскими продуктами, и делали все возможное, чтобы заставить японцев отдавать их произведения по низким ценам. Три или четыре банка с крупными капиталами помогали им изворачиваться в трудных обстоятельствах, когда упорство японских торговцев грозило задержкой в операциях и, следовательно, убытками. Словом, торговля для иностранных купцов была вполне активной, тогда как для японцев она оставалась пассивной. Величайшей, самой трудной заботой для европейцев было собрание сведений об урожае чая и шелковичного червя. Проникать внутрь страны, чтобы видеть на местах размеры производств, им было нельзя; а иокогамские японцы из года в год повторяли, что ныне – полный неурожай на чайных плантациях и половина шелковичных червей погибла от холода или неурожая шелковицы. Гренеры[72 - Гренеры – скупщики; грена – яички шелковичных червей.] бывали нередко в отчаянии оттого, что в продаже вовсе не было картонов[73 - У японцев яички шелковичных червей отлагаются не на кусках полотна, а на кусках картона, длиною вершков семь и шириною четыре.], за которыми они прибыли издалека, хотя, в сущности, у японских купцов магазины уже были полны этим товаром. «Открыть цену» на яички шелковичных червей, то есть совершить первую сделку, было делом такой же важности, как некогда в Кяхте или Нижнем Новгороде открыть цену на чай. Торговец, которому это удавалось, да еще на выгодных условиях, считался героем, почти как сапер, которому удалось подвести мину под неприятельский редут и взорвать его прежде, чем противник успел разрушить всю подземную работу камуфлетом. В торговле шелком затруднений было меньше, потому что цены на него регулировались известиями из Шанхая – главного рынка для этого товара на всем «крайнем Востоке», однако и тут без борьбы и уловок не обходилось. То же почти было и с чаем, покупка которого была, впрочем, монополизирована двумя-тремя американскими домами. О мелочах, вроде лаковых изделий, фарфора и пр., я не говорю: торговля ими предоставлялась третьестепенным барышникам и подвергалась всевозможным колебаниям от разных случайностей. Стоило, например, прийти в порт двум-трем иностранным военным судам, офицеры которых бросались на покупку портсигаров, перчаточных ящиков, вееров, бронзовых игрушек и пр., чтобы цены на все эти предметы возросли в японских лавках Иокогамы на 20 процентов. Оптовой торговли ими ни один большой европейский дом не вел.
Одной из любопытных особенностей иокогамского рынка было важное значение на нем китайцев. Эти «небесные» торгаши пришли в Иокогаму на хвосте европейцев, без всяких трактатов поселились в сторонке в европейском квартале и скоро превысили числом всех западных негоциантов, взятых вместе.
Желая сохранить вид человека, превыше всего заботящегося о судьбе сахалинского каменного угля, я намеренно расспрашивал кого мог о порядке снабжения минеральным топливом европейских пароходов, машинного завода в Иокогаме и пр., о ценах на разные сорта угля, о способе его доставки, о принадлежности угольных складов разным владельцам и вообще обо всем, что касается до этого товара. Начальник французской военной эскадры нешутя спрашивал меня: нельзя ли будет заключить контракт о снабжении его судов сахалинским углем, к кому по этому делу следует обратиться, где будут учреждены склады и какие примерно будут установлены цены? Легко себе представить, в какое щекотливое положение ставили меня эти вопросы. Придавая, однако, себе серьезный и даже таинственный вид, я отделывался уклончивыми ответами вроде того, что все дело получит организацию лишь тогда, когда русское Министерство торговли (!) по моим донесениям изучит вопрос всесторонне, то есть когда я успею объехать все китайские и японские порты и вернусь, через Владивосток, Сахалин и устье Амура, в Россию. Мистификация эта, сверх ожидания, удавалась как нельзя лучше, так что иногда мне самому становилось смешно. Но не все мои собеседники были простодушны. Один янки, бывший во Владивостоке и хорошо знавший японские порты, говорил мне, улыбаясь: «А кто же у вас будет комиссионером по продаже угля? трактирщик Алексеев[74 - Простолюдин Алексеев, державший харчевню в Хакодате, был единственный русский торговец в Японии в 1869–1870 годах. Не знаю, больше ли их теперь?], что ли, делающий в Хакодате обороты тысячи на три долларов в год? или вы пришлете чиновника с вахтерами для заведования складом? Так не было бы случаев самовозгорания каменного угля…».
Месяца времени было за глаза довольно «для изучения каменноугольного вопроса» в Иокогаме, и потому я, осмотрев еще береговые укрепления Иедо, но отказавшись от поездки в Иокосуку, как в местность, где «нет ничего, кроме неинтересующего меня японского адмиралтейства», – решился выехать в Нагасаки и Шанхай. К этому, впрочем, побуждали меня не одни дипломатические соображения, а и недостаток денег: у меня оставалось в кармане всего полтораста долларов. Сто из них нужно было заплатить компании «Pacific Mail Steamschip», а затем с пятьюдесятью добраться из Шанхая в Пекин, будь это возможно. Итак, распростившись с моими иокогамскими знакомыми, французами, швейцарцами и американцами, я переехал в один прекрасный вечер на пароход «Нью-Йорк» и назавтра поутру, часу в восьмом, проснулся уже в открытом море. Погода была прекрасная, и мы делали по десяти миль в час. Капитаном у нас был некто Фурбер, столь искусный и деятельный, что компания не страховала его парохода от случайностей в море. Плавание шло превосходно.
На пароходе, сверх нескольких европейцев, было два-три японца, ехавших в Нагасаки, в том числе мальчик лет четырнадцати, который удивлял меня познаниями в географии и европейских языках, французском и английском. Когда я показал ему русскую карту России, он без малейшего затруднения показывал на ней и называл главные города, горы, реки и пр., произнося притом названия лучше, чем это делают многие европейцы, хотя и не умея читать по-русски. Из математики он знал стереометрию и умел не только написать, но и вывести отношение между шаром, цилиндром и конусом; задача о двух светящихся точках, видимо, занимала его, и он бойко составлял уравнения как для нее, так и для знаменитых «собаки и лисицы». Живой, вертлявый, но грациозный, с умными глазами и страшной любознательностью, он производил на меня самое отрадное впечатление, но скоро я добрался и до слабой его стороны. Развитость его распространялась не на одну научную область, а и на эротическую. Он спрашивал меня, бывал ли я в иокогамском «иосиваре»?[75 - Иосивара – отдельный квартал домов терпимости в японских городах.] и на вопрос мой: что это такое? – отвечал, что это жилище красивых женщин, занятие которых состоит вот в чем… И он показал целый ряд картинок самого откровенного содержания, вроде тех картин, которые показываются «по секрету» туристам в Помпее и свидетельствуют о нравственности «классического» мира.
– Где вы достали это? – невольно сорвалось у меня с языка.
– А в иосиваре же; мне это подарили там на память.
Замечательно, что на картинках изображались не только японцы, но и европейцы, с необыкновенной верностью типов английского, французского и пр. Я жалел потом, что не накупил этих картинок и не передал их на хранение… ну, хоть в азиатский музей Академии наук, если не в публичную библиотеку. Стоило бы даже их выставить где-нибудь в Хрустальном дворце или Кенсингтонском музее как доказательства «христианской цивилизации» просветителей крайнего Востока, какими считают себя особенно англичане.
Спускаясь с палубы в столовую залу, я уже морщился заранее от супов с перцем или с устрицами, от недожареной говядины и от сладких пирогов с инбирем, которые мне опротивели на американских пароходах еще в прошлом году. К удивлению моему, стюард «Нью-Йорка» не следовал этой американской системе кормления людей пряностями и сырьем, а дал нам очень удовлетворительный завтрак в общечеловеческом вкусе. Дело в том, что в Иокогаме и Шанхае сами янки делают уступки европейским привычкам, и повара на их пароходах не так свирепо атакуют желудки пассажиров перцем и инбирем. Сам капитан Фурбер вовсе не жаловал пряностей и признавался, что мнение его соотечественников, будто в море, да еще в жаркую пору, нужно употреблять перец, есть предрассудок. Однако от противного curry, то есть риса с зеленоватой перечной подливкой, мы не ушли. Это уж повседневное, любимое блюдо англичан на всем Востоке, начиная с Адена; а так как они везде составляют большинство путешественников, то для них и готовят эту не жидкую, а полутвердую перцовку.
– Видите: оно и дешево и сердито, – как говорил мне потом один соотечественник в Шанхае, тоже вошедший во вкус к curry.
– Да, так сердито, – отвечал я, – что собаки отказываются его есть, когда бывают голодны.
За завтраком, кроме curry, я увидел еще одну противную вещь: европейского пройдоху из титулованной знати… Впрочем, был ли этот авантюрист аристократом, это еще вопрос, но в Японии он ходил за графа де Мон-Блана и держал себя с поразительной надменностью. Начать с того, что он явился к столу лишь при самом конце завтрака, конечно, чтобы показать свою важность, чтобы дать себя заметить как не простого смертного. Затем он уселся особо, на другом конце общего, не совсем полного стола, vis-?-vis с капитаном, и имея около себя только своего «домашнего секретаря», чрезвычайно подобострастного, но с глазами бойкого травленого плута, едва ли не командовавшего своим принципалом. После этого начался придирчивый осмотр стоявших перед тарелками стаканов и рюмок, причем «граф» корчил недовольную мину и в то же время сверкал камнями, а может быть и подкрашенными стеклами, многочисленных перстней, которыми были украшены его далеко не аристократические костлявые руки с мозолистой кожей на суставах и с заусеницами. Затем на предложение «секретаря» потребовать к завтраку «романеи или кло-де-вужо» его сиятельство громко отвечал, что на американских пароходах не может быть порядочных вин, а потому потребовал пива, по полбутылке на брата. Съев после этого кусок ветчины и бросив в глаз монокль, он громко спросил капитана через весь стол:
– А что, мы будем тогда-то в Нагасаки? – и, не дав ему ответить, прибавил: – Князь Сацума высылает для меня туда пароход, и мне бы не хотелось заставлять его ждать меня в Нагасакской гавани.
Хладнокровный янки-капитан не дал себя в обиду: он сначала договорил, что было нужно, со своим собеседником, а потом уже сказал г. де Мон-Блану:
– Сэр, я никогда не опаздываю против расписания; если же состояние моря или судьба потребует захода в какой-нибудь промежуточный порт, то, конечно, зайду.
И, отвернувшись, опять продолжал разговор с соседом, не обращая внимания на молниеносные взгляды его сиятельства, недовольного, что с ним обошлись как с простым смертным. Надменно-заносчивое поведение графа продолжалось во все время плавания, причем он добивался даже, чтобы другие пассажиры при встрече с ним на лестнице, в проходах и даже на палубе давали ему дорогу, на что однажды какой-то янки и ответил ему тем, что, взяв за плечи, отвел слегка в сторону от прохода, прибавив сухо, плохим французским языком: «Monsieur, on ne s'arr?te jamais sur le passage»[76 - Monsieur, on ne s'arr?te jamais sur le passage (французск.) – «господин, не стойте никогда в проходе».]. Я был очень доволен этим нравоучением, после которого де Мон-Блан скрылся в свою каюту и не показывался до самого Нагасаки, куда князь Сацума никакого парохода за ним, конечно, не присылал. По сходе с «Нью-Йорка» этой надменной особы в публике говорили, что это просто авантюрист, которого французские посланник и даже консул не принимали к себе и если не арестовывали за самозванство, то лишь потому, что списки савойской знати им были не довольно известны[77 - Савойя была очень недавним приобретением Франции, и предполагать существование в ней графов де Мон-Блан естественно.]. Относительно же Сацумы поведение де Мон-Блана состояло просто в надувательствах этого богатого феодала, который покупал много оружия, пароходов, машин и других европейских произведений по рекомендациям савойского графа, конечно, заставлявшего платить себе за факторство и князя, и тех купцов, которых рекомендовал ему. Фразы о благе Японии, о прогрессе японской нации и о блистательной роли, выпадающей при этом движении вперед на долю князей сацумских, не сходили при этом с языка пройдохи.
Кобе, около которого мы сделали первую остановку на 5–6 часов, был в 1869 году только что возникшим маленьким городком, очень красивым и подававшим надежду перещеголять Иокогаму даже торговыми оборотами. В самом деле, соседняя Осака искони считалась первым торговым городом Японии, портом Киото и самых богатых центральных провинций Ниппона[78 - Ниппон – старое название острова Хонсю (Хондо), крупнейшего из японских островов.]. Однако надежда эта не оправдалась потом, и не только Иокогама, но и Нагасаки перетянули. Впрочем, большого убытка европейским негоциантам, основавшимся в Кобе, оттого не было: это ведь были отделы тех же самых фирм, что находились в Шанхае, Иокогаме, Нагасаки и пр., так что в сумме обороты их не только не страдали от скромности торговли в Кобе, но во всяком случае возрастали. Я не помню теперь, в том ли же самом порядке, как в Иокогаме и Шанхае, стояли вдоль набережной дома коммерческих тузов Кобе; но вообще порядок этот был во всех китайско-японских портах таков: Джардинь – Матисон, Гловер, Россель или Пустау, Уольш – Холл, Герд, Адамсон-Бель и так далее, соответственно богатству фирмы, причем дом Джардиня был всегда ближайшим к таможне или к английскому консульству. Любопытной и притом очень приятной особенностью Кобе являлся сад для прогулок, составленный из вековых, очень тенистых деревьев. Этой почти необходимой принадлежности цивилизованной жизни не имела в 1869 году никакая другая европейская «концессия» (квартал) в портах крайнего Востока. В Шанхае, правда, развели маленький садик на набережной, но это было жалкое подобие публичного гульбища: ни малейшей тени, теснота, ни буфета, ни музыки, и только в известные часы толпа китайских «нянек», или, как англичане попросту говорили, «of Chinese girls»[79 - Of Chinese girls (английск.) – китайских девушек.]. В Кобе сад представлял все условия стать действительным местом отдохновения и от жары, и от трудов, хотя и в нем не было ни музыки, ни буфета. Это был прежний сад какого-то князя, земля которого была отведена правительством под европейский квартал.
Так как в маленьком Кобе, кроме сада, смотреть было нечего, то мы прогулялись в соседний большой японский город Хиого, знаменитый своими каменными набережными, на постройку которых один сиогун высылал тысячи народа и затратил большие деньги. Хиого действительно и доселе имеет удобный порт, глубокий и достаточно закрытый от ветров, тогда как Осака доступна только легким баркам, а других гаваней в окрестностях нет совсем. Сёгуны высоко ценили важность Хиого, и потому вход в порт издавна охранялся береговыми батареями, из которых одна имела даже центральный редут, в виде каменной башенки, – все очень игрушечное и неспособное бороться даже против одного европейского корабля с современной артиллерией. Гораздо большей защитой от огня с моря служил для Хиого лесок, который рос на плоской косе между городом и прибрежными укреплениями. С основанием Кобе, уже в 1869 году была речь о соединении города с Осакою мирным рельсовым путем в 28 или 30 верст длиной. Он вскоре и был сооружен, даже продолжен до Киото, а теперь, если не ошибаюсь, и до прибрежья Японского моря.
Разумеется, после сингапурской остановки последовала обычная перемена нескольких пассажиров, то есть одни съехали с парохода, другие прибыли на него. В числе последних был один богатый китаец, откупивший для себя одного целую каюту в первом классе, впрочем, только до Сайгона, что не особенно дорого. Высокий ростом, довольно тучный, с большими, наблюдательными глазами, щегольски одетый во все белое, не только надушенный парижскими ароматами, но и умытый парижским мылом, с огромным бриллиантом на перстне, он немедленно обратил на себя внимание всех, тем более что порядочно говорил по-французски.
– Кто это такой?
– А это откупщик опиума в Сайгоне. Французское правительство, соблазняясь тем, какой доход извлекают англичане из продажи ост-индского опиума в Китай, развело и у себя, в Кохинхине, опиумные плантации. Китаец – оптовый скупщик этого опиума, нечто вроде бомбейского Сасуна[37 - Сасун – арабский еврей, наживший огромное состояние на торговле опиумом.], и, разумеется, очень богат. Одной пошлины с вывозимого им товара поступает в сайгонскую таможню около двух миллионов франков.
– Браво! Вот так гуманизм, на этот раз уже католический и тем более гнусный, что в Европе французы постоянно укоряют англичан за отравление опиумом китайцев!.. Где капитан S.?
Господин S. на палубе, тоже интересуется китайским откупщиком и готов бы порицать и его, и свое правительство; но position oblige[38 - Position oblige (французск.) – «положение обязывает».]. Он ведь только что назначен временным начальником французской эскадры в японских и китайских водах и, следовательно, при случае должен будет своими пушками служить интересам откупщика-отравителя. Но как он прежде не раз выражал мне свое негодование на торговлю опиумом, то я без церемонии спрашиваю его: что думает он о данном случае?
– Видите ли, – отвечает он, сильно сконфуженный, – в первые годы утверждения нашего в Кохинхине[39 - Кохинхина – часть Индокитая.] доходы колоний были так малы, что правительство склонилось на представление губернатора: допустить разведение мака в этой стране, запретив, впрочем, продавать опиум дома, а только на вывоз, для чего и отдало последний в руки монополиста, ответственного за соблюдение условия. Потом уже трудно было разрушить раз установленное…
– В особенности, когда оно дает два миллиона в казну, – замечает какой-то немец из Франкфурта или Гамбурга, уже не раз попрекавший французов захватом не только Кохинхины, но даже Эльзаса…
Я заминаю беседу, очевидно готовую перейти в колкости и неприятную для будущего французского адмирала. Ведь грубый немец мог бы этак добраться и до грабежа французами дворца Юань Мин-юань[40 - Юань Мин-юань – дворец около Пекина, разграбленный и сожженный англо-французами во время грабительского похода на столицу Китая.], доставившего столько интересных вещиц не только капитану S., несколько непоследовательному, подвижному в своих убеждениях, но и всегда верной себе благочестивой императрице Евгении[41 - Евгения – жена французского императора Наполеона III.].
В Сайгоне монополиста-китайца встретили с почетом его друзья, не только из «небесных», то есть из его соплеменников, но и из простых смертных в европейских костюмах. Видно, что он – особа. Да, ему принадлежит и самый огромный дом в городе, отчасти занимаемый полицейскою префектурою. Эта префектура, монастырь, губернаторский дом и жандармская казарма составляли в 1869 году, так сказать, редуты[42 - Редут – укрепление с обороной на все стороны.] европейской цивилизации, введенной французами в Сайгоне и вообще в Кохинхине. Думаю, что главным образом благодаря им Сайгон и напоминал собою отчасти наши Варнавин и Аягуз, где прогуливающийся по улицам приезжий думает среди белого дня: верно, жители все ушли на покос или спят после обеда. Деятельный, торговый элемент населения, китайцы поселились в стороне, верст за семь, в посаде Шо-лоне, где мы наблюдали их муравейник; а в самой столице французской Кохинхины оставались несколько тысяч аннамитов в соломенных хижинах да с десяток французских авантюристов, содержавших два-три кафе, плохую лавку со всяким гнильем, цирюльню для бритья местных чиновников и офицеров и кабак для матросов. Были еще в городе солдаты, жившие в каких-то сараях вместо казарм, моряки, для которых стояли на реке несколько полурасснащенных парусных судов, таможенные досмотрщики, крейсировавшие на паровых катерах, и жандармы, важно измерявшие каждого встречного с целью решить вопрос: следует или не следует схватить его за шиворот и представить начальству? Более ничего не было… Какая разница с великолепным Гонконгом, который, однако же, построен на голом, скалистом острове, а не среди плодороднейшей в мире равнины!
Я старался узнать, что сделано французами для умственного развития сравнительно, впрочем, образованных аннамитов, для их сближения с европейцами; но оказалось, что очень немного. Во-первых, губернатор предписал им (это я сам читал в местной официальной газете) строить дома по планам и не иначе, как с разрешения начальства, как у нас было при Николае Павловиче[43 - Николай Павлович – царь Николай I.] по городам; во-вторых, для них заведены были две-три школы, где обучали католическому катехизису и истории Меровингов[44 - Меровинги – франкская королевская династия (середина V века – середина VIII века).]… Одна, впрочем, назначалась для приготовления переводчиков, необходимых французским администраторам из морских офицеров и родственников бюрократии Министерства колоний в Париже; но она плохо преуспевала. И завоеватели сердились, что трудно «цивилизовать» аннамитов, которые-де заражены конфуцианством и предпочитают китайскую грамотность европейской. Полицейская жилка французов также трепетала от негодования, когда аннамиты, во избежание подушных налогов, целыми сотнями записывались в реестры населения под одним именем, которое притом для них ничего не значит, ибо они меняют его раз пять в жизни: при замене молочных зубов настоящими, при достижении половой зрелости, при женитьбе, при назначении на какую-нибудь должность и пр. Французские офицеры и чиновники откровенно сознавались, что, выведи сегодня правительство из Сайгона войска, завтра от французского господства не останется и следа или, пожалуй, одни насмешки.
А поводов к последним немало. Я уже не говорю о Меровингах и катехизисе, преподаваемом последователям Конфуция; это – дело, над которым потешаются и сами французы, не монахи и не патеры. А вот, например, администрация и торговля – занятия серьезные, и которые европейские цивилизаторы не прочь бы монополизировать, чтобы показать азиатам, как их нужно вести. Случилось раз, что китайцы из Шо-лона вывезли с сайгонского рынка весь свободный рис, и адмиралу-губернатору стало нечем кормить солдат и матросов. Как тут быть? В странах, управляемых не бюрократически, дело было бы устроено просто: собрался бы местный правительственный совет, разыскал бы соседний рынок, где есть в продаже рис, и послал бы туда покупщиков с теми самыми деньгами, которые назначались на продовольствие солдат. Легко могло бы при этом случиться, что покупка риса обошлась бы дешевле сметных цен, и тогда администрация торжествовала бы. Но не то бывает и было при французских колониальных порядках. Губернатор-адмирал телеграфировал морскому министру в Париж, что-де «грозит голод солдатам, нужны покупки рису». Министр, долго не думая, то есть спеша удовлетворить телеграфное требование подчиненного, послал телеграмму же в Гавр: «Закупить целый корабельный груз рису и немедленно отправить в Сайгон». Сказано – сделано; деньги заплачены огромные, и через два месяца рис, слегка подмоченный и прогорклый, прибыл в Сайгон. Оказалось при этом, что он воротился на родину, и между туземцами смех был всеобщим… Я тоже улыбнулся этому рассказу, но при этом не мог не вспомнить, что и у нас население южной части Приморской области долго кормилось мукой, доставляемой контрагентом морского ведомства Паллизеном, который привозил ее из Кронштадта. И, в то же время, адмиралы-губернаторы во Владивостоке жаловались, что хлебопашество в русских южноуссурийских колониях не развивалось, ибо колонисты не видели, куда им сбывать свой хлеб. Нужно было, чтобы в край прибыл, из-за 4 000 верст, генерал-губернатор, который, наконец, разрешил покупать для солдат и матросов во Владивостоке хлеб у соседних русских земледельцев в долине Суйфуна.
На пути из Сайгона в Гонконг проливные дожди сопровождали нас почти всю дорогу, причем замечу, что хотя начало каждого сопровождалось небольшим порывом ветра, но самое падение капель совершалось по отвесным линиям, то есть при полной тишине воздуха. Нередко дождь переставал, но солнца мы не видали за сплошной массой облаков. На поверхности моря мы не раз замечали широкие полосы плавучих водорослей или чего-то вроде желатина, слизи – «протоплазмы», как шутя говорил один спутник, голландец Герст, не совсем веривший в нахождение последнего вещества в природе. По этому поводу у меня с ним завязалось довольно тесное знакомство, которое поддерживалось и впоследствии, в Нагасаки, где он был врачом при японской больнице и вместе наставником юношества по математике и химии. Как кровный голландец, он любил науку, но любил и металлы, притом не столько тунгстеп[45 - Тунгстеп – вольфрам.], молибден и стронций, сколько золото и серебро, принадлежащие к иной химической группе. Впоследствии он написал любопытную книгу о Японии; но, вероятно, полюбил эту страну не с одной химической точки зрения, а и с экономической, потому что услуги его ценились там хорошо. Должно было привлекать его к этой стране и другое обстоятельство: для скорейшего изучения японского языка он, немедленно по прибытии в Нагасаки, завел учительницу, довольно красивую мусме[46 - Мусме (японск.) – девушка.], которую нанял сначала на год, но которая, вероятно, удерживала его при себе и потом. Таковы уж обычаи европейцев в стране восходящего солнца, не лишенные интереса и в антропологическом смысле, ибо они создали среди сплошь черноглазых и черноволосых японцев новую расу, рыжеватую, иногда почти совсем белокурую.
Между Сайгоном и Гонконгом мы встретили пароход «Тигр», принадлежащий той же компании «Des Messageries Francaises». Произошел обмен каких-то сигналов, и через несколько минут капитан «Камбоджи» сообщил мне, что на «Тигре» отправляется в Европу русский посланник в Китае, Влангали. Это известие напомнило мне родину и заставило болезненно сжаться сердце. Я рассчитывал на генерала Влангали как на единственное лицо на крайнем Востоке, которое могло мне покровительствовать в моих работах; он ведь был ставленником и даже другом Е. П. Ковалевского и слыл за человека хорошего, не теснившего соотечественников, как это делают все русские дипломаты за границею, а помогавшего им по мере возможности. И его положение в Пекине как старшины европейского дипломатического корпуса, очень уважаемого как европейцами, так и китайцами, обеспечивало мне возможность увидеть и узнать многое, что непременно должно было ускользнуть от меня при других условиях. И кто-то его заменил? И надолго ли? У нас всякая soi-disant[47 - Soi-disant (французск.) – так сказать.] самостоятельная деятельность, то есть не простая переписка бумаг, так зависима в действительности от произвола и вкуса ближайшей по месту власти, что будь семи пядей во лбу – ничего не сделаешь, если эта власть вздумает противодействовать, особенно исподтишка, дипломатически или по-штабному, то есть с улыбкою на устах и с фразами сочувствия на языке…
С самого почти Сайгона мы следовали на северо-восток, сначала в виду берегов Индокитая, и раз ночью увидели город с довольно ярким уличным освещением. Это, конечно, был Биньтуань, и мы сначала были удивлены такою вовсе не азиатскою роскошью, как множество уличных фонарей, которые одни могли производить виденный нами отблеск освещения в воздухе; но оказалось, что это были огни рыбаков, которые во множестве плавали по бухте и в устьях реки, ловя рыбу в тихой воде острогами, так как рыба шла на огонь. Через сутки после этого мы различили на севере, в тумане, остров Хайнань. Это уже передовой пост Китая, а стало быть, недалеко начало моей деятельности – не книжной, которой я предавался в Петербурге и во все время плавания, а наблюдательной и разыскивающей действительность. Видя по карте, что мы идем скорее, чем можно было ожидать по расписанию движения, я спросил капитана, когда мы будем в Гонконге. Он отвечал, что часами двадцатью раньше, чем следовало бы, потому что находившийся у нас на пароходе временный начальник французской эскадры в китайско-японских водах пожелал сделать из Гонконга поездку в Кантон, чтобы посмотреть, в каком виде находится там европейская колония после войны 1857–1860 годов, во время которой Кантон был, правда, взят и разграблен союзниками, но от которой досталось и европейским факториям. Для такой поездки нужно на местном пароходе около тридцати часов времени, а если осматривать город, то и больше; но так как мы должны были простоять в Гонконге по расписанию сутки и имели еще двадцать часов, выигранных на переходе от Сайгона, то нечего было опасаться опоздать возвращением на «Камбоджу». Я немедленно условился с начальником французской эскадры ехать вместе, что было тем выгоднее для меня, что почтенный капитан S. бывал уже в Кантоне в 1857 году, при разгроме его, и мог мне дать самые обстоятельные сведения о его укреплениях и о порядке овладения им. С его стороны любезность простерлась так далеко, что он предложил мне дать из французского консульства (или духовной миссии, не помню уж теперь) проводника по Кантону, знающего французский язык. Этого мне потом никогда не удавалось получить ни от русских консулов, ни от русского поверенного по делам, несмотря на данные им свыше предписания о всяческом содействии мне! А консул в Тяньцзине, Скачков (старый знакомый по Западной Сибири), отказал мне даже в такой простой вещи, как содействие к осмотру строившегося там порохового завода, и я получил это содействие от американского представителя Медоуса, вместе с двумя янками.
II
Мы прибыли в Гонконг довольно рано поутру и через полчаса уже плыли на высоком, американской системы пароходе по направлению к Bocca-Tigris[48 - Bocca-Tigris (французск.) – «Пасть тигра», укрепления на Жемчужной реке.], то есть к устью Кантонской реки. Было время, когда эта «Тигровая пасть» была очень страшна, потому что с обеих сторон была обставлена пушками, на которых, положим, литейщиками-иезуитами нередко вычеканивалась по-латыни христолюбивая надпись: «Иисус – спаситель мира», но которые могли не пожалеть даже самых преданных последователей христианства. С 1860 года эта опасность уничтожилась: англичане обязали китайцев не восстанавливать батарей, разрушенных союзниками в 1857 году. Итак, Кантон ныне открыт для нападений с моря, если только китайцы не вздумают накласть в русло реки и многочисленных ее рукавов подводных мин. Мы миновали сначала архипелаг мелких, но высоких островов, рассеянных по морю перед дельтою Кантонской реки и на картах редко отличаемых от низменных островов, образующих самую дельту; потом прошли в Восса-Tigris, достигли Вампу и, повернув на запад, подошли к самому Кантону и лежащей около него, на острове, «европейской концессии», или кварталу, населенному европейцами и американцами. Число их в это время было уже невелико, потому что крупные негоцианты предпочитали жить в Гонконге, а в Кантоне водворены были приказчики да миссионеры. Так как временем нужно было дорожить, то я немедленно взял рекомендованного проводника, паланкин с носильщиками и отправился в путь. Соображая, что в эту пору года (июнь) день в Кантоне оканчивается в семь часов, я надеялся увидеть значительную часть города и коснуться северной и восточной части его стены, которую штурмовали англо-французы. И ожидания мои не только оправдались, но были превзойдены. Долговязые и хотя худощавые, но мускулистые носильщики ходили крупной рысью, так что, измерив потом по плану пройденное ими расстояние, я убедился, что они делали около семи верст в час. Остановки были самые кратковременные: только чтобы дать проводнику время указать предмет, заслуживавший внимание, а мне – взглянуть на него снаружи и очень редко внутри, лишь бы убедиться, что имевшееся у меня описание из «Treaty Ports»[49 - «Treaty Ports» (английск.) – «договорные порты».] соответствует современности. Я вообще должен сказать, что эта превосходная книга да еще «Путешествие» Девэ, сделанное лишь за три-четыре года до меня, были мне преполезными пособиями, только, к сожалению, не по моей специальности, то есть военной части. Для последней все приходилось добывать личным трудом, за что, впрочем, я и благодарен судьбе, потому что, вследствие этих личных обзоров, я приобрел большой навык в короткое время узнавать многое, да не только узнавать, а и запоминать раз навсегда[50 - Способность эта, впрочем, была у меня всегда, и я доселе хорошо помню подробности местностей, виденных мною на Амуре, в Небесных горах, на Кавказе, в Польше, в Швейцарии и пр.; но с физиологической точки зрения любопытно, что, помня хорошо виденные предметы, я часто забывал и забываю название их и вообще собственные имена. То же и относительно книг: помню их содержание, объем, характер печати, но забываю заглавия и имена авторов.]. Для Кантона у меня был еще ментором капитан S., который хотя и не сопровождал меня во время осмотра, но объяснил потом все, что могло интересовать меня с военной точки зрения. Оттого мое описание этого города вышло довольно объемистым и составило мой первый отчет в Главный штаб. Отчет этот, правда, не был никогда обнародован, но я его видел, по возвращении моем с Востока, в канцелярии военно-ученого комитета; только куда он, да и многие другие донесения мои девались потом – не знаю. Чиновник Барун, заведовавший этой канцелярией, тоже объяснить мне этого не мог… или не хотел. Быть может, об этом когда-нибудь и что-нибудь скажут генералы Обручев и Фельдман. Полковник же Гельмерсен, я знаю, читал мои донесения и, письмом в Шанхай, предлагал мне даже немедленно печатать их в «Русском инвалиде» и «Военном сборнике», с уплатою гонорара; но предложение это вовсе не было осуществлено до самого моего возвращения в Петербург, когда некоторые из моих рукописей я уже сам передал редактору, генералу Менькову, да и то списав их с черновых, у меня сохранившихся, а не с беловых, штабных.
Кантон некогда был богатейшим городом Китайской империи. Об этом свидетельствуют Стаунтон и все другие путешественники XVIII и первой половины XIX столетий. В 1869 году это было уже не так. Открытие европейцами, по Нанкинскому миру 1842 года[51 - Нанкинский договор – первый неравноправный, грабительский договор, навязанный Англией Китаю, он положил начало закабалению Китая капиталистическими странами.], Шанхая и других северных портов нанесло первый и очень сильный удар столице двух Куанов[52 - Столица двух Куанов, то есть двух провинций – Гуандун и Гуанси.], а война 1856–1860 годов довершила ее падение. За кантонцами осталась слава первостепенных торгашей и ремесленников; но достатки их сильно уменьшились с уничтожением монополии на внешнюю торговлю. Особенно же вредит Кантону соседство Гонконга: там, на почве «свободного обмена», цветет контрабанда, рядом с которой никакая правильная, то есть легальная, торговля невозможна. А тут еще пиратство в устьях Кантонской реки, откровенно поддерживаемое англичанами из того же Гонконга. Это пиратство нисколько не опасно для больших английских пароходов, посещающих Кантон; но оно очень опасно для китайских джонок, которые не могут бороться с разбойниками, всегда хорошо вооруженными винтовками и даже пушками, купленными в том же Гонконге. (Кажется, что оно не совсем исчезло и теперь, когда центр его, Тонкин, стал французским владением.)
В Кантоне мне впервые удалось видеть образец плавучего города. Хотя я знал о его существовании еще со школьной скамьи, но не имел верного понятия о его наружности, считая самое название города метафорою. Между тем в действительности это настоящий город, вроде Венеции, только без домов и площадей на сваях, а исключительно из лодок, стоящих почти плотно одна к другой. Есть улицы и кварталы, есть своя полиция, свое право собственности не только на лодку со всем, что она содержит, но и на известное место на реке. Китайцы на своих лодках держат и живность, особенно уток и кур, яйца которых частью едят, частью употребляют на вывод цыплят. Да они и своих детей родят и воспитывают там же, из поколения в поколение.
По возвращении в Гонконг мы увидели, что впереди у нас остается еще несколько часов времени, и потому, естественно, отправились в город, на этот раз многочисленным обществом. Нам советовали даже и не разделяться на мелкие кучки, а тем более не ходить в одиночку, по крайней мере в китайской части города, то есть на девяти десятых его протяжения. Китайские «дельцы», населяющие Гонконг, знамениты своими воровскими и даже разбойничьими проделками. Одинокого европейца, если он не вооружен порядочно, они останавливают среди белого дня на улице, бросают ему в глаза табаку, обирают и потом скрываются. Никто из соседних лавочников в свидетели грабежа не пойдет; напротив, все будут утверждать, что никакого подобного события не было на их улице. Мало того, иногда они завяжут ограбленному глаза и рот, выведут его за город, да и бросят где-нибудь в стороне от дороги: ищите, мол, разбойников где хотите. Даже в самом Гонконге, то есть в европейской части города, они сумели обокрасть банк, проведя издали, в каменистом грунте, подземный ход в кладовую и вытаскав по нему огромные суммы в серебре, то есть металле довольно громоздком и тяжелом. Для производства последней операции они воспользовались воскресеньем, когда все английские банки и конторы бывают заперты и совершенно пусты. Были ли участниками в этом монументальном воровстве китайские компрадоры, то есть счетчики банка, никогда не было дознано. Англичане знают китайцев хорошо и соответственно тому обходятся с ними. Как только смеркалось, ни один китаец не смеет показаться на улице без фонаря и без билета от полиции; а последний выдается только домохозяевам и ими может быть передаваем на время лишь жильцам их домов в случае крайней надобности, например, для выхода за лекарством или врачом. На городской пристани, где все лодочники – китайцы, полиция, в предупреждение воровства с их стороны, приказывает им держаться на их лодках в нескольких шагах от берега и только тогда дозволяет коснуться последнего, когда торг с нанимателем сампана (лодки) кончен в присутствии полицейского агента, а принесенные нанимателем вещи сложены у самого места нагрузки, откуда носильщики немедленно прогоняются… При таком порядке вещей естественно возникает вопрос: зачем же англичане позволяют жить китайцам в Гонконге, и притом в огромном числе – 115 000 душ на 2 500 европейцев? А это уже коммерческий расчет! Помощью этих-то «небесных» (celestials) негодяев[53 - Презрительная кличка, данная китайцам англо-французскими захватчиками.] совершается большая часть нечистых дел, которыми обогащаются английские купцы-князья, дворцы которых составляют европейский квартал города и которых именитейшие представители заседают уже в британском парламенте. Гонконг, как и Сингапур, есть один из важнейших мировых центров контрабанды и даже пиратства, а местные китайцы суть главные агенты по производству этих благородных промыслов, во славу of the christian civilisation. Только бы эти китайцы не делали мерзостей британскому населению города, а там пусть творят что хотят! Если же некоторые из них по неловкости попадутся, так что скрыть дела будет нельзя, то можно немедленно повесить их десяток-другой: перед этим здесь, как и в голландских колониях Зондского архипелага, не останавливаются, благо китайцев много, счета им никто не ведет и заступиться за них официально некому.
Меня очень интересовали в Гонконге Абердинские доки, выстроенные из гранита и служащие местом всяких исправлений и снабжений для английской эскадры в китайско-японских водах, которая в 1869–1870 годах достигала до 24 судов, в том числе нескольких броненосцев. Но время не позволило мне побывать там, ибо эти доки лежат вдалеке от города; да и доступ туда иностранцам, не принадлежащим к командам чинимых судов, затруднителен. Зато я мог посетить превосходный английский морской госпиталь, который помещен на трех больших старых кораблях, стоящих на якоре против самого города. Опрятность, чистота воздуха и даже свежесть его в больничных каютах поразили меня. Английские матросы и солдаты во время болезней помещаются едва ли не лучше, чем русские офицеры в наших пресловутых военных госпиталях, где и здоровый человек в два-три дня пребывания может легко заболеть. Как это достигнуто в жарком климате Гонконга, я не вполне понимаю; но очевидно, что система наружных галерей (балконов или веранд), – завешенных легкими бамбуковыми шторами, которые, не пропуская солнечных лучей, дозволяют, однако же, воздуху проникать всюду, – играет тут главную роль. Лед, как привозимый с Аляски, так и приготовляемый искусственно в самом Гонконге, также служит к немалому облегчению страданий больных, особенно лихорадочных и горячечных. Наконец, важным условием скорого выздоровления больных служит простор их размещения и возможность выходить из больничной палаты на верхнюю палубу, где, под полотняным навесом, можно прогуливаться, играть в шашки, читать или просто беседовать с товарищами. Плавучий госпиталь есть предмет особенного внимания и забот как губернатора Гонконга, так и адмирала, командующего флотом в Китайском море, и это не на словах или на бумаге, как бывает у нас, а на деле. Смертность в госпитале очень мала; гораздо меньше, чем даже в санаториях английской Индии.
Ну, а опиум, создавший величие и богатство Гонконга, где же он?.. Его уже почти нет или по крайней мере есть не больше, чем в Шанхае, Кантоне, Фучжоу и других открытых китайских портах. От времен, когда Гонконг пользовался монополией опиумной торговли, остались только великолепные памятники в виде дворцов Дента, Джардиня, Росселя и других отравителей Китая, да из этих дворцов первый, то есть, Дентов, обращен в гостиницу. Обширный дом Джардиня с великолепным парком, разведенным на голых некогда скалах, красуется несколько в стороне от города; но сам хозяин его живет в Лондоне и состоит членом парламента, как и товарищ его по фирме, Матисон. А сын великого отравителя, который держал тринадцать клиперов[54 - Клипер – быстроходное парусное судно.] для развозки контрабанды по китайским портам, уже принадлежит к сословию ученых и составил себе известность путешествиями в Австралию. Дома Джардиня, Росселя, Герда и пр. имеют свои отделы почти во всех портах Китая и Японии. Это ведь, собственно говоря, паевые товарищества, где всякий приказчик или конторщик, если, по испытании, найден надежным, получает пай или становится associe[55 - Associe (французск.) – компаньон.]. В этом безвестном звании он может сделаться богачом и потом стать основателем собственной фирмы; но обыкновенно этого не бывает, а разбогатевший пайщик только становится официальным представителем своего «дома» в одном из портов и тогда великолепно живет и пользуется почетом между собратьями, торговыми parvenus[56 - Parvenus (французск.) – выскочки.]. Чтобы достигнуть этого величия, нужно только не кутить смолоду и быть «хорошим», то есть плутоватым и наглым, приказчиком; затем два-три хороших надувательства китайцев или даже европейских собратьев – и репутация дельца установлена. Его ищут, как гения, для руководства делами какого-нибудь банка или огромной торговой фирмы, пароходной компании и т. п. Я знал потом одного такого «почетного» афериста в Шанхае. Он два раза спасался в Америку от расчетов за его коммерческие мерзости, но оба раза был выписываем снова в Китай, как «умнейшая голова», знавшая, кого, когда и на сколько можно обобрать безнаказанно. В шанхайском отделении «Hong-Kong and Shangai bank'a»[57 - Hong-Kong and Shangai bank (английск.) – Гонконг-Шанхайский банк, филиал «Банка Англии», один из главных рычагов закабаления Китая.] он был чуть ли не директором, и грудь его была украшена одним иностранным крестиком, потому что он был в то же время чьим-то вице-консулом, или, как говорилось, charg? des affaires[58 - Charg? des affaires (французск.) – поверенный в делах.] одного посольства, чинам которого платил по 18 процентов годовых за вверяемые ему на текущий счет их капиталы… Другой подобный коммерческий гений – уже не из янок, а из макаоских португальцев – привел к банкротству колоссальный дом Дента и, ничего, продолжал пользоваться уважением торгового мира! О коммерсантах из евреев, вроде Сасуна и Ландштейна, или персов, вроде Фрамжиев, Новроджиев и пр., я уже не говорю: это народ, при приближении к которому нужно зашивать карманы, если в них что-либо есть. Это они-то доныне отстаивают теорию, которую так наивно высказал в английском парламенте бывший гонконгский губернатор Джон Боуринг, что «опиум – это предмет роскоши у китайцев, как у нас табак или херес: зачем же воспрещать его продажу, в ущерб бюджету Индии?».
Я запасся в Гонконге кое-какими книгами и картами, которых мне недоставало, и вечером, на самом заходе солнца, мы двинулись в путь. «Камбоджа» значительно опустела, потому что с нее сошли все пассажиры, ехавшие в Гонконг, Кантон, Макао, Манилу и северокитайские порты. Для последних был назначен особый пароход той же компании «Messageries Francaises», который и шел за нами следом, пока в Формозском проливе не отделился от нас на запад, тогда как мы держали курс на северо-восток. Формозский пролив не без основания пользуется дурной репутацией между моряками: подобно Ла-Маншу, он вечно в волнении от ветров. Но еще хуже репутация Китайского моря, начинающегося по выходе из него: тут находится область знаменитых тайфунов, которые приводят иногда море в состояние бешенства или кипения, без всяких признаков правильности в направлении огромных пенистых волн. Наш капитан часто заглядывал на барометр и в книгу Пиддингтона о теории штормов, иногда покачивал боязливо головой, но вообще вел корабль твердой рукою. В этом отношении нужно отдать справедливость компании «Messageries Francaises»: не пожалев денег на жалованье капитанам, она привлекла к себе на службу лучших офицеров французского флота, и оттого с ее пароходами случается гораздо меньше несчастий, чем, например, с судами английской «Peninsular and Oriental Company» или американской «Pacific Mail Steamship Company»[59 - «Pacific Mail Steamship Company» (английск.) – Тихоокеанская компания почтовых пароходов (американская).]. Впрочем, сомнения нашего осторожного командира не оправдались: штиль сопутствовал нам от берегов Формозы до самого почти входа в Вандименов пролив. Мало того, с приближением к последнему нас охватил такой туман, что нужно было сначала уменьшить ход, а потом и вовсе повернуть на запад, чтобы не наткнуться на скалы, которые лежат в соседстве пролива. Благодаря этим слишком уж осторожным маневрам мы потеряли целых десять часов, но зато, когда погода прояснилась, имели удовольствие видеть себя вдали от опасности. Скоро я мог показать Шеврье и другим спутникам превосходный, чисто геометрический конус пика Горнера, и затем мы уже вообще начали следить за живописными берегами Японии, которые от времени до времени появлялись на горизонте, иногда очень близко от нашего пути. «Quel beau pays!»[60 - Quel beau pays (французск.) – какая красивая местность!] – было почти постоянным и всеобщим восклицанием, к которому присоединилось и другое: «Какой приветливый народ!» – когда мы перед входом в Иедоский залив увидели несколько японских лодок, находившиеся на которых рыбаки любезно раскланивались с нами. Да, есть огромная разница в темпераментах и обычаях трех соседних наций: японской, китайской и малайской, несмотря на то, что они часто живут и издавна жили в тесном соприкосновении, подчинялись влиянию одного и того же буддизма, одной и той же китайской грамотности и плавали по одному и тому же морю на одинаковых джонках.
Но вот и Иокогама, с целым флотом судов перед ней и с построенным на холме домом английского посольства над ней. Ведь это уж самый «крайний Восток»; ехать далее некуда. В прежние, поэтические времена сколько бы радостных чувств излилось по этому случаю, а теперь даже поэт Колон, лет 19 от роду, занимается в минуты окончания 45-дневного странствования чем же? – сведением счета расходов от Марселя!.. Правда, он швейцарец и приехал в Японию сколотить капитал продажей и починкой часов. А о Шеврье и говорить нечего: он стал серьезен и больше всего интересуется тем, какие цены на шелк стоят в Иокогаме и как велик будет учет в местном отделении «Учетной конторы».
По приезде в Иокогаму, как ни был я доволен концом полуторамесячного плавания и достижением первой цели путешествия, я не мог не поставить себе еще раз вопроса: что меня ожидает тут и позднее в других местах, где предстояло мне жить? Так как в Иокогаме и Иедо[61 - Иедо – старое название Токио.] не было русской миссии, ни даже консульства, то я становился единственным русским, обитающим вблизи японской столицы, без всяких практических занятий. Затянись такое пребывание надолго, и подозрение в том, что я – тайный русский агент, попросту a russian spy[62 - A russian spy (английск.) – русский шпион.], непременно укрепилось бы, как в иокогамских европейцах, так и еще более в японцах; а такое подозрение было бы слишком для меня невыгодно, даже опасно ввиду того, что еще недавно японцы вырезывали неприятных им европейцев, а со мной могли расправиться тем легче, что за меня некому было бы заступиться. Вот почему положил я себе на этот раз не жить долго в Иокогаме, а, познакомившись с начинавшимися у японцев военными реформами и с ходом продолжавшейся еще у них междоусобной войны, уехать в Шанхай и Пекин. Полагаю, что это решение было благоразумно, хотя и опрокидывало мой первоначальный план, по которому первый год моей командировки я полагал посвятить Японии, а второй Китаю. Итак, на другой же день по моем водворении в «H?tel des Colonies»[63 - «H?tel des Colonies» (французск.) – гостиница «Колониальная».] начал я искать способов ознакомиться: 1) с современным японским государственным устройством и 2) с состоянием флота, войск и военных учреждений в Японии. На первый вопрос, к сожалению, ниоткуда удовлетворительного ответа я получить не мог. Ни иокогамские европейцы-купцы, ни иокогамские английские и американские журналы «Japan Herald» и «Japan weekly Mail»[64 - «Japan Herald» (английск.) – газета «Японский вестник». «Japan Weekly Mail» (английск.) – журнал «Японская еженедельная почта».], ни даже дипломатические и консульские чиновники, с которыми удалось познакомиться[65 - С этой целью, по просьбе моей, был устроен Шеврье обед, на который были приглашены некоторые его знакомые из французских консульства и посольства, между прочим известный знаток Японии и японского языка дю Буске.], ничего определенного не знали сами. Им, конечно, было известно, в общих чертах, что тайкунат опрокинут и микадо сам взялся за управление государством, но и только[66 - М. И. Венюков посетил Японию в то время, когда в стране происходила буржуазная революция 1868 года, внешний толчок которой дали попытки иностранных капиталистических стран превратить Японию в колонию. Завершилась падением власти сёгуната, или тайкуната, как называет его М. И. Венюков, то есть феодального абсолютизма. Сёгун – титул японских военных диктаторов, в процессе войн и ослабления власти микадо (императора) захвативших фактическую государственную власть. В результате ликвидации сёгуната была восстановлена императорская власть.Японская буржуазная революция была половинчатой, она дала возможность сохраниться значительным пережиткам феодализма и передала власть в руки помещичье-буржуазного блока.]. Чем заменен многовековый феодальный строй и заменен ли еще чем? кто наиболее влиятельные лица около микадо? и как зовут его самого? и что он за человек? – я ни от кого узнать не мог, хотя много было в Иокогаме лиц, видевших, как микадо был пронесен через Канагаву в Иедо в золоченом домике, или клетке, с наглухо завешенными окошками. Иные, видя под редкими заявлениями правительства подпись Даи-зиокан, думали и уверяли меня, что это – официальное имя микадо, подобно тому, как в Китае богдыхан Жень-ди официально назывался Кхан Си и с последним именем перешел в историю; настоящего же собственного имени микадо никто не знал, ибо таков был древний обычай в Японии – скрывать священное имя главы государства от подданных, чтобы не подвергнуть его профанации. Кое-что, да и то смутно, узнал я о роли в японской революции Сацумы, Тозы, Нагато, Айдзу; упоминали передо мной имена Санжо-дайнагона и Ивакуры-цюнагона[67 - Санжо – Сандио. Ивакура и Санжо являлись представителями придворной аристократии, то есть феодальных элементов. В этом сказывалось взаимопроникновение феодально-помещичьей и торгово-промышленной групп, создавшее непреодолимое препятствие к завершению в Японии буржуазной революции.]; но какой исход имела их деятельность, – мне никто объяснить не мог. Лето 1869 года вообще было смутной, переходной эпохой в японской истории.
Скоро, впрочем, разнесся слух, что последние защитники тайкуната, находившиеся в Хакодате под предводительством адмирала Еномато, взяты в плен и что, следовательно, междоусобная война кончилась. При этом рассказывали, что во время борьбы двух сторон войска микадо, видя, что их противникам нечего есть, посылали им продовольствие и что, когда зашла речь о сдаче тайкунцев, почти поголовно израненных, то им дозволено было сначала израсходовать все патроны, чтобы сохранить военную честь. Эти два рассказа казались сначала анекдотами, но они были подтверждены многочисленными свидетельствами очевидцев и дали мне высокое понятие о рыцарском духе японского народа и, в частности, сословия саймураев[68 - Саймураи – самураи, одно из господствующих сословий в Японии, в то время низшие слои дворянства, составлявшие военные дружины феодалов. В буржуазной революции 1868 года выступали против феодального режима.] (шляхты), из которого тогда формировались войска как микадо, так и сиогуна.
Около Иокогамы, несколько севернее ее, были казармы одного батальона победителей; и когда он, наконец, вернулся с театра войны, то я пошел посмотреть жилища, служебные порядки и ход военного образования героев. Оказалось, что по отношению к помещению все европейские солдаты, кроме английских, могли бы позавидовать японцам, потому что эти помещения были необыкновенно опрятны, достаточно просторны и пользовались совершенно чистым воздухом. Последнее, впрочем, неудивительно, потому что в Японии и самая невзрачная хижина крестьянина-бедняка проветривается отлично, благодаря обычаю иметь днем все двери настежь; но казармы, благодаря присутствию в них множества людей и особенно их одежды и амуниции, в целом свете (опять-таки, кроме Англии и ее владений) отличаются известным запахом, и вот этого-то запаха не было в иокогамских. Постелями солдат служили, как везде в Японии, широкие нары, днем прикрытые одними бамбуковыми циновками, чрезвычайно чистыми, а ночью – войлочными и ватными подстилками и одеялами, которые хранились в самих нарах. Вместо подушек были обычные у японцев скамеечки или обрубки дерева с выемкой для головы; они тоже днем сохранялись внутри нар. Так как казармы были разделены на мелкие комнаты, человек на десять каждая, то сохранение постелей, запасной одежды и других вещей не требовало сундуков с замками, потому что однокомнатные товарищи хорошо знали друг друга, и воровство между ними было неизвестно. Оружие и амуниция висели на стенах, у изголовья каждого солдата; другие вещи, если имелись, находили себе место в небольшой мансарде, которая обычна во всех японских домах и иногда служит жилищем-спальней для стариков и детей, а у солдат заменяла кладовую. Ранцев – этого ярма европейских воинов – у японских не было вовсе. Одежда их состояла из сюртука и панталон легкой черной шерстяной ткани без всяких кантов, обращающих военный мундир в ливрею. Она была настолько широка, что не теснила солдата при самых трудных движениях. Обувь, по дороговизне европейской, была японская, то есть сандалии и чулки; головной убор – картуз того фасона, как у моряков, то есть невысокий цилиндр (а не безобразный и вредный конус, как в кепи) с плоским козырьком. Он прикрывал, в большей части случаев, нелепую японскую прическу с сосискою из волос; но встречались уже солдаты, стригшие волосы по-европейски. Самое небольшое количество галунов служило для отличия офицеров и унтер-офицеров от солдат; о бессмысленных эполетах, разумеется, не было и речи. Амуниция состояла из двух патронных сумок, поясной и через плечо, да национальных сабель – неизбежного еще остатка шляхетных традиций, с которыми расстаться саймураи не соглашались, как с символом их дворянского достоинства. Ружья у иокогамского батальона были системы Снайдерса; но в других, как мне говорили, были употребляемы и иные системы, потому что японское правительство, по незнанию военного дела и неимению собственных оружейных заводов, покупало тогда всякое скорострельное оружие, какое доставляли ему европейские купцы в Иокогаме и Нагасаки. Поддержка оружия в исправности оставляла желать многого, так как японские солдаты не забывали, что они – саймураи, то есть благородные, и чисткой занимались неохотно. Учебная стрельба производилась редко, вероятно по недостатку или дороговизне патронов; самые фронтовые учения не были часты, гораздо реже, чем у нас или в Пруссии; оттого фронт не был щеголеват. Зато караульная служба составляла упражнение постоянное и приучавшее солдат к одним из главных трудностей военного дела: перенесению устали и к бдительности.
Наблюдая занятия японских солдат во время караулов, я не без удовольствия заметил, что те из них, которые не стояли на часах, а оставались в караульном доме, не предавались азартным играм, спанью или выпивке, как у нас, а предпочтительно читали книги или просто беседовали. Конечно, тут многое могло зависеть от устава, запрещающего те или другие развлечения и дозволяющего лишь известные; но мне не раз приходил в голову, и притом совершенно серьезно, вопрос: когда-то русские солдаты будут в караульных домах заниматься чтением, а не битьем друг друга по носам картами, игрой в орлянку или курением вонючей махорки? Двадцать пять, пятьдесят или сто лет потребуются для такой перемены нравов? И я готов был отвечать сам себе: пожалуй, более ста, потому что в это время граф Д. Толстой[69 - Толстой Д. А. (1823–1889) – царский министр народного просвещения, реакционер, ярый противник обучения народа.] употреблял все меры, чтобы «мужичье» оставалось безграмотным. С другой стороны, меня занимало то обстоятельство, что в японской армии вовсе не было и помину о телесных наказаниях, хотя бы расштрафованным, а между тем солдаты вели себя примерно: ни драк, ни буйств, ни воровства, ни нарушений дисциплины, сколько-нибудь выдающихся. Самым жестоким наказанием за порочное поведение было изгнание из роты или батальона по приговору товарищей. При мне был один такой случай в Иокогаме, не знаю уж, чем обусловленный. Провинившийся и осужденный плакал, как ребенок, валялся по земле, умоляя сослуживцев о прощении, но все было напрасно. С него сняли мундир, оружие и выпроводили за калитку казарменного двора, не нанося ему, однако, ударов. Так по крайней мере мне рассказывал очевидец.
Наравне с ознакомлением с японской армией я старался ознакомиться с путями ее перемещения в случае войны. Оказалось, что главный из них – морской, как оно и естественно и даже выгодно в стране, омываемой морем и раздробленной на множество островов. Чтобы пользоваться им независимо от иностранцев[70 - Которых обойти, однако же, было трудно, например при возвращении войск из Хакодате в Иедо.], японские даймиосы, или удельные князья, накупили множество пароходов и даже парусных судов европейской постройки, а правительство бывшего сиогуна Хитоцу-баси (Стоцбаши) приобрело даже броненосец, из числа распродававшихся американцами после междоусобной войны в Соединенных Штатах. Денег на это было истрачено массу и часто вполне бесполезно, потому что европейцы продавали всякую дрянь, слегка лишь покрасивши корпус судна, другой раз совершенно гнилого. Да и японцы были несведущи в мореплавании по-европейски, особенно на пароходах. В Иокогаме все помнили, как они, пустив в ход машину на первом купленном ими пароходе, не умели ее остановить и потому все делали круги по рейду и, наконец, подали сигнал об опасности, к общему смеху европейцев, стоявших на берегу и на палубах кораблей, бывших в порту. Итак, морской путь для перевозки войск был хоть и главный, но не всегда надежный, а при войне с какой-нибудь сильною морскою державою и просто невозможный. Нужно было обратить внимание на дороги сухопутные, и я занялся их изучением и, во-первых, с точки зрения проходимости для войск всех родов оружия. Оказалось, что даже пресловутые семь больших дорог (Токаидо, Ханкаидо и пр.) не везде годны для движений кавалерии и артиллерии, потому что на них, как и на всех прочих, в гористых частях края встречаются лестницы, доступные только пешеходам. Это было повторением системы шоссейных дорог, построенных по другую сторону Тихого океана – в Перу, инками и так затруднявших движение конницы Пизарро и Альмагро. О мелких, проселочных дорогах нечего и говорить: они в Японии сплошь и рядом обращаются в лестницы, хотя устроены с немалыми издержками на камень, часто даже плитняк, которым вымощены. Большие дороги по большей части обставлены рядами деревьев, предпочтительно хвойных, которые не теряют листвы зимой. При разнообразии форм и цвета этих деревьев это делает японские дороги очень живописными, а в жаркое время доставляет путникам и прохладу; но зато в дождливую пору не позволяет грязи высыхать с достаточной скоростью. Мосты, где они есть, почти все деревянные, очень выпуклые в средине и узкие; но на больших реках переправы делаются предпочтительно на паромах, а иногда и вброд, причем у перевоза всегда есть толпа носильщиков, опытных в деле и хорошо знающих русло реки. Японские паромы обыкновенно невелики. Не нужно забывать, что в Японии, как во всякой гористой стране, иногда даже ничтожнейшие ручьи так вздуваются от дождей, что переправа через них становится невозможной.
Большую часть всего сейчас сказанного мне легко было узнать по личным наблюдениям вокруг Иокогамы и Иедо и из книг европейских путешественников, проникавших внутрь страны, от Кемпфера до Олкока. Но иное было дело относительно направления дорог, так как все европейцы, бывавшие в Японии, путешествовали почти постоянно лишь по одной линии из Осаки в Иедо – по так называемой Токаидо, с придачей еще небольшого пространства от Кокуры до Нагасаки на острове Кюсю. Даже у Зибольда сведения по этой части очень несовершенны, а все прочие путешественники по Японии, кроме Кемпфера, видимо, пренебрегали этой, конечно очень сухой, но важной частью географии. По счастью, у японцев есть немало карт специально дорожных, а между географическими находятся столь значительного масштаба (например, Ино, 10? верст в 1 дюйме), что нет особого труда отыскивать важнейшие пути по стране. Я немедленно купил целую коллекцию этих карт и отправил их в Петербург, присовокупив и таблицу расстояний между важнейшими городами Нипона и Кюсю. Для составления последней, которая в печати заняла потом всего одну страницу, пришлось работать более недели, так как нужно было сначала списать маршруты по кратчайшим путям, перевести японские ри в версты и сделать массу сложений, а иногда еще брать расстояния с карт циркулем по масштабу, так что для какой-нибудь одной цифры, потом исчезавшей в ряду других слагаемых, тратилось нередко пять-шесть минут времени, не говоря уже про плату переводчику, работавшему по часам.
Покупая японские карты, не мог я обойти и планов хотя бы важнейших городов: Иедо, Осаки и т. п., которые все составлены японцами очень тщательно и отлитографированы иногда с изяществом. Вообще любопытно, что хромолитография очень развита у японцев и приложение ее к картографии сделано ими едва ли не раньше, чем европейцами. Можно иногда упрекнуть их в излишней яркости красок, в неудачном выборе условных знаков, слишком грубых и не довольно вразумительных; но сказать, что японцы не умели литографировать карт, никак нельзя. Да не только литографировать, а и составлять, что гораздо труднее, потому что требует знания геодезии и топографии. Полагаю, что на всех японских картах астрономические пункты нанесены по европейским определениям главным образом Крузенштерновым[71 - Крузенштерн И. Ф. (1770–1846) – знаменитый русский мореплаватель, руководил вместе с Ю. Ф. Лисянским (1773–1837) первой русской кругосветной экспедицией. Экспедиция Крузенштерна произвела многочисленные съемки побережий Тихого океана.]; но все, что внутри береговой линии, конечно, основано на японских съемках. Эти съемки были отчасти маршрутными, отчасти кадастровыми, но не топографическо-инструментальными; оттого горизонтальные очертания рек и дорог по большей части верны, а ситуация плоха да в придачу еще испорчена рисованием гор в полуперспективе, а не в плане.
Покупая карты в магазинах, где вместе с тем продаются и картинки, не мог я, разумеется, не обратить внимания на последние. Их рисунок и окраска известны всем, но не все обращают внимание на две особенности японской хромолитографии, да и живописи, которые, однако же, очень замечательны. Первая состоит в необыкновенном уменье художников представлять падающий снег и дождь, чего европейские артисты, даже первоклассные, делать не умеют. Вторая особенность, тоже техническая, но в другом роде, состоит в уменье японцев приготовлять цветные эстампы, сжимающиеся или растягивающиеся. Вы покупаете картинку вершка в четыре длиной и вершка три шириной, отпечатанную как будто на крепе или шагреневой, матовой бумаге; потяните ее – и поверхность ее удвоится, утроится, даже учетверится, с сохранением полной пропорциональности частей рисунка и взаимных отношений теней и красок. Вы можете наклеить вашу картину в таком растянутом виде; но если перестанете ее растягивать, она сожмется почти до прежнего объема. Как это достигается, я не знаю, но несомненно, что для подобных картинок приготовляется особая бумага из очень крепких, растяжимых, но упругих волокон. Шагреневая же поверхность может сообщаться и прессованием уже отпечатанной картинки, как то делается с японскими крепами или кисеями.
Изучение японской картографии, а вместе и географии, не мешало мне заниматься и статистикой Японии. На первый раз я избрал предметом изучения японскую внешнюю торговлю, быстрое развитие которой составляло самый выдающийся факт из экономической истории страны. Шеврье помог мне своими связями в иокогамском коммерческом мире; из торговой палаты я достал ведомости привоза и вывоза; новые знакомцы-купцы пояснили мне обычный ход их негоциаций с японцами, значение на японском рынке разных предметов привоза из Европы и Америки и значение для Европы и Соединенных Штатов некоторых статей отпуска, например, шелка, яичек шелковичных червей, чая, лакированных изделий и пр. Нетрудно было заметить, что японская внешняя торговля совершенно изменилась не только по объему, но и по характеру с того еще недавнего времени, когда единственными европейскими торговцами в Японии были голландцы, содержимые почти под арестом в Дециме. Европейско-американские купцы теперь командовали рынком, несмотря даже на то, что работали каждый про себя, тогда как у японцев все делалось с общего согласия. Имея в своем распоряжении морские перевозочные средства, которых совершенно лишены еще были японцы, английские, американские и французские торговые дома ставили цены, определяли размер ввоза так, чтобы рынок был далек от переполнения европейскими продуктами, и делали все возможное, чтобы заставить японцев отдавать их произведения по низким ценам. Три или четыре банка с крупными капиталами помогали им изворачиваться в трудных обстоятельствах, когда упорство японских торговцев грозило задержкой в операциях и, следовательно, убытками. Словом, торговля для иностранных купцов была вполне активной, тогда как для японцев она оставалась пассивной. Величайшей, самой трудной заботой для европейцев было собрание сведений об урожае чая и шелковичного червя. Проникать внутрь страны, чтобы видеть на местах размеры производств, им было нельзя; а иокогамские японцы из года в год повторяли, что ныне – полный неурожай на чайных плантациях и половина шелковичных червей погибла от холода или неурожая шелковицы. Гренеры[72 - Гренеры – скупщики; грена – яички шелковичных червей.] бывали нередко в отчаянии оттого, что в продаже вовсе не было картонов[73 - У японцев яички шелковичных червей отлагаются не на кусках полотна, а на кусках картона, длиною вершков семь и шириною четыре.], за которыми они прибыли издалека, хотя, в сущности, у японских купцов магазины уже были полны этим товаром. «Открыть цену» на яички шелковичных червей, то есть совершить первую сделку, было делом такой же важности, как некогда в Кяхте или Нижнем Новгороде открыть цену на чай. Торговец, которому это удавалось, да еще на выгодных условиях, считался героем, почти как сапер, которому удалось подвести мину под неприятельский редут и взорвать его прежде, чем противник успел разрушить всю подземную работу камуфлетом. В торговле шелком затруднений было меньше, потому что цены на него регулировались известиями из Шанхая – главного рынка для этого товара на всем «крайнем Востоке», однако и тут без борьбы и уловок не обходилось. То же почти было и с чаем, покупка которого была, впрочем, монополизирована двумя-тремя американскими домами. О мелочах, вроде лаковых изделий, фарфора и пр., я не говорю: торговля ими предоставлялась третьестепенным барышникам и подвергалась всевозможным колебаниям от разных случайностей. Стоило, например, прийти в порт двум-трем иностранным военным судам, офицеры которых бросались на покупку портсигаров, перчаточных ящиков, вееров, бронзовых игрушек и пр., чтобы цены на все эти предметы возросли в японских лавках Иокогамы на 20 процентов. Оптовой торговли ими ни один большой европейский дом не вел.
Одной из любопытных особенностей иокогамского рынка было важное значение на нем китайцев. Эти «небесные» торгаши пришли в Иокогаму на хвосте европейцев, без всяких трактатов поселились в сторонке в европейском квартале и скоро превысили числом всех западных негоциантов, взятых вместе.
Желая сохранить вид человека, превыше всего заботящегося о судьбе сахалинского каменного угля, я намеренно расспрашивал кого мог о порядке снабжения минеральным топливом европейских пароходов, машинного завода в Иокогаме и пр., о ценах на разные сорта угля, о способе его доставки, о принадлежности угольных складов разным владельцам и вообще обо всем, что касается до этого товара. Начальник французской военной эскадры нешутя спрашивал меня: нельзя ли будет заключить контракт о снабжении его судов сахалинским углем, к кому по этому делу следует обратиться, где будут учреждены склады и какие примерно будут установлены цены? Легко себе представить, в какое щекотливое положение ставили меня эти вопросы. Придавая, однако, себе серьезный и даже таинственный вид, я отделывался уклончивыми ответами вроде того, что все дело получит организацию лишь тогда, когда русское Министерство торговли (!) по моим донесениям изучит вопрос всесторонне, то есть когда я успею объехать все китайские и японские порты и вернусь, через Владивосток, Сахалин и устье Амура, в Россию. Мистификация эта, сверх ожидания, удавалась как нельзя лучше, так что иногда мне самому становилось смешно. Но не все мои собеседники были простодушны. Один янки, бывший во Владивостоке и хорошо знавший японские порты, говорил мне, улыбаясь: «А кто же у вас будет комиссионером по продаже угля? трактирщик Алексеев[74 - Простолюдин Алексеев, державший харчевню в Хакодате, был единственный русский торговец в Японии в 1869–1870 годах. Не знаю, больше ли их теперь?], что ли, делающий в Хакодате обороты тысячи на три долларов в год? или вы пришлете чиновника с вахтерами для заведования складом? Так не было бы случаев самовозгорания каменного угля…».
Месяца времени было за глаза довольно «для изучения каменноугольного вопроса» в Иокогаме, и потому я, осмотрев еще береговые укрепления Иедо, но отказавшись от поездки в Иокосуку, как в местность, где «нет ничего, кроме неинтересующего меня японского адмиралтейства», – решился выехать в Нагасаки и Шанхай. К этому, впрочем, побуждали меня не одни дипломатические соображения, а и недостаток денег: у меня оставалось в кармане всего полтораста долларов. Сто из них нужно было заплатить компании «Pacific Mail Steamschip», а затем с пятьюдесятью добраться из Шанхая в Пекин, будь это возможно. Итак, распростившись с моими иокогамскими знакомыми, французами, швейцарцами и американцами, я переехал в один прекрасный вечер на пароход «Нью-Йорк» и назавтра поутру, часу в восьмом, проснулся уже в открытом море. Погода была прекрасная, и мы делали по десяти миль в час. Капитаном у нас был некто Фурбер, столь искусный и деятельный, что компания не страховала его парохода от случайностей в море. Плавание шло превосходно.
На пароходе, сверх нескольких европейцев, было два-три японца, ехавших в Нагасаки, в том числе мальчик лет четырнадцати, который удивлял меня познаниями в географии и европейских языках, французском и английском. Когда я показал ему русскую карту России, он без малейшего затруднения показывал на ней и называл главные города, горы, реки и пр., произнося притом названия лучше, чем это делают многие европейцы, хотя и не умея читать по-русски. Из математики он знал стереометрию и умел не только написать, но и вывести отношение между шаром, цилиндром и конусом; задача о двух светящихся точках, видимо, занимала его, и он бойко составлял уравнения как для нее, так и для знаменитых «собаки и лисицы». Живой, вертлявый, но грациозный, с умными глазами и страшной любознательностью, он производил на меня самое отрадное впечатление, но скоро я добрался и до слабой его стороны. Развитость его распространялась не на одну научную область, а и на эротическую. Он спрашивал меня, бывал ли я в иокогамском «иосиваре»?[75 - Иосивара – отдельный квартал домов терпимости в японских городах.] и на вопрос мой: что это такое? – отвечал, что это жилище красивых женщин, занятие которых состоит вот в чем… И он показал целый ряд картинок самого откровенного содержания, вроде тех картин, которые показываются «по секрету» туристам в Помпее и свидетельствуют о нравственности «классического» мира.
– Где вы достали это? – невольно сорвалось у меня с языка.
– А в иосиваре же; мне это подарили там на память.
Замечательно, что на картинках изображались не только японцы, но и европейцы, с необыкновенной верностью типов английского, французского и пр. Я жалел потом, что не накупил этих картинок и не передал их на хранение… ну, хоть в азиатский музей Академии наук, если не в публичную библиотеку. Стоило бы даже их выставить где-нибудь в Хрустальном дворце или Кенсингтонском музее как доказательства «христианской цивилизации» просветителей крайнего Востока, какими считают себя особенно англичане.
Спускаясь с палубы в столовую залу, я уже морщился заранее от супов с перцем или с устрицами, от недожареной говядины и от сладких пирогов с инбирем, которые мне опротивели на американских пароходах еще в прошлом году. К удивлению моему, стюард «Нью-Йорка» не следовал этой американской системе кормления людей пряностями и сырьем, а дал нам очень удовлетворительный завтрак в общечеловеческом вкусе. Дело в том, что в Иокогаме и Шанхае сами янки делают уступки европейским привычкам, и повара на их пароходах не так свирепо атакуют желудки пассажиров перцем и инбирем. Сам капитан Фурбер вовсе не жаловал пряностей и признавался, что мнение его соотечественников, будто в море, да еще в жаркую пору, нужно употреблять перец, есть предрассудок. Однако от противного curry, то есть риса с зеленоватой перечной подливкой, мы не ушли. Это уж повседневное, любимое блюдо англичан на всем Востоке, начиная с Адена; а так как они везде составляют большинство путешественников, то для них и готовят эту не жидкую, а полутвердую перцовку.
– Видите: оно и дешево и сердито, – как говорил мне потом один соотечественник в Шанхае, тоже вошедший во вкус к curry.
– Да, так сердито, – отвечал я, – что собаки отказываются его есть, когда бывают голодны.
За завтраком, кроме curry, я увидел еще одну противную вещь: европейского пройдоху из титулованной знати… Впрочем, был ли этот авантюрист аристократом, это еще вопрос, но в Японии он ходил за графа де Мон-Блана и держал себя с поразительной надменностью. Начать с того, что он явился к столу лишь при самом конце завтрака, конечно, чтобы показать свою важность, чтобы дать себя заметить как не простого смертного. Затем он уселся особо, на другом конце общего, не совсем полного стола, vis-?-vis с капитаном, и имея около себя только своего «домашнего секретаря», чрезвычайно подобострастного, но с глазами бойкого травленого плута, едва ли не командовавшего своим принципалом. После этого начался придирчивый осмотр стоявших перед тарелками стаканов и рюмок, причем «граф» корчил недовольную мину и в то же время сверкал камнями, а может быть и подкрашенными стеклами, многочисленных перстней, которыми были украшены его далеко не аристократические костлявые руки с мозолистой кожей на суставах и с заусеницами. Затем на предложение «секретаря» потребовать к завтраку «романеи или кло-де-вужо» его сиятельство громко отвечал, что на американских пароходах не может быть порядочных вин, а потому потребовал пива, по полбутылке на брата. Съев после этого кусок ветчины и бросив в глаз монокль, он громко спросил капитана через весь стол:
– А что, мы будем тогда-то в Нагасаки? – и, не дав ему ответить, прибавил: – Князь Сацума высылает для меня туда пароход, и мне бы не хотелось заставлять его ждать меня в Нагасакской гавани.
Хладнокровный янки-капитан не дал себя в обиду: он сначала договорил, что было нужно, со своим собеседником, а потом уже сказал г. де Мон-Блану:
– Сэр, я никогда не опаздываю против расписания; если же состояние моря или судьба потребует захода в какой-нибудь промежуточный порт, то, конечно, зайду.
И, отвернувшись, опять продолжал разговор с соседом, не обращая внимания на молниеносные взгляды его сиятельства, недовольного, что с ним обошлись как с простым смертным. Надменно-заносчивое поведение графа продолжалось во все время плавания, причем он добивался даже, чтобы другие пассажиры при встрече с ним на лестнице, в проходах и даже на палубе давали ему дорогу, на что однажды какой-то янки и ответил ему тем, что, взяв за плечи, отвел слегка в сторону от прохода, прибавив сухо, плохим французским языком: «Monsieur, on ne s'arr?te jamais sur le passage»[76 - Monsieur, on ne s'arr?te jamais sur le passage (французск.) – «господин, не стойте никогда в проходе».]. Я был очень доволен этим нравоучением, после которого де Мон-Блан скрылся в свою каюту и не показывался до самого Нагасаки, куда князь Сацума никакого парохода за ним, конечно, не присылал. По сходе с «Нью-Йорка» этой надменной особы в публике говорили, что это просто авантюрист, которого французские посланник и даже консул не принимали к себе и если не арестовывали за самозванство, то лишь потому, что списки савойской знати им были не довольно известны[77 - Савойя была очень недавним приобретением Франции, и предполагать существование в ней графов де Мон-Блан естественно.]. Относительно же Сацумы поведение де Мон-Блана состояло просто в надувательствах этого богатого феодала, который покупал много оружия, пароходов, машин и других европейских произведений по рекомендациям савойского графа, конечно, заставлявшего платить себе за факторство и князя, и тех купцов, которых рекомендовал ему. Фразы о благе Японии, о прогрессе японской нации и о блистательной роли, выпадающей при этом движении вперед на долю князей сацумских, не сходили при этом с языка пройдохи.
Кобе, около которого мы сделали первую остановку на 5–6 часов, был в 1869 году только что возникшим маленьким городком, очень красивым и подававшим надежду перещеголять Иокогаму даже торговыми оборотами. В самом деле, соседняя Осака искони считалась первым торговым городом Японии, портом Киото и самых богатых центральных провинций Ниппона[78 - Ниппон – старое название острова Хонсю (Хондо), крупнейшего из японских островов.]. Однако надежда эта не оправдалась потом, и не только Иокогама, но и Нагасаки перетянули. Впрочем, большого убытка европейским негоциантам, основавшимся в Кобе, оттого не было: это ведь были отделы тех же самых фирм, что находились в Шанхае, Иокогаме, Нагасаки и пр., так что в сумме обороты их не только не страдали от скромности торговли в Кобе, но во всяком случае возрастали. Я не помню теперь, в том ли же самом порядке, как в Иокогаме и Шанхае, стояли вдоль набережной дома коммерческих тузов Кобе; но вообще порядок этот был во всех китайско-японских портах таков: Джардинь – Матисон, Гловер, Россель или Пустау, Уольш – Холл, Герд, Адамсон-Бель и так далее, соответственно богатству фирмы, причем дом Джардиня был всегда ближайшим к таможне или к английскому консульству. Любопытной и притом очень приятной особенностью Кобе являлся сад для прогулок, составленный из вековых, очень тенистых деревьев. Этой почти необходимой принадлежности цивилизованной жизни не имела в 1869 году никакая другая европейская «концессия» (квартал) в портах крайнего Востока. В Шанхае, правда, развели маленький садик на набережной, но это было жалкое подобие публичного гульбища: ни малейшей тени, теснота, ни буфета, ни музыки, и только в известные часы толпа китайских «нянек», или, как англичане попросту говорили, «of Chinese girls»[79 - Of Chinese girls (английск.) – китайских девушек.]. В Кобе сад представлял все условия стать действительным местом отдохновения и от жары, и от трудов, хотя и в нем не было ни музыки, ни буфета. Это был прежний сад какого-то князя, земля которого была отведена правительством под европейский квартал.
Так как в маленьком Кобе, кроме сада, смотреть было нечего, то мы прогулялись в соседний большой японский город Хиого, знаменитый своими каменными набережными, на постройку которых один сиогун высылал тысячи народа и затратил большие деньги. Хиого действительно и доселе имеет удобный порт, глубокий и достаточно закрытый от ветров, тогда как Осака доступна только легким баркам, а других гаваней в окрестностях нет совсем. Сёгуны высоко ценили важность Хиого, и потому вход в порт издавна охранялся береговыми батареями, из которых одна имела даже центральный редут, в виде каменной башенки, – все очень игрушечное и неспособное бороться даже против одного европейского корабля с современной артиллерией. Гораздо большей защитой от огня с моря служил для Хиого лесок, который рос на плоской косе между городом и прибрежными укреплениями. С основанием Кобе, уже в 1869 году была речь о соединении города с Осакою мирным рельсовым путем в 28 или 30 верст длиной. Он вскоре и был сооружен, даже продолжен до Киото, а теперь, если не ошибаюсь, и до прибрежья Японского моря.