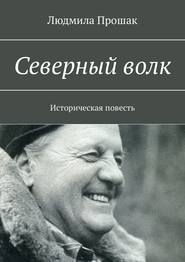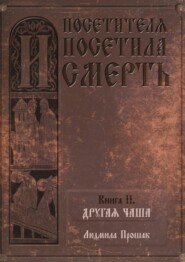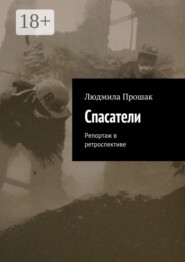По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
И посетителя посетила смерть. Книга I. Тайная грамота
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Так ведь нашествие… Мать, дитя хватает, книжник – книги.
– Может и так, только ты не особо огорчился, когда книги исчезли?
– Не сожгли, и то ладно. Написанное остаётся.
В дверь поскреблись. Оказалось – Анисья.
– А Борис где? Он же нам обычно еду носит..
– В ученики сыночка отправила.. Пора пришла..
– К белоризцам? – наобум брякнул Кирилл, но Анисья словно не слышала.
– Здесь и сыр вялый, и караваи с рыбою, и трудоноши. Ничего, что скоромное, вы теперь путники. Вот вам ещё! – и она протянула посох.
– Откуда он у тебя? – смешался Епифаний, машинально отметив, что рукоять обернута сулком, чего раньше не было.
– В Орше, где вы до нас были, настоятеля зарубили, а отец Андроник возвращает твою вещь с предостережением. Бежать вам надо, бежать!
Анисья задувала свечи, храм медленно погружался в темноту. Вот уже рассеялся дымок погашенных свеч на аналое
… Она дошла уже до кануна
, как из алтаря вышел монах. Его облачение сливалось со мглой, Анисья лишь слышала скрип сапог.
– «Примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»[14 - Евангелие от Иоанна, 20:22—23.] – монах требовательно протянул Анисье руку для поцелуя. – Я знаю, на твоей душе есть совершённый и нераскаянный грех, о котором ты сама не подозреваешь. Я хочу отпустить тебе твоё прегрешение невольное – ведь так, дочь моя? – через особую разрешительную молитву.
– Мне завтра на исповедь, я говею
…
– Не должно отлагать времени своего исправления, завтрашний день неверен для нас, иные, замыслив многое, не дожили до утра. Вот и ты утаила грех.
– Нет, я покаялась. Матушка меня поругала, а сыночка до отрочества при себе держать позволила, он в страхе Божием взращён…
Сатана недоуменно посмотрел на неё.
– Бог не ждёт, чтобы мы были безгрешными, – наконец произнес он. – Единственное, что от нас требуется, – это чтобы мы, осознав свою греховность, устремились на путь покаяния. Я о пришельцах. Ты им помогла бежать, так?
Послушница молчала. Сатана улыбнулся: немота так красноречива.
– Куда они побежали, ты знаешь? Я спрашиваю лишь потому что переживание и раскаяние невозможно без свидетеля.
– Он говорил о затворе, где юность прошла…
Под усами исповедника промелькнуло подобие улыбки:
– «Господь и Бог наш Иисус Христос…» Отпускаю. Теперь тебе следует молиться в тишине и молчании до утра. Это исцелит твою душу, болящую грехом, – и выскользнул из церкви.
Промучившись сомнениями всю ночь, Анисья на утро кинулась к матушке Параскеве. Та по обыкновению страдала от недуга:
– Что припозднилась, погибели моей хочешь? Разотри ноги, онемели совсем.
Та кинулась на колени и, гладя дрожащими пальцами холодные, скрюченные ступни, всё рассказала.
– Не хотела я, матушка!..
– Не хотела, а предала, дура окаянная! – ткнула в неё посохом игуменья. – С глаз моих вон!
Анисья кинулась опрометью из кельи. Морозя босые ноги (опорки скинула, когда в келью входила), увязая в сугробах, добежала до колодца, перевесилась.. Но, вспомнив матушкины слова «Ежели в колодезь попадёт жаба дохлая или мышь – вылить из него сорок ведер, а сам покропить святою водою», остановилась. Сняла с себя апостольник, завязала на срубе – когда искать станут, догадаются, где она. И уж только потом кинулась в непроглядную тьму.
В последней вспышке она успела увидеть, как из ярко-зелёной рощи ей навстречу топает маленький сын. Белая рубашка ему не по росту, поэтому он запинается и падает. А она тянет к нему руки и смеётся от счастья, потому что это его первые шаги…
Глава II.
Григорьевский затвор
1
Ростовское княжество,
Ростов Великий, Григорьевский затвор,
в год 69181 месяца просинеца в 18-й день[15 - 18 января 1410 года от Рождества Христова.],
повечерие
После долгой разлуки. Правда неизреченная.Мученическая смерть книг. В поисках укрытия
В затворе приютили беглецов без лишних вопросов. Кирилла игумен поселил в пустовавшую труднишную, а Епифанию освободил ту самую келью, в которой тот жил ещё в отрочестве. Казалось, стоит смежить усталые веки – раздастся ломкий юношеский басок Стефана и его притворно строгий окрик: «Когда же ты перестанешь досаждать мне, Епифаний!».
Епифаний отложил перо: нить рассуждений, которую он терпеливо распутывал, снова потерялась в клубке противоречий и недомолвок. В поисках поддержки он обвёл взглядом родные стены, отыскивая на потемневших бревнах знакомые сучки. В отрочестве ему нравилось угадывать в лучистых изгибах незаконченные портреты, в которых изограф успел лишь нарисовать самое главное – глаза. Эта игра особенно удавалась на закате, когда багровый отблеск подчеркивал выражение: тогда грустные становились печальными, добрые – кроткими, лукавые – злокозненными..
Ломило спину.. Епифаний встал – по телу разлилась блаженная усталость: он только сейчас вспомнил, что сел за работу на рассвете. Предметом его бдений была та самая книга, которую спас на пожаре Кирилл. Захватив её с собой, Епифаний спустился с крыльца.
Вернувшись в затвор после долгой разлуки, он сверял свои воспоминания с тем, что открывалось взгляду. В восточном крыле, где его поселил игумен, как и прежде, размещались десять братских келий, а в западном располагалась иконописная мастерская. Епифаний запрокинул голову вверх – колоколенка уже не казалась столь высокой как тогда, когда он смотрел на нее двенадцатилетним отроком. А вот саженцы стали садом. Уезжая из затвора в Троицу, Епифаний оставил их робкими прутиками, теперь же они заслонили собой заснеженный погост. Мальцом Епифаний избегал ходить мимо могильных плит. Если его посылали к амбарам у тына, он петлял между фруктовых деревцев и возвышавшимися над ними караульной, гостиной, труднишной. Теперь яблони в заснеженных шапках казались великанами, а кельи – игрушечными избушками, примостившимися под их сенью. Епифаний свернул направо, к восточному приделу церкви. Дорогу сюда он нашёл бы и с завязанными глазами…
В книгохранилище витал лёгкий аромат киновари и чернил. Казалось, даже сам воздух был того же свойства, что и громоздившиеся здесь на столах и стеллажах свитки, пергамены, огромные, тяжёлые изборники. Всё здесь было словно настояно на веках: береста напоминала о прошлом, бумага возвращала в настоящее, а пергамен служил связующим звеном между ними. Рукописная мудрость была растворена в свете свечей, в потемневших рубленых стенах, в отполированных локтями писцов и чтецов столах… Положив свою книгу на край лавки, Епифаний взял изборник, лежавший в стопке сверху, раскрыл. В глаза плеснуло киноварью заглавных букв: «Поучение душеполезна… князем и бояром, всем правоверным християном, христоименитым людям митрополита всея Руси…«
Имя митрополита было прилежно выскоблено. Епифаний грустно усмехнулся: исходно должно было стоять имя Митяя, нареченного Михаилом. Но указание его авторства, по мнению переписчика, лишило бы сочинение необходимой авторитетности. Прав был Киприан, когда отмечал в «Повести о Митяе» враждебность княжеского любимца к монахам и игуменам. И все же было в нём то, что могло примирить его со многими в Москве, – дерзновенная мысль о полной автокефалии
русской церкви. Киприан же всеми средствами старался сохранить митрополию единой, даже тогда, когда не стало его главного вдохновителя и защитника – Константинопольского патриарха Филофея…
Епифаний погрузился в размышления настолько, что не сразу заметил хранителя Алферия, который хоть и был горбат и стар, но зоркости и проворства не утратил. Бесшумно вынырнув откуда-то из-за ларей с рукописями и едва глянув на открытую книгу, тут же угадал невысказанные мысли Епифания:
– Сомнения при исправлении и переписывании мучительны и тяжки.
– Но, отец Алферий, разве потомки наши не смогут, усомнившись, отыскать преданное забвению или обойденное глубоким молчанием? Разве не писал Василий Великий в своем поучении: «Будь ревнителем праведно живущих и имена их, и жития, и дела записывай на своем сердце»?