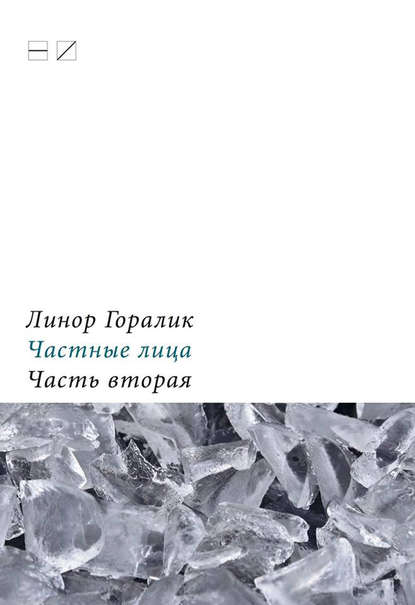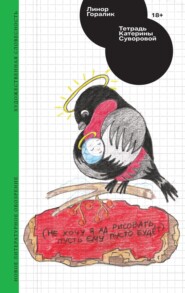По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Частные лица. Биографии поэтов, рассказанные ими самими. Часть вторая
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Был и поэтический круг. Андрей жил в районе Солянки, в коммуналке. И у него с его тогдашней женой было там что-то вроде салона. Почти ежевечерне собирались в этой комнатке по 20–25 человек. Сидели на полу, зажигали свечи обязательно, читали стихи. По кругу, как тогда было принято. Это был конец 1960-х. Такой тогда был стиль: свечки, иконка…
В самом конце институтской учебы я пошел работать в библиотеку своего же института. И в этой библиотеке я, между прочим, просидел больше двадцати лет. Все советские годы я просидел в этой библиотеке.
Институтская же компания состояла в основном из девушек. Было там несколько замечательных девушек, с которыми я дружил. Они все были из одного района. И даже из одной школы. Они все жили на Малой Бронной, на Спиридоновке, то есть вокруг Никитских Ворот. Все – в коммуналках, естественно. И я, гуляя, забредал то к одной, то к другой.
ГОРАЛИК. Вы умудрились не жениться в институте?
РУБИНШТЕЙН. Нет, я довольно поздно женился.
ГОРАЛИК. Вообще терпеливый: поздно писать начал, поздно женился…
РУБИНШТЕЙН. Да, я вообще себя считаю человеком позднего развития. Именно поэтому я до сих пор ощущаю себя очень молодым. Так что мне до сих пор кажется, что в будущем больше, чем в прошлом.
Так вот… Служил я в библиотеке. Это в социальном смысле было тогда, может быть, на один этаж выше, чем служба, допустим, лифтером.
ГОРАЛИК. Оттуда же и карточки?
РУБИНШТЕЙН. Ну, в общем, да.
То есть оттуда лишь в том смысле, что они там были. Были всегда под рукой.
Я сидел за машинкой, каталогизировал книжки, а параллельно писал собственные тексты. Писал я их на карточках. Но карточками я пользовался как черновиками, а в какой-то момент вдруг понял, что это никакие не черновики, а уже вполне готовый текст, вполне готовая вещь. Так поэтика стала совпадать с форматом карточки.
Мои тексты тогдашнего времени уже и тогда стали складываться из внешне не связанных фрагментов, объединенных только ритмом, то есть скорее по музыкальным, а не литературным законам. И в какой-то момент я понял, что картотека и есть, собственно говоря, литература.
А также я понял, что мой адресат и мой читатель – это человек, многое прочитавший и многое угадывающий за названием, за именем автора, за годом издания и так далее. Человек, привыкший работать с каталогом, глядя на библиографическую карточку, он уже представляет, какая именно книга стоит за ее карточным описанием. Так что сама библиография и ее, так сказать, своеобразная поэтика мне уже казались вполне литературой. Или металитературой – так будет точнее.
ГОРАЛИК. А как вы писали диплом? Вы его писали вообще?
РУБИНШТЕЙН. Нет, я диплом не писал. Я сдавал госэкзамены. Четыре штуки, кажется. Я как-то хорошо научился сдавать экзамены. Например, из курса советской литературы я и четверти не прочитал. Но сдавал. Сдавал про программке. Там, в общем-то, все было написано. Остальное дорисовывало воображение. Там было, допустим, написано: «Роман Пиписькина „Тяжелый металл“. Образ Никодимова как партийного руководителя нового типа». И все. Во-первых, когда я употреблял в своем ответе фамилию «Никодимов», преподаватель уже был уверен, что роман я читал. А поскольку я умел какие-то вещи додумывать – эта же вся литература строилась по нескольким очевидным схемам, – я сдавал все. Если не на пять, то на четыре.
ГОРАЛИК. Давайте по порядку, чтобы ничего не пропустить. Вот вы вышли из института…
РУБИНШТЕЙН. Да, в начале 1970-х. По-моему, 1971 год.
ГОРАЛИК. Вы оформились в эту свою библиотеку на «постоянку»?
РУБИНШТЕЙН. Ну да. Я сидел там очень долго, до начала 1990-х годов. Последние годы в этой библиотеке мне стало чуть-чуть некомфортно, потому что до этого я же был «подпольщик» и такой как бы шпион. У меня было как бы две жизни.
Я считал тогда, что их не надо объединять. И никогда в библиотеке о своих литературных занятиях и о круге своих знакомств я предпочитал не распространяться. Хотя, я думаю, какие-то смутные догадки на этот счет там существовали. Тем более что ко мне заходили иногда в библиотеку какие-то странные, волосатые-бородатые люди, вызывавшие, конечно, определенное любопытство.
Я вообще чувствовал, что вызываю огромное любопытство. Потому что, во-первых, библиотека считалась местом для неудачников, а там сидит такой парень, вроде руки-ноги на месте, вроде много знает, бодренький, остроумненький, но почему-то ни в какие аспирантуры не поступает, почему-то вообще ни к какой карьере не стремится. Что это такое вообще? Но я сознательно и упорно «темнил».
А в последние годы в этой же библиотеке меня вдруг кто-нибудь спрашивал: «А скажите, Лев Семенович, это вас вчера показывали по телевизору?» Я говорю: «Ну, это так, случайно».
В общем, мне стало там уже как-то неуютно, потому что помимо моей воли стал изменяться мой тщательно выстроенный имидж таинственного человека. Вот я и ушел из библиотеки. И на какое-то время стал так называемым свободным художником.
ГОРАЛИК. Постойте, еще про тот же период: у вас было тогда две параллельных жизни. Как протекала вторая жизнь, внебиблиотечная?
РУБИНШТЕЙН. Ну как? Я беспрерывно общался. Мы беспрерывно встречались, собирались друг у друга, ходили по мастерским, таскались по улицам, расширяли круг знакомств, слушали всякую музыку, которой больше нигде не было.
У меня был, например, школьный товарищ, в те годы студент, а потом аспирант Консерватории. Он был очень устремлен во всяческую новизну и современность. И он таскал меня и ближайших наших друзей на всякие концерты.
Так, например, в 1972 году я узнал о таком невероятном явлении, как Джон Кейдж, который, надо сказать, на меня впоследствии довольно мощно повлиял.
Мы, то есть вся эта наша тогдашняя компания, состоявшая из нескольких поэтов и нескольких художников, ходили по мастерским. Выставок тогда особенно не было, все происходило в мастерских.
Хождение по мастерским – это совершенно особая процедура, отдельный ритуал. Допустим, звонит тебе по телефону Эрик Булатов и говорит: «Слушай, ты чего делаешь в пятницу вечером?» – «Ничего». – «Приходи. Я закончил работу. Хочу показать».
И это был такой, в общем-то, праздник. Из советской, отвратительной Москвы ты попадаешь в жизнь. Приходят человек 8–10 в мастерскую, художник показывает новую работу, а заодно уж и несколько старых, а потом уже все садятся за стол и начинается счастливое, содержательное и веселое сидение за столом с разговорами об искусстве, с питьем водочки. И все там всех любят.
Я это время вспоминаю с невероятно ностальгическим чувством. 1970-е годы вообще для неофициального искусства были абсолютно золотым веком. Пожалуй, после каких-нибудь 1910–1920-х не было такого мощного процесса порождения художественных идей. Вот просто открытие за открытием. И разговоры, бесконечные разговоры. Мы все время говорили.
В то время параллельно существовали различные поэтические круги и кружки. Все были номинально знакомы, все друг о друге слышали, но вот как-то до дружб не всегда доходило, потому что в 1970-е годы были особенно важны и значительны эстетические предпочтения или, наоборот, разногласия. К середине 1980-х это все исчезло.
ГОРАЛИК. Например?
РУБИНШТЕЙН. Ну я, например, знал про «Московское время», я знал и Сопровского, и Гандлевского, и Цветкова, но мы не дружили, потому что они для меня были ужасными традиционалистами, а я для них был не менее ужасным авангардистом. Они авангард не любили, а я не любил то, что они любят. Я знал отдельно круг Зиника, Айзенберга, Сабурова. Я знаком был с ними, но мы не дружили, по тем же причинам. Я знал отдельно Ольгу Седакову. Я знал отдельно питерских поэтов – Витю Кривулина, Лену Шварц, Сережу Стратановского.
Но как-то постепенно эти круги стали перемешиваться и даже сливаться. Началось это с массовой бурной эмиграции середины 1970-х.
ГОРАЛИК. И тогда объединялись?
РУБИНШТЕЙН. Да. Я однажды сказал: мы объединяемся, как остатки разбитых полков. Так стали собираться новые полки.
Примерно к началу-середине 1980-х всем нам стало ясно, что общие экзистенциальные и социальные обстоятельства нас объединяют в большей степени, чем разъединяют – эстетические. И то, что люди по-разному пишут и думают, это как раз хорошо, а не плохо. Видимо, был период, когда было важно отгораживаться и обживать свой собственный участок, а потом был период, когда важно было объединяться. И вот где-то ближе к перестройке моими близкими друзьями стали те, кого я знал давно, но не близко, потому что мы были разными.
ГОРАЛИК. Мы пропустили кусок про вашу личную жизнь, про женитьбу и про детей. Вы женились в 1980-х?
РУБИНШТЕЙН. В 1980-м ровно. Мне было уже тридцать с чем-то. С тех пор мы вместе.
В том же году родилась и наша дочь. Теперь она уже взрослая. И сама уже мать девятилетней дочки и, соответственно, нашей внучки.
Очень серьезно все стало меняться году примерно в 1987–1988-м, когда вдруг многое стало выплывать на поверхность, и мы все в том числе. Когда кого-то из нас (кого раньше, кого позже) стали публиковать на родине.
Это была совсем новая и, надо сказать, иногда даже не очень комфортная ситуация. Мы, помню, как-то внутренне поеживались, мы посмеивались сами над собой и друг над другом. «Ой, а мне позвонили из редакции, ха-ха-ха. Понимаешь? Из редакции. Мне!» Все это воспринималось как шутка какая-то.
А был еще и такой, довольно, впрочем, короткий период, когда стало можно выступать публично, а публиковаться – еще нет. Было такое время.
Ту часть моей тогдашней компании, которая была ближе к авангарду, – скажем, Пригова или меня, всякие литературные журналы поначалу не жаловали, не обращались к нам. Меня сперва начали публиковать на родине совсем не литературные издания – журнал «Театр», журнал «Искусство кино», журнал «Декоративное искусство». Им это было интереснее. А для какого-нибудь журнала «Знамя» это все было еще неприемлемо. Что и понятно: «Это же не поэзия никакая». Я подозреваю, что это немножко так и до сих пор. Так или иначе, но никто из нас – я имею в виду свой узкий поэтический круг, – никто из нас никогда сам никому ничего не предлагал. Это происходило по известной формуле «сами все предложат, и сами все дадут». Все было именно так.
А сначала – устные выступления.
Был такой короткий, хотя и бурный период, когда возник так называемый клуб «Поэзия». И мы туда тоже, как и все, вошли. И сразу же начались разнообразные чтения и выступления, их было много. И они, надо сказать, собирали огромные толпы народу.
ГОРАЛИК. Как это ощущалось человеком, который перед этим читал лишь по мастерским для своих друзей?
РУБИНШТЕЙН. Странно, конечно. Но для меня оставалось тогда и остается по сей день неизменным понимание своей аудитории как очень узкого круга. Вот сколько времени прошло, и меня сейчас вроде бы много кто знает и читает. Но когда я что-то пишу, я всегда себе представляю нескольких вполне конкретных людей, мнение которых для меня важно. То есть для меня важно не сколько у меня читателей, а кто они.