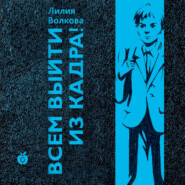По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изнанка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Ой, да ладно! Не выпендривайся. Так сошьешь? Розовое что-нибудь. Или сиреневое. Я заплачу, кстати. Сможешь себе джинсы? прикупить, а то ведь на тебе точно не ширпотреб, а индпошив. Из урюпинского ателье. – Две Танькины подружки, ее вечная свита, засмеялись мышиным смехом.
Катя напряглась и уже открыла рот – сказать Таньке что-нибудь остроумное и злое, отбрить ее так, чтоб неповадно было. Но Андрей успел первым.
– Не, Переверзева, для тебя я шить не буду. Во-первых, ты дура. Во-вторых, для тебя мне неинтересно.
– Это почему же? – Танька, не ожидающая отказа, даже не успела обидеться, а только удивилась. – А для Хлюдовой, этой жирной коровы, значит, интересно?
– Стандартная ты, Переверзева, – Андрей зевнул, – скучная. Обычная. А для Хлюдовой интересно, да. Несмотря на. Пойдем отсюда? – Он лениво встал и посмотрел на сидящую Катю. А потом кинул взгляд на Таньку, тоже свысока.
– Да, пойдем, – вслух согласилась Катя, а про себя подумала: «Как это у него получилось – на Переверзеву сверху вниз? Она ж на полголовы выше!»
Весь следующий месяц Андрей был нарасхват. Кандидаток на обладание шмотки «от Барганова» он выбирал придирчиво, даже привередливо. Предпочтение отдавал платежеспособным, исключая из них стандартных красоток с модельной фигурой. Несколько десятков низеньких, кривоногих, толстопопых, ненормально широкоплечих, катастрофически грудастых и удручающе плоских были облагодетельствованы нарядами всех оттенков поблекшей радуги: Андрей предпочитал цвета неяркие, но чистые, небесные, без примеси земли. Цены не заламывал, но заказчицы были щедры: увидев себя в зеркале, сначала разевали рты, а потом и кошельки.
Работал Андрей быстро. Пара часов на оптовом складе, где он с проворством иглы сновал меж огромных полок и широких прилавков, заваленных рулонами тканей, связками кружев, змеящимися молниями. Еще три-четыре часа за машинкой, иногда дома у заказчицы, чаще – у благодарной Ленки, личная жизнь которой благодаря зеленому платью расцвела в ноябре пышным весенним цветом. Туда Барганов разрешил прийти Кате – всего один раз, причем днем, когда из Хлюдовых, кроме Ленки, дома никого не было. Он вообще не любил зрителей, что Кате казалось странным: Андрей уходил в процесс как в заколдованный замок, куда не было хода посторонним. Цвет он воспринимал кончиками пальцев, фактуру материала определял по запаху, вертлявую шпульку и упрямый челнок чувствовал сердцем. Он не делал выкроек, не рисовал эскизов, не устраивал примерок. Его руки и воображение были связаны напрямую, и связь эта не требовала ни переходников, ни посредников.
Однажды Катя робко упрекнула Андрея:
– Ты шьешь всем подряд, а мне? На курсе уже удивляются. Я, видимо, недостаточно уродлива? Но, может, ты все-таки найдешь время для своей девушки? Несмотря на.
Андрей посмотрел на нее каким-то странным и оценивающим взглядом, и она вдруг смутилась, глуповато засмеялась, пытаясь перевести все в шутку. А он сказал просто и серьезно, даже мрачно:
– Хорошо.
На следующий день Барганова на лекциях не было, и вечером они не виделись. А еще через сутки он принес ей прямо в институт нечто невиданное: труба, то ли сшитая, то ли сплетенная из голубых, лазурных, сапфировых лоскутов и лент. То ли юбка, то ли шарф. Вернее, все сразу. Кажется, лет через десять именно это назовут «платьем-трансформером». Оно растягивалось в длину и ширину. Приобретало любую форму по Катиному желанию. Такого не было ни у кого. Девчонки на курсе от зависти позеленели, как хлюдовское платье, и целыми делегациями ходили упрашивать Андрея: «И мне, и нам, хотим-хотим-хотим! Любые деньги, будем ждать, сколько скажешь! Только сшей!» Барганов не говорил ни да, ни нет. Исправно строчил на случайных машинках, выдавая на-гора разноцветные туники, платья, кофты-размахайки, но «трансформер» так и остался единственным.
Только одно роднило принадлежащий Кате «эксклюзив» со всеми остальными нарядами «от Барганова» – изнанка. Неопрятная, махристая, какая-то вахлацкая – в отличие от изысканной лицевой стороны. Андрею было скучно заниматься необязательной работой. «Все равно никто не видит», – говорил он равнодушно и жестом опытного акушера обрезал пуповину, которая связывала новорожденный шедевр со швейной машинкой. К счастью, поклонниц Барганова изнанка не смущала и на размерах вознаграждения не сказывалась.
Заработанные деньги новоявленный кутюрье потратил на «джинсу» и «кожу», пижонскую, с лейблами, говорящими о себе негромко, но гордо. Переверзева, так и не получившая вожделенного наряда, могла бы торжествовать: «индпошив из урюпинского ателье» – штаны Андрея, из которых он не вылезал с сентября, сменили амплуа и поселились на полу в котельной.
Как ни странно, Барганов не попытался снять другое жилье, покомфортнее, попрезентабельнее, потеплее. А Катя мерзла. Затянувшаяся московская осень, глиняно-осклизлая днем и задубело-хрусткая ночью, впитывалась в бетонные стены, вползала в плохо подогнанную дверь, выступала холодным потом на мутных окнах. После душа Катя, трясясь мелкой дрожью, растиралась жестким полотенцем, влезала босыми ногами в сапоги и, волоча голенища по стылому полу, шла к дивану. Залезала под одеяло, прижималась к Андрею – гладкому, горячему. Один раз ей почудилось, что он вздрогнул и отодвинулся, но последующие энергичные телодвижения ее и согрели, и заставили забыть мгновенный, но острый страх возможной потери.
И она все-таки заболела. Грипп, всесезонный абориген перенаселенного города, свалил ее одним мощным ударом. Температура под сорок, выламывающая боль в суставах, чувствительность принцессы на горошине. Складка на простыне, шов любимой пижамы, холодный нос градусника – измученная наждаком болезни кожа на все реагировала нудной протяжной болью. В горячечных видениях Кате являлся Андрей в итальянском кожаном пальто, Переверзева в зеленом платье и голая Ленка в душе котельной – огромная, хохочущая, повторявшая глубоким баритоном: «Это чума, чума, чума!»
Мама Катиной болезни как будто даже обрадовалась. Договорилась с начальником, засела дома, компьютер включала, только пока Катя спала. На усталость и плохое самочувствие не жаловалась, с энтузиазмом закупала микстуры, растворяла порошки, размешивала морсы, протирала супы. Сама же Катя ощущала болезнь как катастрофу. Началась сессия. Приближался Новый год. И в котельной у Андрея не было телефона.
На пятый день гриппозного полузабытья позвонила Переверзева, по явному недоразумению бывшая старостой группы. Спросила, почему Катя не пришла на зачет, липким голосом пожелала выздоровления и пообещала сообщить прискорбную новость деканату и «вообще всем, в том числе Барганову. А то он ведь, кажется, ничего не знает?» Катя молча положила трубку. Через час после этого разговора грипп, казалось бы, отступивший, снова вцепился в Катю акульими зубами. Будто почувствовал слабину, будто понял, что именно сейчас можно брать ее тепленькой, безнаказанно грызть до нутра, до мягкой сердцевины.
Пятнадцать дней жизни сжались в один жесткий комок, как капрон под горячим утюгом. Вечером тридцатого декабря Катя, бледная, истончившаяся, вылезла из постели, смыла с себя бурую горчичную пыль и запах бальзама «Золотая звезда», натянула на влажное от слабости тело кружевное белье, джинсы, свитер, который нравился Андрею – ассиметричный, с широкими рукавами и сложным дырчатым узором. Надела через голову «трансформер», на сей раз в виде шарфа.
Мамы не было дома: она бегала по магазинам, собирая будущий праздничный стол, и не могла предупредить дочь, что за прошедшие две недели город перебрался из осени в зиму – неуверенными шагами, но, похоже, надолго. Иначе Катя не вышла бы в метельную муть в ботинках на рыбьем меху и куртешке «из чебурашки». Такие шил их с Андреем однокурсник, большой и добродушный Валька Ханкин. Девчонки из небогатых с удовольствием заказывали у него полуперденчики из искусственного меха самых экзотических окрасов: зеленого с оранжевыми пятнами, синего с розовыми разводами, ядовито-оранжевого, убийственно фиолетового. Фасон был один: мешок с капюшоном и рукавами, длина по запросу, а цена – вполне божеская. Кате куртку тоже хотелось, но попугайские расцветки повергали ее в ужас, так что Ханкин в знак особого к ней расположения добыл где-то несколько метров итальянской синтетической пушнины «под норку».
Куртка благородного медового цвета выглядела как меховая, но грела как марлевая. Пока Катя, спотыкаясь, брела к метро, жгуты метели скользили по ее спине, вплетались в узор свитера, вили клубки на впалом животе. В вагон она вошла почти неживая; пошатываясь, пробралась в угол, прислонилась, замерла. Глядя на ее выбеленное гриппом и морозом лицо, тетка в шубе из рыжей собаки, изображающей лису, брезгливо забормотала о «проклятых наркоманах». Через пару остановок она тяжело поднялась, ухватила крепкими руками стоявшие у ног сумки, набитые копченой колбасой и бледными мандаринами, и, косясь на Катю, поперла к выходу, экскаваторно сдвигая плотную толпу. Катя упала на свободное место, как в обморок, и закрыла глаза. Ехать было далеко.
Свет в котельной не горел, обитая лишайным металлом дверь была закрыта. Катя рванула ручку на себя раз, другой, третий. От отчаянных усилий легкое тело моталось как тряпка: вперед, назад, снова вперед, к неподвижному дверному полотну. Наконец Катя прижалась лбом к заледенелым райским вратам и тихо сползла на бетонное крыльцо.
– Ты, Барганов, конечно, гений, но сбрендил окончательно! Ты куда меня затащил? – Томный голос Переверзевой Катя услышала как сквозь сон. Попыталась встать. Не смогла. Как в кошмаре, где нет сил на самое простое, но жизненно важное движение, преодолела себя, на четвереньках сползла с крыльца. Погружая бесчувственные руки в снежную крупу, отползла за угол.
– Ты что, здесь живешь? Ну ты придурок! – Переверзева кокетливо засмеялась. – Я тут себе все каблуки пообломаю!
– Тань, это не я придурок, а ты дура! Я и так на полголовы ниже, ты на фига шпильки надела? – Андрей был верен себе: откровенен до хамства.
– Ну, Барганов, ты даешь! – с восхищением протянула Переверзева. – Ты что, вообще не комплексуешь по поводу роста?
– Вообще. Иди сюда!
Судя по звуку, они были уже совсем рядом. Через секунду глухо дрогнула дверь, явно от прижатого к ней тела.
– Это ничего, Переверзева, что я маленький. Зато мне удобно смотреть в глаза.
Скрип трущихся друг об друга кожанок, хриплый вздох, влажное чавканье. Катя за углом онемела, казалось, навсегда. Распласталась по стене, вжалась в нее с такой силой, что сама стала бетонной: тяжелой, холодной, пронзенной арматурой слов и звуков. Звякнули ключи. Взвизгнули петли. Хлопнула дверь, выплюнув в воздух короткий гулкий всхлип. И стало тихо. Уснула метель, упал на сугробы ветер, разжались кулаки. Остановилось сердце.
В институте Катя появилась в начале февраля. Бледная с прозеленью, молчаливая, укутанная в теплые кофты и пушистые шарфы, она равнодушной тенью перемещалась из кабинета в кабинет, оформляла документы для перевода на заочное. Со следующего года, конечно, потому что прошедшая сессия не оставила в ее зачетке ни единого следа. Почти неделю ей удавалось избегать встреч с однокурсниками. Но в последний день, плетясь из деканата в библиотеку, она лицом к лицу столкнулась с Переверзевой: узкие джинсы, сиреневая туника «от Барганова», розовые сапожки на плоской подошве. И мастерски раскрашенное лицо, сочащееся ядом сочувствия.
– Катерина! Бедняжка! Как ты похудела! И что ж тебе теперь делать? Сессия-то – тю-тю! Ой, Андрюша!
Барганов вынырнул как будто из ниоткуда. Подошел, прозвучав шелестом стеганой куртки и кастаньетами высоких, каких-то не мужских каблуков. По-хозяйски обнял Переверзеву за талию, улыбнулся Кате:
– Привет, Катюха. Ну, ты как? Оклемалась? Я все хотел тебе позвонить, да как-то не сложилось. А сейчас – сама видишь… Но мы ведь останемся друзьями, да? Несмотря на.
Катя молча кивнула, обошла Таньку и Андрея по широкой дуге, с силой прижимая к животу стопку учебников, и пошла по коридору – пустому, тусклому, серому, как мешковина. «Останемся друзьями. Несмотря на. Останемся друзьями. Несмотря на», – звучало у нее внутри, задавало ритм шагов, предсказывало будущее. Любимое выражение Андрея – «несмотря на» – застряло в ней как осколок снаряда. В рассказах о войне она читала, что так бывает. Кусок металла обрастает плотью, запутывается в нитях кровеносных сосудов, и человек перестает его замечать. Но однажды сгусток смертельного холода сдвинется с места. И тогда острые края разрежут живую оболочку, изорвут нежную ткань в лоскуты, истолкут в кровавое месиво. Так бывает. Она читала.
АНДРЕЙ
Как-то мать шила на дому халат из атлас-сатина. Когда она раскинула на кухонном столе отрез, Андрей, которому на тот момент исполнилось от силы лет десять, остолбенел. На шелковистой, переливающейся ткани цвели экзотические цветы, бордовые и фиолетовые, топорщились сочные сине-зеленые листья, распускали радужные хвосты крючконосые попугаи. А потом мать сложила материал вдвое – лицом внутрь. Изнанка была тусклой, бесцветной, шершавой; ничто не напоминало о недавнем ослепляющем великолепии. «Атлас-сатин» – Андрей запомнил это название с одного раза и с тех пор каждый отрез, принесенный матерью, рассматривал и с лица, и с изнанки.
Позже оказалось, что наблюдать за людьми – еще интереснее. Изучать привычки, слушать разговоры, присматриваться к выражению лиц. Очень быстро стало понятно: окружающие его заметно отличались друг от друга, были сшиты из разного материала, но оборотная сторона была у каждого. И часто она совсем не походила на лицевую.
Андрей смотрел на удаляющуюся Катину спину – узкую, упрямую, какую-то неудобную и странно прямую. Раньше она всегда чуть сутулилась. Андрей иногда шлепал ее раскрытой ладонью чуть ниже шеи, а она поводила плечами, и лопатки ее двигались под одеждой как беспокойные зверьки.
Зачем он вообще с ней связался? Не хотел поначалу. Но она так просилась в руки, так светилась вся, переливалась как елочная гирлянда. И он подумал: а почему нет? Ничего девчонка. Нос длинноват, правда, а ноги коротковаты, но ладная, какая-то плавная вся.
Скучно стало очень быстро. Даже не скучно, а как-то муторно. Судя по тому, как Катя себя вела, как одевалась – такая же нищая, как он сам. Ну, квартира на окраине. Ну, образование получит. И что? Как-то обмолвилась, что мать бухгалтер, а отца вообще не знала. И зачем это ему? Он еще пару месяцев назад почувствовал: еще немного, и прилепится она к нему намертво, не оторвешь. И дальше что? Жениться, детей заводить, считать копейки, разменять свою жизнь на ползунки-пеленки?
А тут Переверзева нарисовалась…
– Андрюш, ну ты чего? – Танька дернула его за рукав. – Пялишься на пустой коридор. Пойдем уже, а? Кофейку выпьем, а потом за билетами, да?
– За билетами?
– Ну, на «Титаник»! Мы ж договаривались, Барганов! Ты че, дурак, что ли? Или про Катьку думаешь? Ну и иди к своей Катьке, раз так! – Танька надула губы и отвернулась.
– Сама ты дура. – Андрей развернул Таньку к себе, чмокнул в щеку. – Какая Катька? Было – и быльем поросло. Забей уже. Пойдем.
– «Титаник» – это просто нечто! Я на DVD смотрела уже, но на английском, а это не то. А на кассете с гнусавым переводом не стала. Зачем себе впечатление портить, да? На большом экране это просто офигительно будет… А ты мне еще что-нибудь сошьешь, ладно? А то эту, сиреневую, уже видели все и, конечно, обалдели, но мне надо что-нибудь еще. И реклама тебе будет заодно, я же всем рассказываю, что мой Андрюша – гений!..
Танька трындела без умолку, здоровалась со знакомыми, в которых у нее, кажется, был целый институт. Ей улыбались, хотя Андрей неоднократно слышал, как Переверзеву за ее спиной называли «самодовольной богатенькой сучкой».
Андрей Таньку сукой не считал. Да и обвинение в самодовольстве – та еще претензия.
Катя напряглась и уже открыла рот – сказать Таньке что-нибудь остроумное и злое, отбрить ее так, чтоб неповадно было. Но Андрей успел первым.
– Не, Переверзева, для тебя я шить не буду. Во-первых, ты дура. Во-вторых, для тебя мне неинтересно.
– Это почему же? – Танька, не ожидающая отказа, даже не успела обидеться, а только удивилась. – А для Хлюдовой, этой жирной коровы, значит, интересно?
– Стандартная ты, Переверзева, – Андрей зевнул, – скучная. Обычная. А для Хлюдовой интересно, да. Несмотря на. Пойдем отсюда? – Он лениво встал и посмотрел на сидящую Катю. А потом кинул взгляд на Таньку, тоже свысока.
– Да, пойдем, – вслух согласилась Катя, а про себя подумала: «Как это у него получилось – на Переверзеву сверху вниз? Она ж на полголовы выше!»
Весь следующий месяц Андрей был нарасхват. Кандидаток на обладание шмотки «от Барганова» он выбирал придирчиво, даже привередливо. Предпочтение отдавал платежеспособным, исключая из них стандартных красоток с модельной фигурой. Несколько десятков низеньких, кривоногих, толстопопых, ненормально широкоплечих, катастрофически грудастых и удручающе плоских были облагодетельствованы нарядами всех оттенков поблекшей радуги: Андрей предпочитал цвета неяркие, но чистые, небесные, без примеси земли. Цены не заламывал, но заказчицы были щедры: увидев себя в зеркале, сначала разевали рты, а потом и кошельки.
Работал Андрей быстро. Пара часов на оптовом складе, где он с проворством иглы сновал меж огромных полок и широких прилавков, заваленных рулонами тканей, связками кружев, змеящимися молниями. Еще три-четыре часа за машинкой, иногда дома у заказчицы, чаще – у благодарной Ленки, личная жизнь которой благодаря зеленому платью расцвела в ноябре пышным весенним цветом. Туда Барганов разрешил прийти Кате – всего один раз, причем днем, когда из Хлюдовых, кроме Ленки, дома никого не было. Он вообще не любил зрителей, что Кате казалось странным: Андрей уходил в процесс как в заколдованный замок, куда не было хода посторонним. Цвет он воспринимал кончиками пальцев, фактуру материала определял по запаху, вертлявую шпульку и упрямый челнок чувствовал сердцем. Он не делал выкроек, не рисовал эскизов, не устраивал примерок. Его руки и воображение были связаны напрямую, и связь эта не требовала ни переходников, ни посредников.
Однажды Катя робко упрекнула Андрея:
– Ты шьешь всем подряд, а мне? На курсе уже удивляются. Я, видимо, недостаточно уродлива? Но, может, ты все-таки найдешь время для своей девушки? Несмотря на.
Андрей посмотрел на нее каким-то странным и оценивающим взглядом, и она вдруг смутилась, глуповато засмеялась, пытаясь перевести все в шутку. А он сказал просто и серьезно, даже мрачно:
– Хорошо.
На следующий день Барганова на лекциях не было, и вечером они не виделись. А еще через сутки он принес ей прямо в институт нечто невиданное: труба, то ли сшитая, то ли сплетенная из голубых, лазурных, сапфировых лоскутов и лент. То ли юбка, то ли шарф. Вернее, все сразу. Кажется, лет через десять именно это назовут «платьем-трансформером». Оно растягивалось в длину и ширину. Приобретало любую форму по Катиному желанию. Такого не было ни у кого. Девчонки на курсе от зависти позеленели, как хлюдовское платье, и целыми делегациями ходили упрашивать Андрея: «И мне, и нам, хотим-хотим-хотим! Любые деньги, будем ждать, сколько скажешь! Только сшей!» Барганов не говорил ни да, ни нет. Исправно строчил на случайных машинках, выдавая на-гора разноцветные туники, платья, кофты-размахайки, но «трансформер» так и остался единственным.
Только одно роднило принадлежащий Кате «эксклюзив» со всеми остальными нарядами «от Барганова» – изнанка. Неопрятная, махристая, какая-то вахлацкая – в отличие от изысканной лицевой стороны. Андрею было скучно заниматься необязательной работой. «Все равно никто не видит», – говорил он равнодушно и жестом опытного акушера обрезал пуповину, которая связывала новорожденный шедевр со швейной машинкой. К счастью, поклонниц Барганова изнанка не смущала и на размерах вознаграждения не сказывалась.
Заработанные деньги новоявленный кутюрье потратил на «джинсу» и «кожу», пижонскую, с лейблами, говорящими о себе негромко, но гордо. Переверзева, так и не получившая вожделенного наряда, могла бы торжествовать: «индпошив из урюпинского ателье» – штаны Андрея, из которых он не вылезал с сентября, сменили амплуа и поселились на полу в котельной.
Как ни странно, Барганов не попытался снять другое жилье, покомфортнее, попрезентабельнее, потеплее. А Катя мерзла. Затянувшаяся московская осень, глиняно-осклизлая днем и задубело-хрусткая ночью, впитывалась в бетонные стены, вползала в плохо подогнанную дверь, выступала холодным потом на мутных окнах. После душа Катя, трясясь мелкой дрожью, растиралась жестким полотенцем, влезала босыми ногами в сапоги и, волоча голенища по стылому полу, шла к дивану. Залезала под одеяло, прижималась к Андрею – гладкому, горячему. Один раз ей почудилось, что он вздрогнул и отодвинулся, но последующие энергичные телодвижения ее и согрели, и заставили забыть мгновенный, но острый страх возможной потери.
И она все-таки заболела. Грипп, всесезонный абориген перенаселенного города, свалил ее одним мощным ударом. Температура под сорок, выламывающая боль в суставах, чувствительность принцессы на горошине. Складка на простыне, шов любимой пижамы, холодный нос градусника – измученная наждаком болезни кожа на все реагировала нудной протяжной болью. В горячечных видениях Кате являлся Андрей в итальянском кожаном пальто, Переверзева в зеленом платье и голая Ленка в душе котельной – огромная, хохочущая, повторявшая глубоким баритоном: «Это чума, чума, чума!»
Мама Катиной болезни как будто даже обрадовалась. Договорилась с начальником, засела дома, компьютер включала, только пока Катя спала. На усталость и плохое самочувствие не жаловалась, с энтузиазмом закупала микстуры, растворяла порошки, размешивала морсы, протирала супы. Сама же Катя ощущала болезнь как катастрофу. Началась сессия. Приближался Новый год. И в котельной у Андрея не было телефона.
На пятый день гриппозного полузабытья позвонила Переверзева, по явному недоразумению бывшая старостой группы. Спросила, почему Катя не пришла на зачет, липким голосом пожелала выздоровления и пообещала сообщить прискорбную новость деканату и «вообще всем, в том числе Барганову. А то он ведь, кажется, ничего не знает?» Катя молча положила трубку. Через час после этого разговора грипп, казалось бы, отступивший, снова вцепился в Катю акульими зубами. Будто почувствовал слабину, будто понял, что именно сейчас можно брать ее тепленькой, безнаказанно грызть до нутра, до мягкой сердцевины.
Пятнадцать дней жизни сжались в один жесткий комок, как капрон под горячим утюгом. Вечером тридцатого декабря Катя, бледная, истончившаяся, вылезла из постели, смыла с себя бурую горчичную пыль и запах бальзама «Золотая звезда», натянула на влажное от слабости тело кружевное белье, джинсы, свитер, который нравился Андрею – ассиметричный, с широкими рукавами и сложным дырчатым узором. Надела через голову «трансформер», на сей раз в виде шарфа.
Мамы не было дома: она бегала по магазинам, собирая будущий праздничный стол, и не могла предупредить дочь, что за прошедшие две недели город перебрался из осени в зиму – неуверенными шагами, но, похоже, надолго. Иначе Катя не вышла бы в метельную муть в ботинках на рыбьем меху и куртешке «из чебурашки». Такие шил их с Андреем однокурсник, большой и добродушный Валька Ханкин. Девчонки из небогатых с удовольствием заказывали у него полуперденчики из искусственного меха самых экзотических окрасов: зеленого с оранжевыми пятнами, синего с розовыми разводами, ядовито-оранжевого, убийственно фиолетового. Фасон был один: мешок с капюшоном и рукавами, длина по запросу, а цена – вполне божеская. Кате куртку тоже хотелось, но попугайские расцветки повергали ее в ужас, так что Ханкин в знак особого к ней расположения добыл где-то несколько метров итальянской синтетической пушнины «под норку».
Куртка благородного медового цвета выглядела как меховая, но грела как марлевая. Пока Катя, спотыкаясь, брела к метро, жгуты метели скользили по ее спине, вплетались в узор свитера, вили клубки на впалом животе. В вагон она вошла почти неживая; пошатываясь, пробралась в угол, прислонилась, замерла. Глядя на ее выбеленное гриппом и морозом лицо, тетка в шубе из рыжей собаки, изображающей лису, брезгливо забормотала о «проклятых наркоманах». Через пару остановок она тяжело поднялась, ухватила крепкими руками стоявшие у ног сумки, набитые копченой колбасой и бледными мандаринами, и, косясь на Катю, поперла к выходу, экскаваторно сдвигая плотную толпу. Катя упала на свободное место, как в обморок, и закрыла глаза. Ехать было далеко.
Свет в котельной не горел, обитая лишайным металлом дверь была закрыта. Катя рванула ручку на себя раз, другой, третий. От отчаянных усилий легкое тело моталось как тряпка: вперед, назад, снова вперед, к неподвижному дверному полотну. Наконец Катя прижалась лбом к заледенелым райским вратам и тихо сползла на бетонное крыльцо.
– Ты, Барганов, конечно, гений, но сбрендил окончательно! Ты куда меня затащил? – Томный голос Переверзевой Катя услышала как сквозь сон. Попыталась встать. Не смогла. Как в кошмаре, где нет сил на самое простое, но жизненно важное движение, преодолела себя, на четвереньках сползла с крыльца. Погружая бесчувственные руки в снежную крупу, отползла за угол.
– Ты что, здесь живешь? Ну ты придурок! – Переверзева кокетливо засмеялась. – Я тут себе все каблуки пообломаю!
– Тань, это не я придурок, а ты дура! Я и так на полголовы ниже, ты на фига шпильки надела? – Андрей был верен себе: откровенен до хамства.
– Ну, Барганов, ты даешь! – с восхищением протянула Переверзева. – Ты что, вообще не комплексуешь по поводу роста?
– Вообще. Иди сюда!
Судя по звуку, они были уже совсем рядом. Через секунду глухо дрогнула дверь, явно от прижатого к ней тела.
– Это ничего, Переверзева, что я маленький. Зато мне удобно смотреть в глаза.
Скрип трущихся друг об друга кожанок, хриплый вздох, влажное чавканье. Катя за углом онемела, казалось, навсегда. Распласталась по стене, вжалась в нее с такой силой, что сама стала бетонной: тяжелой, холодной, пронзенной арматурой слов и звуков. Звякнули ключи. Взвизгнули петли. Хлопнула дверь, выплюнув в воздух короткий гулкий всхлип. И стало тихо. Уснула метель, упал на сугробы ветер, разжались кулаки. Остановилось сердце.
В институте Катя появилась в начале февраля. Бледная с прозеленью, молчаливая, укутанная в теплые кофты и пушистые шарфы, она равнодушной тенью перемещалась из кабинета в кабинет, оформляла документы для перевода на заочное. Со следующего года, конечно, потому что прошедшая сессия не оставила в ее зачетке ни единого следа. Почти неделю ей удавалось избегать встреч с однокурсниками. Но в последний день, плетясь из деканата в библиотеку, она лицом к лицу столкнулась с Переверзевой: узкие джинсы, сиреневая туника «от Барганова», розовые сапожки на плоской подошве. И мастерски раскрашенное лицо, сочащееся ядом сочувствия.
– Катерина! Бедняжка! Как ты похудела! И что ж тебе теперь делать? Сессия-то – тю-тю! Ой, Андрюша!
Барганов вынырнул как будто из ниоткуда. Подошел, прозвучав шелестом стеганой куртки и кастаньетами высоких, каких-то не мужских каблуков. По-хозяйски обнял Переверзеву за талию, улыбнулся Кате:
– Привет, Катюха. Ну, ты как? Оклемалась? Я все хотел тебе позвонить, да как-то не сложилось. А сейчас – сама видишь… Но мы ведь останемся друзьями, да? Несмотря на.
Катя молча кивнула, обошла Таньку и Андрея по широкой дуге, с силой прижимая к животу стопку учебников, и пошла по коридору – пустому, тусклому, серому, как мешковина. «Останемся друзьями. Несмотря на. Останемся друзьями. Несмотря на», – звучало у нее внутри, задавало ритм шагов, предсказывало будущее. Любимое выражение Андрея – «несмотря на» – застряло в ней как осколок снаряда. В рассказах о войне она читала, что так бывает. Кусок металла обрастает плотью, запутывается в нитях кровеносных сосудов, и человек перестает его замечать. Но однажды сгусток смертельного холода сдвинется с места. И тогда острые края разрежут живую оболочку, изорвут нежную ткань в лоскуты, истолкут в кровавое месиво. Так бывает. Она читала.
АНДРЕЙ
Как-то мать шила на дому халат из атлас-сатина. Когда она раскинула на кухонном столе отрез, Андрей, которому на тот момент исполнилось от силы лет десять, остолбенел. На шелковистой, переливающейся ткани цвели экзотические цветы, бордовые и фиолетовые, топорщились сочные сине-зеленые листья, распускали радужные хвосты крючконосые попугаи. А потом мать сложила материал вдвое – лицом внутрь. Изнанка была тусклой, бесцветной, шершавой; ничто не напоминало о недавнем ослепляющем великолепии. «Атлас-сатин» – Андрей запомнил это название с одного раза и с тех пор каждый отрез, принесенный матерью, рассматривал и с лица, и с изнанки.
Позже оказалось, что наблюдать за людьми – еще интереснее. Изучать привычки, слушать разговоры, присматриваться к выражению лиц. Очень быстро стало понятно: окружающие его заметно отличались друг от друга, были сшиты из разного материала, но оборотная сторона была у каждого. И часто она совсем не походила на лицевую.
Андрей смотрел на удаляющуюся Катину спину – узкую, упрямую, какую-то неудобную и странно прямую. Раньше она всегда чуть сутулилась. Андрей иногда шлепал ее раскрытой ладонью чуть ниже шеи, а она поводила плечами, и лопатки ее двигались под одеждой как беспокойные зверьки.
Зачем он вообще с ней связался? Не хотел поначалу. Но она так просилась в руки, так светилась вся, переливалась как елочная гирлянда. И он подумал: а почему нет? Ничего девчонка. Нос длинноват, правда, а ноги коротковаты, но ладная, какая-то плавная вся.
Скучно стало очень быстро. Даже не скучно, а как-то муторно. Судя по тому, как Катя себя вела, как одевалась – такая же нищая, как он сам. Ну, квартира на окраине. Ну, образование получит. И что? Как-то обмолвилась, что мать бухгалтер, а отца вообще не знала. И зачем это ему? Он еще пару месяцев назад почувствовал: еще немного, и прилепится она к нему намертво, не оторвешь. И дальше что? Жениться, детей заводить, считать копейки, разменять свою жизнь на ползунки-пеленки?
А тут Переверзева нарисовалась…
– Андрюш, ну ты чего? – Танька дернула его за рукав. – Пялишься на пустой коридор. Пойдем уже, а? Кофейку выпьем, а потом за билетами, да?
– За билетами?
– Ну, на «Титаник»! Мы ж договаривались, Барганов! Ты че, дурак, что ли? Или про Катьку думаешь? Ну и иди к своей Катьке, раз так! – Танька надула губы и отвернулась.
– Сама ты дура. – Андрей развернул Таньку к себе, чмокнул в щеку. – Какая Катька? Было – и быльем поросло. Забей уже. Пойдем.
– «Титаник» – это просто нечто! Я на DVD смотрела уже, но на английском, а это не то. А на кассете с гнусавым переводом не стала. Зачем себе впечатление портить, да? На большом экране это просто офигительно будет… А ты мне еще что-нибудь сошьешь, ладно? А то эту, сиреневую, уже видели все и, конечно, обалдели, но мне надо что-нибудь еще. И реклама тебе будет заодно, я же всем рассказываю, что мой Андрюша – гений!..
Танька трындела без умолку, здоровалась со знакомыми, в которых у нее, кажется, был целый институт. Ей улыбались, хотя Андрей неоднократно слышал, как Переверзеву за ее спиной называли «самодовольной богатенькой сучкой».
Андрей Таньку сукой не считал. Да и обвинение в самодовольстве – та еще претензия.