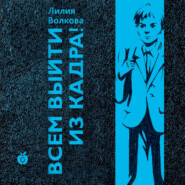По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изнанка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– А из-за чего ссорятся-то? – Картинка в Катиной голове никак не складывалась: немногословный дядя Саша, добродушная тетя Люся – и домашние скандалы? Быть того не может!
– Да черт их теперь знает! Они при нас никогда отношения не выясняют. Было когда-то, из-за всякой ерунды: кто-то что-то сказал или отец выпил лишнего. А потом Сережкина учительница в первом классе сказала, что нельзя при детях ссориться. Что психологические травмы могут быть и успеваемость страдает. С тех пор – как партизаны. Молчат. Пироги вот только, в промышленных масштабах. Ты знаешь, я ем будь здоров как, но столько теста сожрать – это ж самоубийство! И, между прочим, соседи жалуются, если отец по вечерам на лоджии дятла изображает. И он им тогда полочки дарит. Они красивые, людям нравятся.
Спрашивать у Ленки, часто ли мать с отцом ссорятся, Катя не стала. Она мысленно считала полочки. На кухне штук пять или шесть. В Ленкиной три. В гостиной тоже, на каждой стене – по паре минимум. А если еще и у соседей…
– Кать, поехали сегодня ко мне? Завтра ко второй паре, успеем и выспаться, и добраться до института из моей жопы мира. Поедем, а? А то там пирогов еще – чума!
В начале восьмого они вошли в электричку. Надпись на головном вагоне – «Солнечная» – февральским вечером читалась как издевательство. Но до конечной они не доехали: на полдороге, когда поезд стал тормозить, Катя взглянула в окно, схватила Ленку за руку и потащила к выходу:
– Давай выйдем сейчас!
– Ты с ума сошла? Холодрыга такая, и это вообще не станция, а платформа в чистом поле!
– Давай, давай, скорей! Разрешите, пожалуйста, нам нужно выйти! – Протиснувшись через плотно упакованную людскую массу в прокуренный тамбур, они выскочили на перрон. Двери, взвизгнув, начали закрываться.
– Ну, Катька, ты даешь! – выдохнула Ленка и резким движением выдернула из смыкающейся вагонной пасти конец длинного шарфа. – И что мы тут делать будем? Вот ты чума!
Катя хорошо запомнила тот вечер – лучше, чем многие последующие: разъедающие душу, ломающие судьбу через колено. Они с Ленкой спустились с платформы на пустырь, где были в беспорядке уложены строительные бетонные блоки. Луна желтела в небе как сыр, который лет пять назад в алюминиевой кастрюльке варила из творога Катина мама.
Их было трое ярких, дополнивших собой монохромный супрематизм: извечная пленница Земли, Катя в красном пуховике и Ленка – в зеленом. Белое полотно заснеженной земной тверди, черно-серые прямоугольники и квадраты, овал Ленкиной фигуры, узкая трапеция Катиной. Сколько времени они провели там? Полчаса? Час? Скакали по сложенным друг на друга плитам, завывали, стоя напротив друг друга, «Вот и лето прошло» – придурковатую попсу на грустные стихи. Выкрикивали «Послушайте!», обращаясь к глухим и безгласным пассажирам пролетающих мимо электричек; плевались в темноту на словах: «Кто-то называет эти плевочки жемчужиной» и хохотали до сиплых стонов.
В Солнцево Катя не поехала. Ленка вначале надулась, но долго обижаться она не умела, так что, немного постояв на противоположных платформах, они отправились по домам. Катина электричка пришла первой, и, сидя сначала в стылом вагоне, потом – в метро и автобусе, она все думала: вот приехала Ленка домой, а там – пироги. Может, только вчерашние, а может, уже новые лепятся. И дядя Саша на лоджии – тук-тук, тук-тук. Вот тебе и семья. Это что, любовь? Или просто экономический союз, кооператив для выращивания детей? Или вообще обоюдный стокгольмский синдром. Может, лучше так, как у них? У Кати есть мама, у мамы – Катя. И все. И больше никто не нужен. Ну, может быть, когда-нибудь, если Катя не выйдет замуж, она возьмет и родит себе дочку, будет ее воспитывать и любить. Будет у них семья – уже на троих. Потом. Когда-нибудь. Лет через десять?..
До дома Катя еле доплелась – промерзшая до последней косточки и с животом, где то ли кот урчал, то ли котята мяукали. От сумбурных чувств и тягостных мыслей она разнюнилась и размякла. Думала: сейчас приду, подсяду к маме под бочок, потом лягу головой к ней на колени, как в детстве. Но это потом. А сначала – есть! И пить тоже хотелось страшно. И в туалет по-маленькому (она до сих пор говорила именно так, и Ленкино «Ссать хочу!» каждый раз ее почти шокировало). Войти в квартиру быстро не получилось. Катя, вся зажавшись и чуть присев, мелко топталась у двери, но ключ в замочную скважину никак не вставлялся: мама, похоже, опять забыла в дверях свою связку. Пришлось звонить. Через долгие пять секунд дверь распахнулась, Катя просеменила мимо мамы, сбросила пуховик прямо на пол в коридоре и со всей возможной скоростью рванула в туалет.
После пришлось идти в душ: все-таки не утерпела. И согреться хотелось. Через двадцать минут она вылезла из ванны на вязаный коврик. Сплошь запотевшее зеркало было как чистый лист, и Катя несколькими размашистыми движениями нарисовала на нем лицо. Оно получилось не смешным, как хотелось, а страшноватым. Наморщив нос, Катя приложила чуть выше узкого рта зубную щетку. Махристая щетина сделала рожу еще противнее, и Катя, хмыкнув, смахнула рукой усатую страхолюдину и подмигнула туманно-розовому лицу, которое выглянуло из получившегося окошка. Ее любимое полотенце – квадратное, огромное, похожее на гигантского пушистого ската, было в стирке, пришлось взять из шкафчика другое, в которое Катя едва поместилась.
На кухне ничем вкусным не пахло, на плите стояла остывшая кастрюля с водой из-под пельменей.
– Ма, а ты что, опять ничего не приготовила? – Катя, надув губы, встала на пороге гостиной.
– Да, Кать, извини. Работы очень много. И вообще, я думала, ты у Ленки ночуешь. Не ждала тебя. Там в морозилке блинчики с творогом и пельмени, сваришь? А то у меня работа.
– Опять работа. – Катя стояла у открытого холодильника и исподлобья смотрела в его равнодушное нутро. Блинчиков не хотелось. Что тут еще? Масло, подсохший кусок сыра, закисшие огурцы в белесом рассоле. Как так можно? Тоже мне, дом называется!
Мама у Кати вообще как-то испортилась в последнее время. Пирогов в их доме сроду не водилось, но хотя бы картошки можно было сварить? И котлет пожарить. Или хотя бы сосисок купить, что ли. А у нее одна работа на уме. Таскает с работы огромные стопки бумаг, все вечера и даже по выходным сидит над ними, уткнувшись в слепяще-белые листы с муравьиной россыпью цифр. Ложится поздно, Катя сквозь сон слышит из гостиной шуршание бумаги и клацанье по компьютерной клавиатуре.
Компьютер в доме появился недавно, и он был не совсем их. То есть совсем не их, а маминого начальника, как сказала сама мама. Однажды в субботу приехали два лохматых парня в толстых свитерах (один на Катю иногда посматривал, другого, классического ботана, очкастого и прыщавого, интересовали, кажется, только привезенные железяки), затащили в дом несколько коробок, быстренько их распаковали. Теперь под обеденным столом в гостиной стоял серый ящик с кнопками и прорезями на передней панели; от него тянулись провода к черной клаве и монитору, похожему на голову динозавра с тупой мордой.
На просьбы Кати купить комп и для нее мама ответила резко и безапелляционно:
– Не вижу смысла тратить такие деньги на развлечение.
– Почему на развлечение? Это же необходимая вещь! Скоро у всех дома будут стоять!
– Ты работать на нем собираешься? Кем? Учись давай лучше! Вот когда начнешь зарабатывать, тогда и купишь себе.
– Мам, ну я же должна научиться пользоваться? Ну, или в интернете пошарить. Ленка говорит, что ей брат рассказывал… В общем, его Сережей зовут, а у Сережи есть друг, а у того есть компьютер с интернетом. Пентиум. И там столько всего: и музыка, и игрушки всякие, и даже книги можно читать! Можно я хотя бы иногда буду садиться, когда ты на работе?
– Это не наше, ясно? И это рабочий инструмент. Я договорилась с шефом, чтобы машина стояла у меня, чтобы я могла работать по выходным. Или если приболею.
– Когда люди болеют, они должны лечиться и больничный лист брать! А с твоим сердцем…
– Нормально у меня с сердцем. А те времена, когда можно было месяцами на больничном сидеть, давно прошли. Совок развалился, так что теперь как потопаешь, так и полопаешь.
Ха! Катя вот сегодня натопалась так, что будь здоров, а полопать-то и нечего. Зря к Ленке не поехала. Там пироги и еще куча всякой вкуснятины. Может, сделать горячие бутерброды? Если сыр еще не протух окончательно…
– Кать!
Пришлось возвращаться в комнату.
– У тебя в комнате на кровати лежит кое-что, посмотри. – Мама даже не повернулась к ней, так и сидела, уставившись в монитор.
– А что там? – Катя решила покапризничать.
– Сходи и посмотри.
– Ну ма-ам! Ну что там?
– Куртка.
Куртка! Ура! Может, меховая? Наконец-то!
Через минуту, не больше, Катя вернулась, держа на отлете правую руку с зажатой в ней обновкой. Куртка слегка покачивалась; поникшими плечами и склоненной головой-капюшоном она была похожа на висельника.
– Я не буду это носить. Ты слышишь? Не буду. – Она чуть было не швырнула коричневую тряпку на клавиатуру, но, натолкнувшись на мамин взгляд, передумала.
– Хорошо. – Мама отвернулась.
– Не буду, и все!
– Я поняла.
– Да? И все? Чего ты молчишь? Тебе все равно, да?
– Катя. Ты сказала, что носить не будешь. Я сказала: хорошо. Чего еще ты от меня хочешь?
– Я хочу знать, зачем ты это купила. Вот это вот! Ты вообще по сторонам смотришь? Ты видишь, в чем сейчас ходят? Сама одеваешься как старуха и меня заставляешь! – Катя стала мотать курткой перед собой, будто пыталась что-то из нее вытряхнуть. – Оно какашечного цвета и почти до пят!
– Я не заставляю.
– Но ты же мне это купила! Зачем?!
– Мне показалось, что это хорошая куртка.
– Это?!
– Да. Тете Тамаре привезли из Финляндии. Ей оказалась маловата, она предложила мне. Ну, в смысле тебе… Она вообще-то хотела подарить, ты же знаешь, как она тебя любит. Но я решила, что это неправильно, и уговорила ее хоть полцены взять. Тем более что куртка очень качественная и очень теплая. А твой пуховик…
– Да черт их теперь знает! Они при нас никогда отношения не выясняют. Было когда-то, из-за всякой ерунды: кто-то что-то сказал или отец выпил лишнего. А потом Сережкина учительница в первом классе сказала, что нельзя при детях ссориться. Что психологические травмы могут быть и успеваемость страдает. С тех пор – как партизаны. Молчат. Пироги вот только, в промышленных масштабах. Ты знаешь, я ем будь здоров как, но столько теста сожрать – это ж самоубийство! И, между прочим, соседи жалуются, если отец по вечерам на лоджии дятла изображает. И он им тогда полочки дарит. Они красивые, людям нравятся.
Спрашивать у Ленки, часто ли мать с отцом ссорятся, Катя не стала. Она мысленно считала полочки. На кухне штук пять или шесть. В Ленкиной три. В гостиной тоже, на каждой стене – по паре минимум. А если еще и у соседей…
– Кать, поехали сегодня ко мне? Завтра ко второй паре, успеем и выспаться, и добраться до института из моей жопы мира. Поедем, а? А то там пирогов еще – чума!
В начале восьмого они вошли в электричку. Надпись на головном вагоне – «Солнечная» – февральским вечером читалась как издевательство. Но до конечной они не доехали: на полдороге, когда поезд стал тормозить, Катя взглянула в окно, схватила Ленку за руку и потащила к выходу:
– Давай выйдем сейчас!
– Ты с ума сошла? Холодрыга такая, и это вообще не станция, а платформа в чистом поле!
– Давай, давай, скорей! Разрешите, пожалуйста, нам нужно выйти! – Протиснувшись через плотно упакованную людскую массу в прокуренный тамбур, они выскочили на перрон. Двери, взвизгнув, начали закрываться.
– Ну, Катька, ты даешь! – выдохнула Ленка и резким движением выдернула из смыкающейся вагонной пасти конец длинного шарфа. – И что мы тут делать будем? Вот ты чума!
Катя хорошо запомнила тот вечер – лучше, чем многие последующие: разъедающие душу, ломающие судьбу через колено. Они с Ленкой спустились с платформы на пустырь, где были в беспорядке уложены строительные бетонные блоки. Луна желтела в небе как сыр, который лет пять назад в алюминиевой кастрюльке варила из творога Катина мама.
Их было трое ярких, дополнивших собой монохромный супрематизм: извечная пленница Земли, Катя в красном пуховике и Ленка – в зеленом. Белое полотно заснеженной земной тверди, черно-серые прямоугольники и квадраты, овал Ленкиной фигуры, узкая трапеция Катиной. Сколько времени они провели там? Полчаса? Час? Скакали по сложенным друг на друга плитам, завывали, стоя напротив друг друга, «Вот и лето прошло» – придурковатую попсу на грустные стихи. Выкрикивали «Послушайте!», обращаясь к глухим и безгласным пассажирам пролетающих мимо электричек; плевались в темноту на словах: «Кто-то называет эти плевочки жемчужиной» и хохотали до сиплых стонов.
В Солнцево Катя не поехала. Ленка вначале надулась, но долго обижаться она не умела, так что, немного постояв на противоположных платформах, они отправились по домам. Катина электричка пришла первой, и, сидя сначала в стылом вагоне, потом – в метро и автобусе, она все думала: вот приехала Ленка домой, а там – пироги. Может, только вчерашние, а может, уже новые лепятся. И дядя Саша на лоджии – тук-тук, тук-тук. Вот тебе и семья. Это что, любовь? Или просто экономический союз, кооператив для выращивания детей? Или вообще обоюдный стокгольмский синдром. Может, лучше так, как у них? У Кати есть мама, у мамы – Катя. И все. И больше никто не нужен. Ну, может быть, когда-нибудь, если Катя не выйдет замуж, она возьмет и родит себе дочку, будет ее воспитывать и любить. Будет у них семья – уже на троих. Потом. Когда-нибудь. Лет через десять?..
До дома Катя еле доплелась – промерзшая до последней косточки и с животом, где то ли кот урчал, то ли котята мяукали. От сумбурных чувств и тягостных мыслей она разнюнилась и размякла. Думала: сейчас приду, подсяду к маме под бочок, потом лягу головой к ней на колени, как в детстве. Но это потом. А сначала – есть! И пить тоже хотелось страшно. И в туалет по-маленькому (она до сих пор говорила именно так, и Ленкино «Ссать хочу!» каждый раз ее почти шокировало). Войти в квартиру быстро не получилось. Катя, вся зажавшись и чуть присев, мелко топталась у двери, но ключ в замочную скважину никак не вставлялся: мама, похоже, опять забыла в дверях свою связку. Пришлось звонить. Через долгие пять секунд дверь распахнулась, Катя просеменила мимо мамы, сбросила пуховик прямо на пол в коридоре и со всей возможной скоростью рванула в туалет.
После пришлось идти в душ: все-таки не утерпела. И согреться хотелось. Через двадцать минут она вылезла из ванны на вязаный коврик. Сплошь запотевшее зеркало было как чистый лист, и Катя несколькими размашистыми движениями нарисовала на нем лицо. Оно получилось не смешным, как хотелось, а страшноватым. Наморщив нос, Катя приложила чуть выше узкого рта зубную щетку. Махристая щетина сделала рожу еще противнее, и Катя, хмыкнув, смахнула рукой усатую страхолюдину и подмигнула туманно-розовому лицу, которое выглянуло из получившегося окошка. Ее любимое полотенце – квадратное, огромное, похожее на гигантского пушистого ската, было в стирке, пришлось взять из шкафчика другое, в которое Катя едва поместилась.
На кухне ничем вкусным не пахло, на плите стояла остывшая кастрюля с водой из-под пельменей.
– Ма, а ты что, опять ничего не приготовила? – Катя, надув губы, встала на пороге гостиной.
– Да, Кать, извини. Работы очень много. И вообще, я думала, ты у Ленки ночуешь. Не ждала тебя. Там в морозилке блинчики с творогом и пельмени, сваришь? А то у меня работа.
– Опять работа. – Катя стояла у открытого холодильника и исподлобья смотрела в его равнодушное нутро. Блинчиков не хотелось. Что тут еще? Масло, подсохший кусок сыра, закисшие огурцы в белесом рассоле. Как так можно? Тоже мне, дом называется!
Мама у Кати вообще как-то испортилась в последнее время. Пирогов в их доме сроду не водилось, но хотя бы картошки можно было сварить? И котлет пожарить. Или хотя бы сосисок купить, что ли. А у нее одна работа на уме. Таскает с работы огромные стопки бумаг, все вечера и даже по выходным сидит над ними, уткнувшись в слепяще-белые листы с муравьиной россыпью цифр. Ложится поздно, Катя сквозь сон слышит из гостиной шуршание бумаги и клацанье по компьютерной клавиатуре.
Компьютер в доме появился недавно, и он был не совсем их. То есть совсем не их, а маминого начальника, как сказала сама мама. Однажды в субботу приехали два лохматых парня в толстых свитерах (один на Катю иногда посматривал, другого, классического ботана, очкастого и прыщавого, интересовали, кажется, только привезенные железяки), затащили в дом несколько коробок, быстренько их распаковали. Теперь под обеденным столом в гостиной стоял серый ящик с кнопками и прорезями на передней панели; от него тянулись провода к черной клаве и монитору, похожему на голову динозавра с тупой мордой.
На просьбы Кати купить комп и для нее мама ответила резко и безапелляционно:
– Не вижу смысла тратить такие деньги на развлечение.
– Почему на развлечение? Это же необходимая вещь! Скоро у всех дома будут стоять!
– Ты работать на нем собираешься? Кем? Учись давай лучше! Вот когда начнешь зарабатывать, тогда и купишь себе.
– Мам, ну я же должна научиться пользоваться? Ну, или в интернете пошарить. Ленка говорит, что ей брат рассказывал… В общем, его Сережей зовут, а у Сережи есть друг, а у того есть компьютер с интернетом. Пентиум. И там столько всего: и музыка, и игрушки всякие, и даже книги можно читать! Можно я хотя бы иногда буду садиться, когда ты на работе?
– Это не наше, ясно? И это рабочий инструмент. Я договорилась с шефом, чтобы машина стояла у меня, чтобы я могла работать по выходным. Или если приболею.
– Когда люди болеют, они должны лечиться и больничный лист брать! А с твоим сердцем…
– Нормально у меня с сердцем. А те времена, когда можно было месяцами на больничном сидеть, давно прошли. Совок развалился, так что теперь как потопаешь, так и полопаешь.
Ха! Катя вот сегодня натопалась так, что будь здоров, а полопать-то и нечего. Зря к Ленке не поехала. Там пироги и еще куча всякой вкуснятины. Может, сделать горячие бутерброды? Если сыр еще не протух окончательно…
– Кать!
Пришлось возвращаться в комнату.
– У тебя в комнате на кровати лежит кое-что, посмотри. – Мама даже не повернулась к ней, так и сидела, уставившись в монитор.
– А что там? – Катя решила покапризничать.
– Сходи и посмотри.
– Ну ма-ам! Ну что там?
– Куртка.
Куртка! Ура! Может, меховая? Наконец-то!
Через минуту, не больше, Катя вернулась, держа на отлете правую руку с зажатой в ней обновкой. Куртка слегка покачивалась; поникшими плечами и склоненной головой-капюшоном она была похожа на висельника.
– Я не буду это носить. Ты слышишь? Не буду. – Она чуть было не швырнула коричневую тряпку на клавиатуру, но, натолкнувшись на мамин взгляд, передумала.
– Хорошо. – Мама отвернулась.
– Не буду, и все!
– Я поняла.
– Да? И все? Чего ты молчишь? Тебе все равно, да?
– Катя. Ты сказала, что носить не будешь. Я сказала: хорошо. Чего еще ты от меня хочешь?
– Я хочу знать, зачем ты это купила. Вот это вот! Ты вообще по сторонам смотришь? Ты видишь, в чем сейчас ходят? Сама одеваешься как старуха и меня заставляешь! – Катя стала мотать курткой перед собой, будто пыталась что-то из нее вытряхнуть. – Оно какашечного цвета и почти до пят!
– Я не заставляю.
– Но ты же мне это купила! Зачем?!
– Мне показалось, что это хорошая куртка.
– Это?!
– Да. Тете Тамаре привезли из Финляндии. Ей оказалась маловата, она предложила мне. Ну, в смысле тебе… Она вообще-то хотела подарить, ты же знаешь, как она тебя любит. Но я решила, что это неправильно, и уговорила ее хоть полцены взять. Тем более что куртка очень качественная и очень теплая. А твой пуховик…