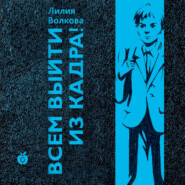По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Изнанка
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вон пошли, вон, во?о-он! Милицию вызову! Милиция, милиция! Ноль-два! Ноль-два! Набираю, набираю уже!
Надежда на скорое окончание экзекуции подействовала на Андрея как анестезия: пинки отдавались уже не болью, а сгустками жара. Вспыхнув в ногах, они прокатывались по телу, разлетались жалящими искрами внутри черепа; и на какое-то время Андрей перестал воспринимать реальность и себя в ней. А когда очнулся, понял, что стало тихо.
Он выбрался из расщелины между гаражом и стеной дома, поднялся на слабые ноги, медленно прошел несколько метров. Подобрал свою сумку. Достал первую попавшуюся тетрадь, вырвал несколько страниц, морщась, обтер лицо, высморкался. Посмотрел вверх: солнца видно не было, но свет пробивался сквозь туманную пелену и заставлял щуриться. Сузив глаза, Андрей глядел на низкое белесое небо – долго, пока с лица не сошла неосознаваемая гримаса боли. Опустив голову, он заметил в окне плохо различимое лицо и улыбнулся ему разбитыми губами. Цветастая штора задернулась резко, со странным звоном, слышным даже через стекло.
Он стянул с себя куртку, бросил ее на землю, тут же, рядом с клетчатыми листками, густо усеянными кровавыми кляксами. И потом, позже, он ни разу не купил и не сшил себе ни одной вещи из вельвета. Но в 1999 году вышла песня, которую он полюбил сразу и навсегда: Сантана и Роб Томас, «Smooth». Если б звуки можно было потрогать руками, эта музыка на ощупь была бы точь-в-точь как та куртка: рыжая, мягкая, в бархатистый рубчик. С пустыря, где осталась лежать его изгаженная обновка, Андрей шел в одном свитере, со вкусом крови во рту и твердой уверенностью в том, что его побили в последний раз. Потому что тех, кого боятся, не бьют. Сторонятся. Ненавидят. Могут убить. Но не бьют.
Дома никого не было: отец уехал в какой-то колхоз за материалом, мать минимум до шести на работе. Прямо в коридоре Андрей разделся до белья, сваливая грязную одежду на пол; встал перед зеркальной дверцей гардероба. На разбитое лицо смотреть было неприятно, но он смотрел. И на него из зеркала жестко и внимательно глянул кто-то новый, еще вчера незнакомый. Не отводя взгляда, Андрей одним движением дернул вниз трусы, переступил через них, ногой откинул в сторону синюю сатиновую тряпку. Линолеум приятно холодил горящие ступни.
Он рассматривал свое тело как чужое: рассудочно, отстраненно, почти равнодушно. На ногах, на бедрах – бордово-черные пятна. Есть и на груди, но немного. Он повел плечами, глубоко вздохнул. Кости целы, даже ребра не сломаны. Это хорошо. А синяки сойдут. У матери в холодильнике мазь от ушибов была, надо намазаться после душа.
Душ. Душ – обязательно, да. Пока Андрей шел домой, ему казалось, что он насквозь провонял заплеванным пустырем, что от него несет Калякиным и Калашовым, ссыкуном Калашовым – особенно. Но сейчас он пах только самим собой. И победой. У нее был кисловато-резкий запах пота и железистый вкус крови. Все это надо смыть.
Он снова окинул взглядом худощавую фигуру в зеркале. Росту бы прибавить – хоть сантиметров двадцать-тридцать. Но это вряд ли. Он и так почти перерос отца, а мать еще ниже. Но это ничего. Многие великие люди были небольшого роста.
А фигура нормальная у него. Мужская. И все остальное, что мужику нужно, тоже уже не детское. С женщиной он еще не был, обходился своими силами, но слышал, как пацаны говорили, что есть одна, Светкой зовут, которая дает всем. Даже адрес называли: в конце Коммунистической, в частном доме, где резные наличники. Главное, договориться заранее, вина купить или водки и сладкое еще. И презики надо, раз она со всеми подряд. Деньги мать даст, наверное, если попросить.
А может, и не пойдет он к этой Светке. Он теперь не такой, как все эти сопляки, которые только и думают, кому всунуть; он может и подождать. И найти достойную. Может, не «единственную», про которую в сериалах трындят, но такую, чтобы… Ну, чтоб она тоже была не такая, как все. И чтоб смотрела на него, как мать на отца смотрит: забывает про все, не слышит даже Андрея, если он о чем-то спрашивает.
А на что там смотреть-то? Старый он, пузатый. Нужно будет забрать у него гантели и подкачаться, чтоб бицепсы-трицепсы, кубики на животе и все такое. А гантели все равно без дела стоят: то под кроватью, то под трюмо, то вообще посреди комнаты. Отец зачем-то делает вид, что тренируется, хотя все знают, что его любимое занятие – пялиться в телек, наливаться пивом и листать пухлые альбомы, в которые вклеены газетные вырезки с его статьями…
Босые ноги совсем заледенели. Андрей сгреб с пола кучу одежды и пошел в ванную. В этом году часто отключали отопление и горячую воду, но сегодня и батареи, и трубы почти обжигали. Разбитые губу и нос саднило от воды, но он долго стоял под душевой лейкой, иногда выныривая, чтобы отдышаться. Потом закрыл слив и сел, выпрямив ноющие ноги. И все думал – о том, что случилось за последние сутки, и о том, что будет дальше.
Вчера с долбаных альбомов все и началось. Мать собирает все отцовские работы, даже заметки о падении удоев или об отсутствии в магазинах стирального порошка. Щелкая лезвиями портняжных ножниц, выкраивает из желтоватой газетной бумаги прямоугольники и квадраты; если статья большая, приклеив, аккуратно подгибает края по размеру альбомного листа.
Отец проработал в местной газете черт знает сколько лет, начал еще до рождения Андрея и даже, кажется, до женитьбы; за эти годы в их доме сложился особый ритуал: вечером, после ужина, мать вслух читала свежий отцовский материал. Андрея не выпускали из-за стола, пока мать негромким, не очень уверенным голосом не дочитывала текст до самого конца, до подписи: «Владислав Барганов, специальный корреспондент». Отец в это время сидел с важным лицом, иногда шевелил в такт губами или кивал.
Андрею читки опостылели давным-давно. Он отлынивал как мог: ссылался на необходимость делать домашку, жаловался, что устал или болит голова. Но обычно это не проканывало. Отец сердился, надувался как жаба – особенно если успел выпить. Сначала он бурчал: «Этому недоумку ничего не интересно». А потом начинал нудеть, что из Андрея вырастет в лучшем случае дворник, но скорее всего – уголовник, как из всех, кто имел несчастье родиться в этом убогом городишке. Тут вступала мать: «Андрюша, сынок, ну как же? Кого же еще слушать, если не папу? Гордиться надо, что у тебя такой отец! Если бы не завистники, он бы давно в Москве был, в центральной газете работал, а может, даже на телевидении! Нашему городу повезло, что папа сюда приехал, и мне повезло, что я его встретила!» Тут мать и смотрела на отца. Лицо коровье, даже губа отвисает; а взгляд – хоть на хлеб мажь: то ли масло подтаявшее, то ли магазинное повидло, сладкое до того, что блевать тянет.
С сыном она обращалась совсем иначе. Не плохо, но иначе. Как будто… сука со щенком. Заботилась, кормила, шила и покупала трусы, штаны и куртки, но почти не разговаривала. Спросит, обедал ли и как дела в школе, вытрет облизанным платком очередное пятно на щеке – и все.
Андрей мать жалел – и тогда, когда она смотрела на отца слюнявым взглядом, и вообще. Потому и сидел за столом после ужина, слушал написанные отцом фразы: гладкие и округлые, как яйца вкрутую, и безвкусные, как разваренный лук. О празднике урожая и битве за него, о руководящей и направляющей, о подвиге отцов и дедов, который «ради мира во всем мире» и «останется в веках». Андрей не против, чтоб остался: дед по матери воевал и не вернулся с фронта; в большой комнате на стене висела в рассохшейся рамке его фотография – нечеткая, выгоревшая, но все равно видно, что дед был нормальным мужиком, шебутным и улыбчивым.
Но времени-то с войны прошло!.. Теперь в газетах и журналах можно прочесть даже о том, что наши солдаты не всегда были героями. Что некоторые специально сдавались в плен и даже служили на стороне фашистов. Меняется все! Берлинскую стену вон вообще сломали: столько простояла, а теперь на сувениры растащили.
В отцовской газете был один журналист, Куликов. Он недавно заходил к отцу, они долго сидели на кухне за бутылкой и разговаривали. Отец был жутко вежливым, называл этого Куликова Сергеем Михалычем и так пресмыкался перед гостем, что казался липким. Когда Андрей зашел на кухню, чтобы попить, отец засуетился, стал рассказывать, какой сын молодец, и хвастаться его вторым местом на школьной олимпиаде по географии; хотя три дня назад, когда Андрей получил грамоту, он даже не поздравил. Сидел, как часто по вечерам, на кухне с бидоном пива, пересушенной воблой и солеными баранками. Пиво было цвета мочи и воняло ею же; отец, вливая его в себя, тоже становился мутным и дурным; лицо его приобретало желтый оттенок – как у свечей, которые мать таскала из церкви. Грамоту, оставленную Андреем на кухонном столе, отец схватил рыбными пальцами, прочитал и отшвырнул в сторону, пробормотав что-то вроде: «География, млять! Кому на хрен нужна эта география?»
Когда Куликов ушел, отец допил оставшиеся полбутылки и орал матери на кухне, что Куликов бездарь и хам; что наглость – второе счастье; что любой может написать что-нибудь скандальное и отправить в московскую газету. И еще – что там, в этой газете, такие же бездари, иначе они никогда бы не позвали Куликова к себе на работу. После очередной тирады отца вступала мать: говорила что-то успокоительное, но что именно – не слышно. А отец завелся на полную; и его грубые, тяжелые, как свинчатки, слова, отрикошетив от стен прихожей, от дверей и шкафов, долетали до комнаты Андрея почти невредимыми.
Именно в тот день Андрей убедился в том, о чем он давно подозревал: как раз отец-то и был бездарем. Только поэтому, вместо того чтобы писать интересные или, может, даже скандальные статьи, он просто поливает дерьмом Куликова и других. Андрей подозревал, что и сам отец об этом догадывается. Не дурак же он? Университет окончил и на работе, как пишут в характеристиках, «на хорошем счету». Значит, все он понимает, просто прячет от других этот секрет, стыдный как триппер.
Была у отца и еще одна тайна, о которой Андрей узнал случайно примерно месяц назад. Выставить ее на всеобщее обозрение сразу же было невозможно, немыслимо, нельзя; как и сделать вид, что ничего не было.
Однажды в детстве он чуть было не хлебнул из необычной трехгранной бутылочки, забытой кем-то на столе. Мать с криком выдернула емкость из его руки, почти до обморока напугав сына своей панической реакцией. В бутылочке была уксусная эссенция; и в тот же день мать, встав на табуретку, засунула ее на верхнюю полку кухонной колонки, в самый дальний угол. Андрея до сих пор холодил изнутри давний испуг, когда он видел, как мать отмеряет нужное количество кислоты и разбавляет ее до съедобной крепости. Вторая отцовская тайна была как раз такой, едкой и опасной, как ядовитая эссенция: если не обращаться с ней бережно, она могла навредить не только отцу, но и тем, кто находится рядом. Поэтому Андрей приберег тайну на будущее. Он был уверен: рано или поздно она пригодится.
Вода остыла. Андрей снова включил воду и взял мыло с пластиковой подставки, прицепленной прямо на бортик ванны. От брикетика с мягко-закругленными краями пахло нежно и дорого. Наверняка мыло не было куплено в местном магазине; скорее всего, мать взяла его в качестве платы за работу. В последнее время она все чаще просила частных клиентов расплачиваться не деньгами. И правильно: сейчас, чтобы жить нормально, их одних недостаточно. Магазины из полупустыни превратились в Сахару или Калахари какую-нибудь. Но в их доме не переводилось импортное мыло и стиральный порошок; в холодильнике лежали сыр и колбаса, причем копченая; в шкафчике над плитой стояли дефицитные эмалированные кастрюли с яркими картинками на круглых боках. Молодец мать. А этот… Все время придирается! То ему не так, это не эдак. Вот и вчера: мать еще до ужина вырезала из газеты очередной материал отца, а после, убрав со стола, протерла цветастую клеенку, принесла из комнаты альбом и начала читать.
Андрей даже не успел понять, о чем в этот раз была статья: через пару секунд мать почему-то начала запинаться, а потом и вовсе застряла на каком-то слове. Отец моментально психанул, оттолкнул от себя чашку с недопитым чаем, которая, проехав по столу между матерью и Андреем, с грохотом свалилась на пол.
– Дура необразованная! – Эти слова отец прошипел уже в коридоре. Через минуту он шваркнул дверью спальни.
– Владик! – крикнула мать ему вслед, лицо ее искривилось. – Вот уж правда – дура я! Но тут видишь, – мать трясущимися руками двигала альбом по столу в сторону Андрея, – видишь? Тут бумага замялась и краска смазалась, слово никак не разберешь! Что же делать теперь? Ты же знаешь папу, он меня сразу не простит, еще и завтра будет сердиться. Что делать-то, Андрюша? – В глазах матери стояли слезы.
– Ма, я сам с ним поговорю! – Андрей вскочил. – Давай я тебе помогу убрать тут все. Смотри, чашка всего на две части развалилась, даже склеить можно! И чай с пола я протру сейчас. Вот и все! Давай мне альбом, в комнату отнесу, завтра прочитаем, ладно? А я тебе машинку притащу, ты же куртку мне собиралась дошить. Дошьешь? А с отцом я сам, ты не волнуйся, ладно?..
Сейчас, вспоминая вчерашний вечер, Андрей ощущал удовлетворение и предчувствие чего-то особенного, возбуждающего не меньше, чем картинки из затертого «Плейбоя», который был запрятан у отца в нижнем ящике письменного стола. Сидя в теплой воде, Андрей зажатым в ладони мылом водил вверх-вниз по избитым ногам, которые будто покусывал невидимый зверь. От скользящих прикосновений боль не только переставала быть мучительной, но и доставляла томительное удовольствие, которое хотелось длить и длить. Андрей, закрыв глаза, гладил скользким розовым овалом ноги, грудь, низ живота. И снова грудь, и снова живот, пока мыло не выскользнуло из руки. Через несколько минут он издал протяжный стон удовлетворения – не сдерживаясь, в полный голос. Кажется, стукнула входная дверь. Или показалось? Неважно. Он спустил грязную воду, открыл краны на полную, лег, расслабился и даже, кажется, задремал под уютное бульканье и бормотание. Все же совсем неплохо, что он небольшого роста: ванна как раз впору, даже ноги не нужно подгибать.
Минут через двадцать Андрей вышел в прихожую – счастливый и внутренне собранный. Грязную одежду он замочил в тазу, мать придет – постирает. Придется объяснять, где он так извозился и почему лицо разбито. Но это ничего.
Под дверью залы виднелась полоса света: «специальный корреспондент Владислав Барганов», похоже, вернулся с «важного редакционного задания». Андрей усмехнулся. Ну, что ж. Время почти пришло. Сейчас – в свою комнату, одеться, причесаться, в последний раз отрепетировать придуманные заранее слова, фразы, требования. А потом, не стучась, зайти и закончить то, что было начато вчера. Да, время пришло. Вчера Андрей только намекнул на свое тайное знание и этого хватило, чтоб на отцовском лице появилась растерянность, которая секунду спустя превратилась в отчетливый страх. Страх! Отец его боялся! Его, мозгляка и тупицу, бездаря и лентяя, которому прямая дорога в уголовники! Ну ничего. Скоро отец узнает: то, что было вчера, – это только начало. Скоро все узнают. Все.
КАТЯ
– Ну, вывалились мы из поезда на Ленинградском. Конец июля, жарень – асфальт плавится. Чемоданчики и авоськи в камеру хранения сунули, а сами пробздеться решили – первый раз в Москве-то! Мамкины куры и пышки в пути надоели, да и подтухли маленько, так что купили мы по пирожку с мясом и вышли к площади. К стеночке прислонились, пирожки лопаем. Юбки – мини, короче некуда, ляжки – как окорока свиные, батники самострочные на сиськах трещат. Стоим, значит. Мужик какой-то нарисовался и кругами вокруг нас ходит. А нам-то что? Народу вокруг – тьма, одним больше, одним меньше. Тут он подходит – плешивый какой-то, но одет хорошо, в джинсы и рубашечку с погончиками. Зыркнул на нас и спрашивает, вполголоса и будто в сторону: «Сколько?» Я ему: «Пятнадцать». И дальше пирожок жую. Он удивился – аж рот разинул и говорит: «А че так дорого?» А подружка моя, Надька, на него, как на дебила, посмотрела и как гаркнет: «Так с мясом же!»
Ленка засмеялась первой. Потом разулыбалась Катя, а там присоединилась и сама рассказчица – тетя Люся. Смех у Ленкиной матери был уютный: то ли сова ухает вдалеке, то ли каша пыхтит в кастрюльке.
– Во-о-от! Ленка сразу все поняла! Недаром в Москве выросла, не то что мы с Надькой – кулемы деревенские. Она у нас самая умная в семье. Лен, ты в кого умная такая? В кого красивая – понятно. – Большая и мягкая тетя Люся снова заколыхалась от смеха. – Кать, а ты чего не ешь-то? Давай-ка я тебе еще картошки… И мяско вот. Давай-давай, жуй-глотай! А то вон какая тощая!
Кормили у Хлюдовых на убой. Тетя Люся давным-давно «сидела на продуктах»: начинала с продавца, потом дослужилась до директора продмага. Так что в доме во все времена водились в изобилии и гречка, и сливочное масло, и рыбка в цветах московского «Спартака», и мясо всех сортов и видов, от буженины и перламутрового на срезе балыка до бордовой говядины и атлетически поджарых кроличьих тушек. Когда бы Катя ни приехала, в выходной или будний день, утром или к полуночи, ее всегда приглашали к столу.
Ели Хлюдовы вкусно. Не готовили вкусно (хотя и это тоже), а именно ели. Можно было бесконечно смотреть, как Ленка сочиняет многоступенчатый бутерброд, заговаривая его, как знахарка снадобье: «А вот мы на хлебушек маянезик намажем, и огурчик свеженький то-о-оненькими лепесточками, и ветчинку, и сервелатика чуть-чуть. И сырком дырявеньким сверху накроем, ма-асдамчиком, на машине специальной порезанным. М-м-м…» Наколдованный бутер исчезал в Ленке как в черной дыре – быстро и бесшумно.
А как тетя Люся вкушала маринованные помидоры! Нежно снимала с их тел прозрачные лепестки кожицы, торжественно подносила обнаженный плод ко рту, прикрывая глаза в предвкушении. Катя в этот момент замирала, а после сглатывала вместе с тетей Люсей, наслаждаясь зрелищем, и тоже хваталась за пряную, пахнущую чесноком и укропом вкуснятину. Она, всегда относившаяся к пище утилитарно, как к горючему, на просторной хлюдовской кухне впервые ощутила и телом, и душой: если чревоугодие и грех, то вполне простительный.
Ленкин младший брат Сергей и глава семейства дядя Саша поглощали пищу не так самозабвенно, но тоже с аппетитом. Сергея Катя видела редко: тот учился в выпускном классе и всерьез занимался спортом. А с дядей Сашей не раз сиживала за обедами и ужинами. Ленкин отец был молчалив и улыбчив, ростом – не ниже жены и той же невнятно-русой масти, но габаритами – как молодой кабачок против круглой налитой дыни. Всю свою столичную жизнь работал в «Метрострое». Катя, не любившая подземку за шум, духоту, плотность многоглавой безликой толпы, после знакомства с Хлюдовым-старшим стала относиться к метро иначе. У подземного царства появилось лицо, и это было лицо дяди Саши – простецкое, с носом уточкой, с маленьким, каким-то детским ртом. Качаясь взад-вперед на разгонах-торможениях, Катя представляла, как самые обычные, невеликие мужички роют радиусы и хорды тоннелей, как прячут за драгоценным мрамором железобетонное нутро арок и стен; как в обеденный перерыв усаживаются прямо на рельсы новой, еще неезженной линии и достают котлеты, вареные яйца, термосы с чаем и подначивают самого молодого: «Что, Илюха, опять с батоном и кефиром? Вот пентюх! Когда ты уже бабу себе заведешь»?
Александр Хлюдов «завел» Людмилу Семенову в общежитии для лимитчиков: приехал к приятелю в гости, из такой же общаги, но на другом конце Москвы. Люся к тому времени в столице обжилась и даже заменила койку с панцирной сеткой на диван, обтянутый гобеленом – красным, с синими разлапистыми тюльпанами. В комнатке на троих она оказалась… Да как и все прочие. В свой первый столичный день, наевшись на вокзале пирожков и посетив достопримечательности (Красная площадь – Мавзолей – ГУМЦУМ – «Детский мир»), она заселилась в общежитие педагогического института, откуда отбыла через неделю, провалив экзамены даже не с треском, а с грохотом. Но домой не вернулась, устроилась на прядильно-ткацкий комбинат. Платили хорошо. А что после смены в ушах шумело – так то ж Москва, тут у всех шумит: не от станков, так от машин или высокой ответственности. Смешно еще, что сморкалась разноцветно: то розовым, то зеленым, то голубым – зависело от того, каких ниток нанюхалась.
Саша ей сразу понравился: чистенький, ходит вприпрыжку. Свой, русак, с нежно-игольчатой, как новорожденный еж, прической. За разные места Люсю не хватал даже после полбутылки, а на вопрос «Ты кем хоть работаешь?» ответил «Кротом». Она – тогда еще сорок шестого размера, а не пятьдесят восьмого – вытаращила глаза, а он засмеялся, дробным, как просыпавшийся горох, смехом.
Комнату дали отдельную, не сразу, но дали. Ленка уже на подходе была, через четыре года – Сережка. В промежутке между детьми Люся поменяла работу: перебралась с грохочущей фабрики в уютный универсам. Так что жили нормально. А детям вообще в общаге было раздолье. В хрущевке на велосипеде не покатаешься, а по двадцатиметровому коридору – пожалуйста. Можно, правда, от загулявшего соседа подзатыльник получить, но это сегодня. А завтра – конфету. И не карамельку какую-нибудь, а «Мишку» или даже «Стратосферу».
Саша и Люся тоже не жаловались. В этих отдельных квартирах все сами по себе, закроются-замуруются и сидят как сычи. А тут если нужно пятерку до зарплаты стрельнуть, то дадут обязательно, если не в первой комнате по коридору, то уж в третьей наверняка. На демонстрацию ходили, с флажками и бумажными цветами, наверченными на ветки; Ленка за руку, Сережка – у отца на плечах, и тянули шеи к трибунам, и орали во всю мощь пролетарских глоток. «Да зда… ет аюз абочеа класса и удового… стьянсва! Уа-а-а…» А как на Новый год пельмени мастрячили всем этажом? Пять мясорубок, двадцать пар обсыпанных мукой рук, три ведерные кастрюли, а потом под водочку, под вино «Арбатское», за накрытыми прямо в коридоре столами: «Ну, с новым счастьем!»
Счастье в виде трешки в новенькой шестнадцатиэтажке – с десятиметровой кухней и лоджией площадью как комната в общежитии – привалило ожидаемо и неожиданно, когда слишком развитый социализм, кряхтя, доживал последние безрадостные годы. Успели! Вскочили в последнюю электричку! Двадцать минут от Киевского вокзала, а потом – на автобусе, бесконечно, мимо сотен домов, похожих издалека на блоки дорогущего «Лего»: вроде разные, а все равно одинаковые. Ленка свое Солнцево называла не иначе как «жопа мира»: «Хорошо тебе, Катька, тебе от метро недалеко, хоть и на автобусе, а я пока до своей жопы мира доеду…» Но Хлюдовы-старшие вили гнездо неутомимо и восторженно, десять лет без перерыва.
Раз в два года переклеивались обои – непременно в арбузного размера цветах, обязательно с золотом. Раз в три года обновлялась мягкая мебель. Однажды Катя, приехав в гости, застала дядю Сашу в прихожей, где он ухарски рубил топором кресло: в дверь оно не пролезало и позже было отправлено на помойку расчлененным. За сменой ковров, паласов и покрывал не уследил бы даже тот, кто посещал хлюдовскую квартиру регулярно, а не от случая к случаю, как Катя. Хотя бывать там она любила. Ей было интересно наблюдать за «полной семьей»: когда и мама, и папа, и двое детей, и родственники наезжают – шумные, говорливые, обнимают до хруста, вынимают из бездонных сумок свертки и пакеты, чаще со съестным. А тетя Люся мечет на стол мисочки, плошечки, тарелки и тарелищи и переживает, что не предупредили, а то бы она пирогов!..
Пирожки, кстати, Ленка регулярно таскала в институт – минимум раз в месяц, а то и два, штук по двадцать-тридцать, завернутые в плотную бумагу и втиснутые в ветхозаветную холщовую сумку. Однажды кто-то из участников уже привычного пира изучил облупившийся рисунок на ней, опознал группу «Boney M.» и заголосил на всю кофейню: «Ма-ма-ма-ма, ма бейкер!» Потом вспомнили «Бахаму маму» и «Распутина», а Катя подошла к сидевшей чуть в стороне Ленке, чтоб задать вопрос, давно ее волновавший:
– А тетя Люся что, специально для нас пироги печет? С чего вдруг?
– Да нет, – Ленка поморщилась, – просто мать с отцом опять поссорились, а мы столько пирогов съесть не в состоянии. Она ж их в запале намесит столько – чума!
– Что-то я связи не уловила, – удивилась Катя.
– Ну, они когда ссорятся, если только не ночью совсем, то мать – на кухню сразу и тесто на пироги ставит. А отец на лоджию идет, у него там мастерская. И полочки сколачивает. Как доколотит, тоже на кухню плетется. Всю кухню мукой уделают, налепят три-четыре противня, потом пекут, потом убираются. И спать идут. А утром – как ни в чем не бывало. Вроде и не было никаких ссор.
Надежда на скорое окончание экзекуции подействовала на Андрея как анестезия: пинки отдавались уже не болью, а сгустками жара. Вспыхнув в ногах, они прокатывались по телу, разлетались жалящими искрами внутри черепа; и на какое-то время Андрей перестал воспринимать реальность и себя в ней. А когда очнулся, понял, что стало тихо.
Он выбрался из расщелины между гаражом и стеной дома, поднялся на слабые ноги, медленно прошел несколько метров. Подобрал свою сумку. Достал первую попавшуюся тетрадь, вырвал несколько страниц, морщась, обтер лицо, высморкался. Посмотрел вверх: солнца видно не было, но свет пробивался сквозь туманную пелену и заставлял щуриться. Сузив глаза, Андрей глядел на низкое белесое небо – долго, пока с лица не сошла неосознаваемая гримаса боли. Опустив голову, он заметил в окне плохо различимое лицо и улыбнулся ему разбитыми губами. Цветастая штора задернулась резко, со странным звоном, слышным даже через стекло.
Он стянул с себя куртку, бросил ее на землю, тут же, рядом с клетчатыми листками, густо усеянными кровавыми кляксами. И потом, позже, он ни разу не купил и не сшил себе ни одной вещи из вельвета. Но в 1999 году вышла песня, которую он полюбил сразу и навсегда: Сантана и Роб Томас, «Smooth». Если б звуки можно было потрогать руками, эта музыка на ощупь была бы точь-в-точь как та куртка: рыжая, мягкая, в бархатистый рубчик. С пустыря, где осталась лежать его изгаженная обновка, Андрей шел в одном свитере, со вкусом крови во рту и твердой уверенностью в том, что его побили в последний раз. Потому что тех, кого боятся, не бьют. Сторонятся. Ненавидят. Могут убить. Но не бьют.
Дома никого не было: отец уехал в какой-то колхоз за материалом, мать минимум до шести на работе. Прямо в коридоре Андрей разделся до белья, сваливая грязную одежду на пол; встал перед зеркальной дверцей гардероба. На разбитое лицо смотреть было неприятно, но он смотрел. И на него из зеркала жестко и внимательно глянул кто-то новый, еще вчера незнакомый. Не отводя взгляда, Андрей одним движением дернул вниз трусы, переступил через них, ногой откинул в сторону синюю сатиновую тряпку. Линолеум приятно холодил горящие ступни.
Он рассматривал свое тело как чужое: рассудочно, отстраненно, почти равнодушно. На ногах, на бедрах – бордово-черные пятна. Есть и на груди, но немного. Он повел плечами, глубоко вздохнул. Кости целы, даже ребра не сломаны. Это хорошо. А синяки сойдут. У матери в холодильнике мазь от ушибов была, надо намазаться после душа.
Душ. Душ – обязательно, да. Пока Андрей шел домой, ему казалось, что он насквозь провонял заплеванным пустырем, что от него несет Калякиным и Калашовым, ссыкуном Калашовым – особенно. Но сейчас он пах только самим собой. И победой. У нее был кисловато-резкий запах пота и железистый вкус крови. Все это надо смыть.
Он снова окинул взглядом худощавую фигуру в зеркале. Росту бы прибавить – хоть сантиметров двадцать-тридцать. Но это вряд ли. Он и так почти перерос отца, а мать еще ниже. Но это ничего. Многие великие люди были небольшого роста.
А фигура нормальная у него. Мужская. И все остальное, что мужику нужно, тоже уже не детское. С женщиной он еще не был, обходился своими силами, но слышал, как пацаны говорили, что есть одна, Светкой зовут, которая дает всем. Даже адрес называли: в конце Коммунистической, в частном доме, где резные наличники. Главное, договориться заранее, вина купить или водки и сладкое еще. И презики надо, раз она со всеми подряд. Деньги мать даст, наверное, если попросить.
А может, и не пойдет он к этой Светке. Он теперь не такой, как все эти сопляки, которые только и думают, кому всунуть; он может и подождать. И найти достойную. Может, не «единственную», про которую в сериалах трындят, но такую, чтобы… Ну, чтоб она тоже была не такая, как все. И чтоб смотрела на него, как мать на отца смотрит: забывает про все, не слышит даже Андрея, если он о чем-то спрашивает.
А на что там смотреть-то? Старый он, пузатый. Нужно будет забрать у него гантели и подкачаться, чтоб бицепсы-трицепсы, кубики на животе и все такое. А гантели все равно без дела стоят: то под кроватью, то под трюмо, то вообще посреди комнаты. Отец зачем-то делает вид, что тренируется, хотя все знают, что его любимое занятие – пялиться в телек, наливаться пивом и листать пухлые альбомы, в которые вклеены газетные вырезки с его статьями…
Босые ноги совсем заледенели. Андрей сгреб с пола кучу одежды и пошел в ванную. В этом году часто отключали отопление и горячую воду, но сегодня и батареи, и трубы почти обжигали. Разбитые губу и нос саднило от воды, но он долго стоял под душевой лейкой, иногда выныривая, чтобы отдышаться. Потом закрыл слив и сел, выпрямив ноющие ноги. И все думал – о том, что случилось за последние сутки, и о том, что будет дальше.
Вчера с долбаных альбомов все и началось. Мать собирает все отцовские работы, даже заметки о падении удоев или об отсутствии в магазинах стирального порошка. Щелкая лезвиями портняжных ножниц, выкраивает из желтоватой газетной бумаги прямоугольники и квадраты; если статья большая, приклеив, аккуратно подгибает края по размеру альбомного листа.
Отец проработал в местной газете черт знает сколько лет, начал еще до рождения Андрея и даже, кажется, до женитьбы; за эти годы в их доме сложился особый ритуал: вечером, после ужина, мать вслух читала свежий отцовский материал. Андрея не выпускали из-за стола, пока мать негромким, не очень уверенным голосом не дочитывала текст до самого конца, до подписи: «Владислав Барганов, специальный корреспондент». Отец в это время сидел с важным лицом, иногда шевелил в такт губами или кивал.
Андрею читки опостылели давным-давно. Он отлынивал как мог: ссылался на необходимость делать домашку, жаловался, что устал или болит голова. Но обычно это не проканывало. Отец сердился, надувался как жаба – особенно если успел выпить. Сначала он бурчал: «Этому недоумку ничего не интересно». А потом начинал нудеть, что из Андрея вырастет в лучшем случае дворник, но скорее всего – уголовник, как из всех, кто имел несчастье родиться в этом убогом городишке. Тут вступала мать: «Андрюша, сынок, ну как же? Кого же еще слушать, если не папу? Гордиться надо, что у тебя такой отец! Если бы не завистники, он бы давно в Москве был, в центральной газете работал, а может, даже на телевидении! Нашему городу повезло, что папа сюда приехал, и мне повезло, что я его встретила!» Тут мать и смотрела на отца. Лицо коровье, даже губа отвисает; а взгляд – хоть на хлеб мажь: то ли масло подтаявшее, то ли магазинное повидло, сладкое до того, что блевать тянет.
С сыном она обращалась совсем иначе. Не плохо, но иначе. Как будто… сука со щенком. Заботилась, кормила, шила и покупала трусы, штаны и куртки, но почти не разговаривала. Спросит, обедал ли и как дела в школе, вытрет облизанным платком очередное пятно на щеке – и все.
Андрей мать жалел – и тогда, когда она смотрела на отца слюнявым взглядом, и вообще. Потому и сидел за столом после ужина, слушал написанные отцом фразы: гладкие и округлые, как яйца вкрутую, и безвкусные, как разваренный лук. О празднике урожая и битве за него, о руководящей и направляющей, о подвиге отцов и дедов, который «ради мира во всем мире» и «останется в веках». Андрей не против, чтоб остался: дед по матери воевал и не вернулся с фронта; в большой комнате на стене висела в рассохшейся рамке его фотография – нечеткая, выгоревшая, но все равно видно, что дед был нормальным мужиком, шебутным и улыбчивым.
Но времени-то с войны прошло!.. Теперь в газетах и журналах можно прочесть даже о том, что наши солдаты не всегда были героями. Что некоторые специально сдавались в плен и даже служили на стороне фашистов. Меняется все! Берлинскую стену вон вообще сломали: столько простояла, а теперь на сувениры растащили.
В отцовской газете был один журналист, Куликов. Он недавно заходил к отцу, они долго сидели на кухне за бутылкой и разговаривали. Отец был жутко вежливым, называл этого Куликова Сергеем Михалычем и так пресмыкался перед гостем, что казался липким. Когда Андрей зашел на кухню, чтобы попить, отец засуетился, стал рассказывать, какой сын молодец, и хвастаться его вторым местом на школьной олимпиаде по географии; хотя три дня назад, когда Андрей получил грамоту, он даже не поздравил. Сидел, как часто по вечерам, на кухне с бидоном пива, пересушенной воблой и солеными баранками. Пиво было цвета мочи и воняло ею же; отец, вливая его в себя, тоже становился мутным и дурным; лицо его приобретало желтый оттенок – как у свечей, которые мать таскала из церкви. Грамоту, оставленную Андреем на кухонном столе, отец схватил рыбными пальцами, прочитал и отшвырнул в сторону, пробормотав что-то вроде: «География, млять! Кому на хрен нужна эта география?»
Когда Куликов ушел, отец допил оставшиеся полбутылки и орал матери на кухне, что Куликов бездарь и хам; что наглость – второе счастье; что любой может написать что-нибудь скандальное и отправить в московскую газету. И еще – что там, в этой газете, такие же бездари, иначе они никогда бы не позвали Куликова к себе на работу. После очередной тирады отца вступала мать: говорила что-то успокоительное, но что именно – не слышно. А отец завелся на полную; и его грубые, тяжелые, как свинчатки, слова, отрикошетив от стен прихожей, от дверей и шкафов, долетали до комнаты Андрея почти невредимыми.
Именно в тот день Андрей убедился в том, о чем он давно подозревал: как раз отец-то и был бездарем. Только поэтому, вместо того чтобы писать интересные или, может, даже скандальные статьи, он просто поливает дерьмом Куликова и других. Андрей подозревал, что и сам отец об этом догадывается. Не дурак же он? Университет окончил и на работе, как пишут в характеристиках, «на хорошем счету». Значит, все он понимает, просто прячет от других этот секрет, стыдный как триппер.
Была у отца и еще одна тайна, о которой Андрей узнал случайно примерно месяц назад. Выставить ее на всеобщее обозрение сразу же было невозможно, немыслимо, нельзя; как и сделать вид, что ничего не было.
Однажды в детстве он чуть было не хлебнул из необычной трехгранной бутылочки, забытой кем-то на столе. Мать с криком выдернула емкость из его руки, почти до обморока напугав сына своей панической реакцией. В бутылочке была уксусная эссенция; и в тот же день мать, встав на табуретку, засунула ее на верхнюю полку кухонной колонки, в самый дальний угол. Андрея до сих пор холодил изнутри давний испуг, когда он видел, как мать отмеряет нужное количество кислоты и разбавляет ее до съедобной крепости. Вторая отцовская тайна была как раз такой, едкой и опасной, как ядовитая эссенция: если не обращаться с ней бережно, она могла навредить не только отцу, но и тем, кто находится рядом. Поэтому Андрей приберег тайну на будущее. Он был уверен: рано или поздно она пригодится.
Вода остыла. Андрей снова включил воду и взял мыло с пластиковой подставки, прицепленной прямо на бортик ванны. От брикетика с мягко-закругленными краями пахло нежно и дорого. Наверняка мыло не было куплено в местном магазине; скорее всего, мать взяла его в качестве платы за работу. В последнее время она все чаще просила частных клиентов расплачиваться не деньгами. И правильно: сейчас, чтобы жить нормально, их одних недостаточно. Магазины из полупустыни превратились в Сахару или Калахари какую-нибудь. Но в их доме не переводилось импортное мыло и стиральный порошок; в холодильнике лежали сыр и колбаса, причем копченая; в шкафчике над плитой стояли дефицитные эмалированные кастрюли с яркими картинками на круглых боках. Молодец мать. А этот… Все время придирается! То ему не так, это не эдак. Вот и вчера: мать еще до ужина вырезала из газеты очередной материал отца, а после, убрав со стола, протерла цветастую клеенку, принесла из комнаты альбом и начала читать.
Андрей даже не успел понять, о чем в этот раз была статья: через пару секунд мать почему-то начала запинаться, а потом и вовсе застряла на каком-то слове. Отец моментально психанул, оттолкнул от себя чашку с недопитым чаем, которая, проехав по столу между матерью и Андреем, с грохотом свалилась на пол.
– Дура необразованная! – Эти слова отец прошипел уже в коридоре. Через минуту он шваркнул дверью спальни.
– Владик! – крикнула мать ему вслед, лицо ее искривилось. – Вот уж правда – дура я! Но тут видишь, – мать трясущимися руками двигала альбом по столу в сторону Андрея, – видишь? Тут бумага замялась и краска смазалась, слово никак не разберешь! Что же делать теперь? Ты же знаешь папу, он меня сразу не простит, еще и завтра будет сердиться. Что делать-то, Андрюша? – В глазах матери стояли слезы.
– Ма, я сам с ним поговорю! – Андрей вскочил. – Давай я тебе помогу убрать тут все. Смотри, чашка всего на две части развалилась, даже склеить можно! И чай с пола я протру сейчас. Вот и все! Давай мне альбом, в комнату отнесу, завтра прочитаем, ладно? А я тебе машинку притащу, ты же куртку мне собиралась дошить. Дошьешь? А с отцом я сам, ты не волнуйся, ладно?..
Сейчас, вспоминая вчерашний вечер, Андрей ощущал удовлетворение и предчувствие чего-то особенного, возбуждающего не меньше, чем картинки из затертого «Плейбоя», который был запрятан у отца в нижнем ящике письменного стола. Сидя в теплой воде, Андрей зажатым в ладони мылом водил вверх-вниз по избитым ногам, которые будто покусывал невидимый зверь. От скользящих прикосновений боль не только переставала быть мучительной, но и доставляла томительное удовольствие, которое хотелось длить и длить. Андрей, закрыв глаза, гладил скользким розовым овалом ноги, грудь, низ живота. И снова грудь, и снова живот, пока мыло не выскользнуло из руки. Через несколько минут он издал протяжный стон удовлетворения – не сдерживаясь, в полный голос. Кажется, стукнула входная дверь. Или показалось? Неважно. Он спустил грязную воду, открыл краны на полную, лег, расслабился и даже, кажется, задремал под уютное бульканье и бормотание. Все же совсем неплохо, что он небольшого роста: ванна как раз впору, даже ноги не нужно подгибать.
Минут через двадцать Андрей вышел в прихожую – счастливый и внутренне собранный. Грязную одежду он замочил в тазу, мать придет – постирает. Придется объяснять, где он так извозился и почему лицо разбито. Но это ничего.
Под дверью залы виднелась полоса света: «специальный корреспондент Владислав Барганов», похоже, вернулся с «важного редакционного задания». Андрей усмехнулся. Ну, что ж. Время почти пришло. Сейчас – в свою комнату, одеться, причесаться, в последний раз отрепетировать придуманные заранее слова, фразы, требования. А потом, не стучась, зайти и закончить то, что было начато вчера. Да, время пришло. Вчера Андрей только намекнул на свое тайное знание и этого хватило, чтоб на отцовском лице появилась растерянность, которая секунду спустя превратилась в отчетливый страх. Страх! Отец его боялся! Его, мозгляка и тупицу, бездаря и лентяя, которому прямая дорога в уголовники! Ну ничего. Скоро отец узнает: то, что было вчера, – это только начало. Скоро все узнают. Все.
КАТЯ
– Ну, вывалились мы из поезда на Ленинградском. Конец июля, жарень – асфальт плавится. Чемоданчики и авоськи в камеру хранения сунули, а сами пробздеться решили – первый раз в Москве-то! Мамкины куры и пышки в пути надоели, да и подтухли маленько, так что купили мы по пирожку с мясом и вышли к площади. К стеночке прислонились, пирожки лопаем. Юбки – мини, короче некуда, ляжки – как окорока свиные, батники самострочные на сиськах трещат. Стоим, значит. Мужик какой-то нарисовался и кругами вокруг нас ходит. А нам-то что? Народу вокруг – тьма, одним больше, одним меньше. Тут он подходит – плешивый какой-то, но одет хорошо, в джинсы и рубашечку с погончиками. Зыркнул на нас и спрашивает, вполголоса и будто в сторону: «Сколько?» Я ему: «Пятнадцать». И дальше пирожок жую. Он удивился – аж рот разинул и говорит: «А че так дорого?» А подружка моя, Надька, на него, как на дебила, посмотрела и как гаркнет: «Так с мясом же!»
Ленка засмеялась первой. Потом разулыбалась Катя, а там присоединилась и сама рассказчица – тетя Люся. Смех у Ленкиной матери был уютный: то ли сова ухает вдалеке, то ли каша пыхтит в кастрюльке.
– Во-о-от! Ленка сразу все поняла! Недаром в Москве выросла, не то что мы с Надькой – кулемы деревенские. Она у нас самая умная в семье. Лен, ты в кого умная такая? В кого красивая – понятно. – Большая и мягкая тетя Люся снова заколыхалась от смеха. – Кать, а ты чего не ешь-то? Давай-ка я тебе еще картошки… И мяско вот. Давай-давай, жуй-глотай! А то вон какая тощая!
Кормили у Хлюдовых на убой. Тетя Люся давным-давно «сидела на продуктах»: начинала с продавца, потом дослужилась до директора продмага. Так что в доме во все времена водились в изобилии и гречка, и сливочное масло, и рыбка в цветах московского «Спартака», и мясо всех сортов и видов, от буженины и перламутрового на срезе балыка до бордовой говядины и атлетически поджарых кроличьих тушек. Когда бы Катя ни приехала, в выходной или будний день, утром или к полуночи, ее всегда приглашали к столу.
Ели Хлюдовы вкусно. Не готовили вкусно (хотя и это тоже), а именно ели. Можно было бесконечно смотреть, как Ленка сочиняет многоступенчатый бутерброд, заговаривая его, как знахарка снадобье: «А вот мы на хлебушек маянезик намажем, и огурчик свеженький то-о-оненькими лепесточками, и ветчинку, и сервелатика чуть-чуть. И сырком дырявеньким сверху накроем, ма-асдамчиком, на машине специальной порезанным. М-м-м…» Наколдованный бутер исчезал в Ленке как в черной дыре – быстро и бесшумно.
А как тетя Люся вкушала маринованные помидоры! Нежно снимала с их тел прозрачные лепестки кожицы, торжественно подносила обнаженный плод ко рту, прикрывая глаза в предвкушении. Катя в этот момент замирала, а после сглатывала вместе с тетей Люсей, наслаждаясь зрелищем, и тоже хваталась за пряную, пахнущую чесноком и укропом вкуснятину. Она, всегда относившаяся к пище утилитарно, как к горючему, на просторной хлюдовской кухне впервые ощутила и телом, и душой: если чревоугодие и грех, то вполне простительный.
Ленкин младший брат Сергей и глава семейства дядя Саша поглощали пищу не так самозабвенно, но тоже с аппетитом. Сергея Катя видела редко: тот учился в выпускном классе и всерьез занимался спортом. А с дядей Сашей не раз сиживала за обедами и ужинами. Ленкин отец был молчалив и улыбчив, ростом – не ниже жены и той же невнятно-русой масти, но габаритами – как молодой кабачок против круглой налитой дыни. Всю свою столичную жизнь работал в «Метрострое». Катя, не любившая подземку за шум, духоту, плотность многоглавой безликой толпы, после знакомства с Хлюдовым-старшим стала относиться к метро иначе. У подземного царства появилось лицо, и это было лицо дяди Саши – простецкое, с носом уточкой, с маленьким, каким-то детским ртом. Качаясь взад-вперед на разгонах-торможениях, Катя представляла, как самые обычные, невеликие мужички роют радиусы и хорды тоннелей, как прячут за драгоценным мрамором железобетонное нутро арок и стен; как в обеденный перерыв усаживаются прямо на рельсы новой, еще неезженной линии и достают котлеты, вареные яйца, термосы с чаем и подначивают самого молодого: «Что, Илюха, опять с батоном и кефиром? Вот пентюх! Когда ты уже бабу себе заведешь»?
Александр Хлюдов «завел» Людмилу Семенову в общежитии для лимитчиков: приехал к приятелю в гости, из такой же общаги, но на другом конце Москвы. Люся к тому времени в столице обжилась и даже заменила койку с панцирной сеткой на диван, обтянутый гобеленом – красным, с синими разлапистыми тюльпанами. В комнатке на троих она оказалась… Да как и все прочие. В свой первый столичный день, наевшись на вокзале пирожков и посетив достопримечательности (Красная площадь – Мавзолей – ГУМЦУМ – «Детский мир»), она заселилась в общежитие педагогического института, откуда отбыла через неделю, провалив экзамены даже не с треском, а с грохотом. Но домой не вернулась, устроилась на прядильно-ткацкий комбинат. Платили хорошо. А что после смены в ушах шумело – так то ж Москва, тут у всех шумит: не от станков, так от машин или высокой ответственности. Смешно еще, что сморкалась разноцветно: то розовым, то зеленым, то голубым – зависело от того, каких ниток нанюхалась.
Саша ей сразу понравился: чистенький, ходит вприпрыжку. Свой, русак, с нежно-игольчатой, как новорожденный еж, прической. За разные места Люсю не хватал даже после полбутылки, а на вопрос «Ты кем хоть работаешь?» ответил «Кротом». Она – тогда еще сорок шестого размера, а не пятьдесят восьмого – вытаращила глаза, а он засмеялся, дробным, как просыпавшийся горох, смехом.
Комнату дали отдельную, не сразу, но дали. Ленка уже на подходе была, через четыре года – Сережка. В промежутке между детьми Люся поменяла работу: перебралась с грохочущей фабрики в уютный универсам. Так что жили нормально. А детям вообще в общаге было раздолье. В хрущевке на велосипеде не покатаешься, а по двадцатиметровому коридору – пожалуйста. Можно, правда, от загулявшего соседа подзатыльник получить, но это сегодня. А завтра – конфету. И не карамельку какую-нибудь, а «Мишку» или даже «Стратосферу».
Саша и Люся тоже не жаловались. В этих отдельных квартирах все сами по себе, закроются-замуруются и сидят как сычи. А тут если нужно пятерку до зарплаты стрельнуть, то дадут обязательно, если не в первой комнате по коридору, то уж в третьей наверняка. На демонстрацию ходили, с флажками и бумажными цветами, наверченными на ветки; Ленка за руку, Сережка – у отца на плечах, и тянули шеи к трибунам, и орали во всю мощь пролетарских глоток. «Да зда… ет аюз абочеа класса и удового… стьянсва! Уа-а-а…» А как на Новый год пельмени мастрячили всем этажом? Пять мясорубок, двадцать пар обсыпанных мукой рук, три ведерные кастрюли, а потом под водочку, под вино «Арбатское», за накрытыми прямо в коридоре столами: «Ну, с новым счастьем!»
Счастье в виде трешки в новенькой шестнадцатиэтажке – с десятиметровой кухней и лоджией площадью как комната в общежитии – привалило ожидаемо и неожиданно, когда слишком развитый социализм, кряхтя, доживал последние безрадостные годы. Успели! Вскочили в последнюю электричку! Двадцать минут от Киевского вокзала, а потом – на автобусе, бесконечно, мимо сотен домов, похожих издалека на блоки дорогущего «Лего»: вроде разные, а все равно одинаковые. Ленка свое Солнцево называла не иначе как «жопа мира»: «Хорошо тебе, Катька, тебе от метро недалеко, хоть и на автобусе, а я пока до своей жопы мира доеду…» Но Хлюдовы-старшие вили гнездо неутомимо и восторженно, десять лет без перерыва.
Раз в два года переклеивались обои – непременно в арбузного размера цветах, обязательно с золотом. Раз в три года обновлялась мягкая мебель. Однажды Катя, приехав в гости, застала дядю Сашу в прихожей, где он ухарски рубил топором кресло: в дверь оно не пролезало и позже было отправлено на помойку расчлененным. За сменой ковров, паласов и покрывал не уследил бы даже тот, кто посещал хлюдовскую квартиру регулярно, а не от случая к случаю, как Катя. Хотя бывать там она любила. Ей было интересно наблюдать за «полной семьей»: когда и мама, и папа, и двое детей, и родственники наезжают – шумные, говорливые, обнимают до хруста, вынимают из бездонных сумок свертки и пакеты, чаще со съестным. А тетя Люся мечет на стол мисочки, плошечки, тарелки и тарелищи и переживает, что не предупредили, а то бы она пирогов!..
Пирожки, кстати, Ленка регулярно таскала в институт – минимум раз в месяц, а то и два, штук по двадцать-тридцать, завернутые в плотную бумагу и втиснутые в ветхозаветную холщовую сумку. Однажды кто-то из участников уже привычного пира изучил облупившийся рисунок на ней, опознал группу «Boney M.» и заголосил на всю кофейню: «Ма-ма-ма-ма, ма бейкер!» Потом вспомнили «Бахаму маму» и «Распутина», а Катя подошла к сидевшей чуть в стороне Ленке, чтоб задать вопрос, давно ее волновавший:
– А тетя Люся что, специально для нас пироги печет? С чего вдруг?
– Да нет, – Ленка поморщилась, – просто мать с отцом опять поссорились, а мы столько пирогов съесть не в состоянии. Она ж их в запале намесит столько – чума!
– Что-то я связи не уловила, – удивилась Катя.
– Ну, они когда ссорятся, если только не ночью совсем, то мать – на кухню сразу и тесто на пироги ставит. А отец на лоджию идет, у него там мастерская. И полочки сколачивает. Как доколотит, тоже на кухню плетется. Всю кухню мукой уделают, налепят три-четыре противня, потом пекут, потом убираются. И спать идут. А утром – как ни в чем не бывало. Вроде и не было никаких ссор.