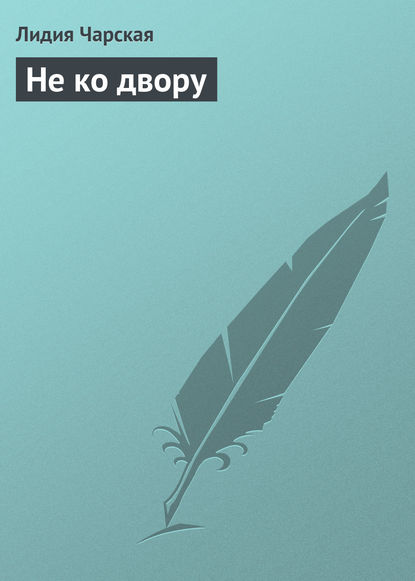По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Не ко двору
Автор
Год написания книги
1903
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не ко двору
Лидия Алексеевна Чарская
В белом фланелевом халате, какими-то прихотливыми складками драпирующем ее фигуру, с бледным, подвижным и болезненным лицом, она не красива, но лицо ее не может остаться незамеченным!.. Оно просится на полотно и прочно западает в душу. Оно живет тысячью ощущений сразу, это донельзя странное, говорящее, подвижное лицо…
Лидия Алексеевна Чарская
Не ко двору
Дождь мелкий, холодный, настоящий октябрьский дождь бьет о стекла большого серого здания.
По широкому крыльцу, зябко кутаясь в солдатскую шинельку, ходит дневальный.
Где-то далеко в темноте лает голодная собака.
– Михеев! прошла барыня?
Перед дежурным солдатиком вырастает плотная и коренастая фигура офицера.
– Так точно, ваше высокоблагородие! – рапортует солдатик, вытягиваясь в струнку.
Офицер легкой и быстрой походкой, не соответствующей его полной фигуре, вбегает по скользким и мокрым от дождя ступеням крыльца и, пройдя длинный, чуть освещенный коридор, по обе стороны которого расположены офицерские квартиры, звонит у своей двери.
На гладкой дверной доске выгравировано четким и жирным шрифтом «Владимир Михайлович Звягин».
Денщик с добродушной хохлацкой физиономией широко распахивает дверь.
– Что, Гриценко, прошла барыня? – повторяет и ему свой вопрос офицер.
– Так точно, пришли-с, ваше высокоблагородие.
Поручик Звягин бросает ему на руки шинель и шашку и, на ходу вытирая мокрые усы, проходит уютную, крохотную столовую, зальце с новенькой еще «приданной» мебелью и входит в спальню, разгороженную на две половины высокими голубыми ширмами.
– Ира! ты здесь?
Она здесь… Она лежит на кушетке в своем будуаре, как они в шутку в первые дни замужества окрестили чистую половину своей спальни, нервная и возбужденная, как всегда.
Он иною ее и не знает, особенно с тех пор, как началась эта ужасная история с Ивановыми. И теперь ее большие темные глаза горят сухим и острым, точно горячечным, блеском, которого он так не любит и, пожалуй, даже боится.
При его появлении, она вскакивает с кушетки и, подбежав к нему с живостью подростка, вскрикивает:
– Ну, что?
Когда она лежит, то кажется маленькой и хрупкой, теперь, когда она стоить, ее можно назвать почти высокой.
В белом фланелевом халате, какими-то прихотливыми складками драпирующем ее фигуру, с бледным, подвижным и болезненным лицом, она не красива, но лицо ее не может остаться незамеченным!.. Оно просится на полотно и прочно западает в душу. Оно живет тысячью ощущений сразу, это донельзя странное, говорящее, подвижное лицо.
– Ну, что? – говорит лицо всеми мускулами, говорит прежде, нежели голос.
Поручик Звягин, избегая взгляда жены, целует ее худенькие, необыкновенно прозрачные пальцы.
Едва заметная презрительная улыбка морщит тонкие губы Ирины и вся она как-то темнеет и сокращается.
– Ты ничего не сделал! Я вижу, ты ничего не сделал, – говорит она глухим, точно надорванным голосом и, отвернувшись от него, тихо плачет…
Ее слезь он выносить не может, как не может выносить ее сухого, острого взгляда. Он слишком любить ее. В ней одной вся его жизнь…
– Ира, дорогая, пойми! – и он нежно касается ее вздрагивающих плеч.
– Нет, никогда не пойму, никогда, ни тебя, ни их, никого из вас! Вы мне гадки, все! Слышишь ли, все, все, все!
И голос становится еще глуше и резче.
– Но пойми же, это дисциплина, Ира, жизнь моя!
– Ложь! Дисциплиной называешь ты мучить и истязать людей без всякой пользы! Эту дисциплину выдумал ты и тебе подобные. Строгость должна быть, должна быть дисциплина, но ведь все это не то, не то! Конечно, раз солдат умышленно нарушает уставы воинской повинности, с него нельзя не взыскать, но нарочно, ради глупого, никому не нужного испытания подвергать его случайностям это мерзко и бесчеловечно… Мерзко, пойми… А оправдывать свой поступок требованиями дисциплины – еще гаже, Владимир, еще отвратительнее!
– Но, постой, Ира… ты сама сейчас сказала, что взыскание необходимо на случай уклонения от служебных обязанностей. Милая, а как же проверять эти служебные обязанности? Не посредством ли испытаний или набегов, как ты называешь?
– Подлых и разбойничьих, прибавь! Нет! тысячу раз нет и нет! Ах, уйди ты от меня, ради Бога, мы говорим на разных языках и никогда не поймем друг друга…
И, повернувшись к мужу спиной, Ирина идет за голубые ширмы.
Он остается в нерешимости, жалкий и уничтоженный, не зная, что делать… Начать успокаивать жену – значило бы раздражать ее еще больше. Согласиться с нею – значило бы изменить своим принципам, запавшим твердо и прочно в его душу с юнкерской скамьи вместе с знаниями тактики и фортификации.
Он подходит к окну… Вглядывается в скользкую, мокрую октябрьскую ночь…
Дождь шлепает по-прежнему гулкими каплями о крышу здания… По-прежнему в темноте лает голодная собака.
А на душе грустно невыразимо…
– Ваше высокородие, господа вас спрашивают, – раздается с порога густой бас Гриценко.
– Кто еще? – хмурит брови Звягин.
– Так что поручик Бойницкий, адъютант, капитан Махнеев.
– Сейчас, скажи. Ира, ты не выйдешь?
– Избавь, пожалуйста, – слышится из-за ширм.
– Ну, так пришли, пожалуйста, варенья, булок, перекусить чего-нибудь…
– Хорошо, я пришлю с Гриценко.
– Ирочка, и водочки?
– Хорошо, хорошо. Уйди, пожалуйста.
Он, однако, на этот раз не слишком покорен. За голубыми ширмами лежит она – его жена, такая странная и возбуждающая его своею странностью, – такая чужая и новая… Постоянно новая и чужая… За эту отчужденность он и влюблен в нее, как мальчик.
Лидия Алексеевна Чарская
В белом фланелевом халате, какими-то прихотливыми складками драпирующем ее фигуру, с бледным, подвижным и болезненным лицом, она не красива, но лицо ее не может остаться незамеченным!.. Оно просится на полотно и прочно западает в душу. Оно живет тысячью ощущений сразу, это донельзя странное, говорящее, подвижное лицо…
Лидия Алексеевна Чарская
Не ко двору
Дождь мелкий, холодный, настоящий октябрьский дождь бьет о стекла большого серого здания.
По широкому крыльцу, зябко кутаясь в солдатскую шинельку, ходит дневальный.
Где-то далеко в темноте лает голодная собака.
– Михеев! прошла барыня?
Перед дежурным солдатиком вырастает плотная и коренастая фигура офицера.
– Так точно, ваше высокоблагородие! – рапортует солдатик, вытягиваясь в струнку.
Офицер легкой и быстрой походкой, не соответствующей его полной фигуре, вбегает по скользким и мокрым от дождя ступеням крыльца и, пройдя длинный, чуть освещенный коридор, по обе стороны которого расположены офицерские квартиры, звонит у своей двери.
На гладкой дверной доске выгравировано четким и жирным шрифтом «Владимир Михайлович Звягин».
Денщик с добродушной хохлацкой физиономией широко распахивает дверь.
– Что, Гриценко, прошла барыня? – повторяет и ему свой вопрос офицер.
– Так точно, пришли-с, ваше высокоблагородие.
Поручик Звягин бросает ему на руки шинель и шашку и, на ходу вытирая мокрые усы, проходит уютную, крохотную столовую, зальце с новенькой еще «приданной» мебелью и входит в спальню, разгороженную на две половины высокими голубыми ширмами.
– Ира! ты здесь?
Она здесь… Она лежит на кушетке в своем будуаре, как они в шутку в первые дни замужества окрестили чистую половину своей спальни, нервная и возбужденная, как всегда.
Он иною ее и не знает, особенно с тех пор, как началась эта ужасная история с Ивановыми. И теперь ее большие темные глаза горят сухим и острым, точно горячечным, блеском, которого он так не любит и, пожалуй, даже боится.
При его появлении, она вскакивает с кушетки и, подбежав к нему с живостью подростка, вскрикивает:
– Ну, что?
Когда она лежит, то кажется маленькой и хрупкой, теперь, когда она стоить, ее можно назвать почти высокой.
В белом фланелевом халате, какими-то прихотливыми складками драпирующем ее фигуру, с бледным, подвижным и болезненным лицом, она не красива, но лицо ее не может остаться незамеченным!.. Оно просится на полотно и прочно западает в душу. Оно живет тысячью ощущений сразу, это донельзя странное, говорящее, подвижное лицо.
– Ну, что? – говорит лицо всеми мускулами, говорит прежде, нежели голос.
Поручик Звягин, избегая взгляда жены, целует ее худенькие, необыкновенно прозрачные пальцы.
Едва заметная презрительная улыбка морщит тонкие губы Ирины и вся она как-то темнеет и сокращается.
– Ты ничего не сделал! Я вижу, ты ничего не сделал, – говорит она глухим, точно надорванным голосом и, отвернувшись от него, тихо плачет…
Ее слезь он выносить не может, как не может выносить ее сухого, острого взгляда. Он слишком любить ее. В ней одной вся его жизнь…
– Ира, дорогая, пойми! – и он нежно касается ее вздрагивающих плеч.
– Нет, никогда не пойму, никогда, ни тебя, ни их, никого из вас! Вы мне гадки, все! Слышишь ли, все, все, все!
И голос становится еще глуше и резче.
– Но пойми же, это дисциплина, Ира, жизнь моя!
– Ложь! Дисциплиной называешь ты мучить и истязать людей без всякой пользы! Эту дисциплину выдумал ты и тебе подобные. Строгость должна быть, должна быть дисциплина, но ведь все это не то, не то! Конечно, раз солдат умышленно нарушает уставы воинской повинности, с него нельзя не взыскать, но нарочно, ради глупого, никому не нужного испытания подвергать его случайностям это мерзко и бесчеловечно… Мерзко, пойми… А оправдывать свой поступок требованиями дисциплины – еще гаже, Владимир, еще отвратительнее!
– Но, постой, Ира… ты сама сейчас сказала, что взыскание необходимо на случай уклонения от служебных обязанностей. Милая, а как же проверять эти служебные обязанности? Не посредством ли испытаний или набегов, как ты называешь?
– Подлых и разбойничьих, прибавь! Нет! тысячу раз нет и нет! Ах, уйди ты от меня, ради Бога, мы говорим на разных языках и никогда не поймем друг друга…
И, повернувшись к мужу спиной, Ирина идет за голубые ширмы.
Он остается в нерешимости, жалкий и уничтоженный, не зная, что делать… Начать успокаивать жену – значило бы раздражать ее еще больше. Согласиться с нею – значило бы изменить своим принципам, запавшим твердо и прочно в его душу с юнкерской скамьи вместе с знаниями тактики и фортификации.
Он подходит к окну… Вглядывается в скользкую, мокрую октябрьскую ночь…
Дождь шлепает по-прежнему гулкими каплями о крышу здания… По-прежнему в темноте лает голодная собака.
А на душе грустно невыразимо…
– Ваше высокородие, господа вас спрашивают, – раздается с порога густой бас Гриценко.
– Кто еще? – хмурит брови Звягин.
– Так что поручик Бойницкий, адъютант, капитан Махнеев.
– Сейчас, скажи. Ира, ты не выйдешь?
– Избавь, пожалуйста, – слышится из-за ширм.
– Ну, так пришли, пожалуйста, варенья, булок, перекусить чего-нибудь…
– Хорошо, я пришлю с Гриценко.
– Ирочка, и водочки?
– Хорошо, хорошо. Уйди, пожалуйста.
Он, однако, на этот раз не слишком покорен. За голубыми ширмами лежит она – его жена, такая странная и возбуждающая его своею странностью, – такая чужая и новая… Постоянно новая и чужая… За эту отчужденность он и влюблен в нее, как мальчик.