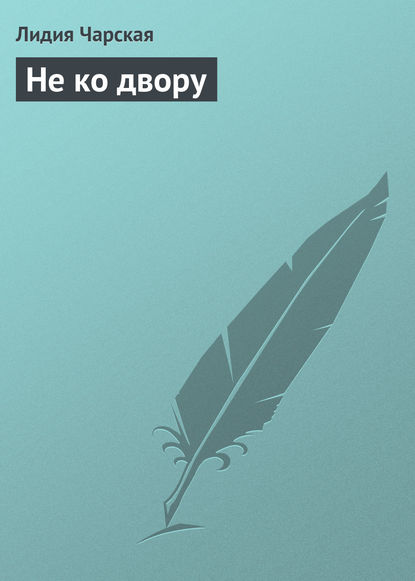По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Не ко двору
Автор
Год написания книги
1903
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Не смейте меня называть так! И глаза ее полны яда ненависти.
– Любовь все смеешь, повторяю вам.
– Ага!.. любовь, значит, смеет приносить жертвы. Она смеет быть смелой и прямой. Она – правда. Ступайте же к командиру и спасите Иванова. Это будет жертва, Бойницкий, и я принимаю ее.
– И?
Глаза его полны вопроса, чистые, гордые глаза…
– И вы будете моею… О! Иду, иду к командиру! Иду, моя милая, моя несравненная… Моя мучительница!
Он хватает ее руки, бессильные и холодные… Его дыханье близко от нее… Его губы на ее щеках, глазах, шее…
Темный туман сгущается над нею… Что-то ноет и бьется в груди…
– Пойдите вон, вы мне гадки! – стоном рвется из ее груди, и слезы бессилия, злобы и унижения катятся по лицу.
Он смотрит на нее, ничего не понимая… Потом, встретив ее взгляд, тупой и отчаянный, полный презрения и брезгливой жалости, поспешно уходишь.
Темный туман точно проясняется над головою Иры, но гномы с их молоточками работают еще усерднее в ее мозгу… Шатаясь, бредет она в спальню.
Ночь – долгая, как вечность, как вечность томительная ночь… И нет ей конца… Темные сны граничат с кошмарами… Темные кошмары граничат со снами.
Она видит толпу серых шинелей… Кучку офицеров в стороне… Что-то безобразно распростертое на земле. Какая-то груда прутьев… Она содрогается во сне, поняв их значение… Кровь на теле лежащего… Стоны и вопль, заглушённые барабанным боем…
– Дисциплинарный батальон, – четко выговаривает воспаленный мозг и вся она обливается холодным потом.
Потом бледное, искаженное лицо Иванова… Он сидит на барабане и говорит скоро, скоро, вытирая со щек слезы и кровь:
– Не спасла-таки… не спасла от гибели, от срама, а как обещала… Мне что… Невеста осталась… не успели греха прикрыть… Погибла ни за что девка… А ты могла спасти и не спасла… Сраму побоялась… Себя пожалела… А сама про жертвы толковала. О, подлая! Как и они подлая! одного, знать, с ними поля ягода! Дьяволы, дьяволы, вы все дьяволы!
– Бойницкий, Бойницкий! Где он? – кричит, мечась по постели, Ирина. – Сюда, сюда, скорее, пока не поздно! Спасите его… невесту… ребенка. Скорей к командиру… Спишите, во имя Бога, Бойницкий!
А ночь равнодушная и молчаливая и безжалостная скользит над сонной землею…
И нет ей дела до измученной тоненькой женщины, обливающей подушки слезами и потом и до несчастного заключенного, проводящего последние часы под мирной кровлей полковой гауптвахты.
– Ира! Ты приказала разбудить себя. Сейчас проведут Иванова, – слышится сквозь сон голос Звягина. Она быстро вскакивает и садится на постели. Ее глаза совсем не сонные смотрят бодро и трезво куда-то мимо него.
– Ира, дорогая, сейчас проведут Иванова. Ты велела разбудить себя, чтобы посмотреть на него из окошка, – повторяет он, думая, что она не слышишь.
Она смотрит все также… и точно прислушивается… Потом прикладывает к голове своей белый, тонкий, слабый, как у ребенка палец, сдвигает брови и… смеется. Сначала тихо, тихо, потом громче и громче и вдруг разражается неудержимо звонким хохотом, от которого делается холодно и жутко на сердце.
– Как проведут? Разве ты не знаешь? Его простили! Да простили, – говорит она с трудом удерживая приступы смеха. – Ты ничего не знаешь? О, это смешная история! Отчего ты не смеешься?
– Что с тобой? Ради Бога, что с тобой, моя Ира? – почти стонет Звягин, смутно угадывающий истину.
– Простили… простили, – твердит она все трое простили: и Бог, и командир, и Бойницкий.
И опять хохот. Жуткий, неудержимый.
Под окнами, стуча сапогами и прикладами, прошли солдаты… В воздухе протрещала чистая дробь барабана. Приговоренный поднял исхудалое лицо к окну Звягинской квартиры и медленно перекрестил воздух. В этом тихом благословении солдатика заключалась и благодарность и признательность, и мольба за ту, которая так горячо вступилась за него.
И он перекрестил ее, не зная чего просить ей у Бога.
Просить было нечего, кроме вечного покоя и тихого мира… Нервная горячка сделала свое дело…
Когда через три дня ее хоронили, весь полк с полковыми дамами присутствовал на обряд у открытой могилы высокой, тонкой женщины… Ее муж рыдал, как безумный.
– Непонятная, – говорила толстая капитанша худенькой поручице. – Она, душечка, всегда была непонятная.
– Да и не ко двору она нам была, – заметила тонкая, как жердь, супруга полкового доктора.
– Не ко двору, не ко двору! – затрещали дамы. – Не ко двору, – просвистел резкий октябрьский ветер.
– Не ко двору, – зашептали вечно зеленые верхушки сосен…
– Не ко двору! – разнеслось далеко… далеко…
Бойницкий был сосредоточен и бледен…