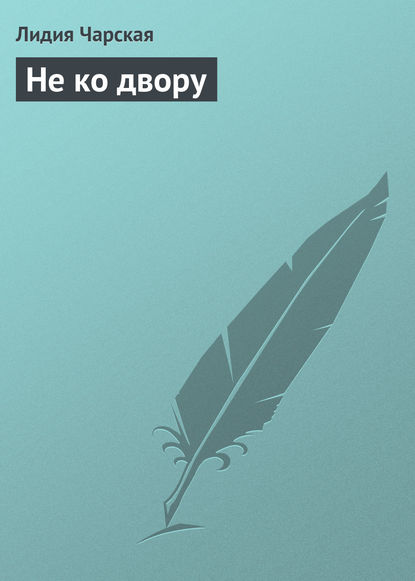По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Не ко двору
Автор
Год написания книги
1903
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Добродушный Махнеев тайно и почти бессознательно, адъютант явно и восторженно, а Бойницкий и сознательно, и зло, и тайно, и явно – с тем упорством и опьянением, которое готово сломать, погубить, уничтожить и себя, и своего кумира…
Ира знает чувства своих «рыцарей», как их в шутку называет Владимир, и к каждому из них относится различно. Махнеева «выносит» за его безвредность и простоту, адъютанта презирает за его ничтожество, а Бойницкого боится, боится и ненавидит. Между ними борьба, постоянная борьба, за солдат особенно. С солдатами Бойницкий жесток и бесчеловечен. В его роте образцовый порядок, и Ира знает, какими путями он достигнуть. И она ненавидит Бойницкого…
Вот и сейчас она смотрит на его тщательно с пробором причесанную голову, на его холеные руки, с самоуверенной плавностью сдающая карты, на его улыбку, открывающую ряд ослепительно белых зубов под темными шелковистыми усами, и он ей делается противен и гадок.
Она отлично знает, что никто иной, как он, ударил у манежа пьяного Иванова и вызвал его на дерзость. Она знает, что своей гибелью Иванов обязан этому бессердечному, холодному человеку с холеными руками и дерзкой улыбкой.
Она знает слова Иванова, грозившего после приговора Бойницкому:
– Погоди, родимый, до батальона дождем, а только и оттуда ходы есть! – говорил подсудимый.
И Ирина злобно радовалась на эти слова, переданный ей верным Гриценко.
– Хоть бы он убил его, зарезал, уничтожил! – в исступлении твердят ее мысли, не находящие исхода.
И снова Иванов, бледный и худой, каким она видела его в последний раз, предстает перед ее мысленными взорами.
Она смотрит с ненавистью на улыбающееся прекрасное лицо Бойницкого и взгляды их скрещиваются. Его глаза, сухие и недобрые, полны теперь алчного блеска, выдержать которого она не в силах… Ненавистные глаза, зацелованные, может быть, десятками женщин… И они будут жить и смотреть, в то время как мучается Иванов и десятки других, может быть таких же несчастных, погибающих игрою глупого и пошлого произвола.
– Какая гнусность, – говорят ее глаза, погружаясь взглядом в глаза Бойницкого. – Какая гнусность – губить человека и спокойно и приятно пить, есть и играть в карты!
– Ты прелесть! – отвечают, не поняв ее взгляда, его дерзкие и холодные глаза. Ты женщина о которой я всегда мечтал и какой еще не встречал до сих пор. Я безумно хочу обладать тобою.
Она вспыхивает до корней волос, до высокой тонкой шеи, выходящей из широкого отложного ворота халата, вспыхивает от гнева и презрения. Ее муж ничего не видит. А если и видит, так что же такое? Ведь это так понятно, что ею восхищаются окружавшие. Она такая особенная… Таких еще не видели в их захолустье… потом, он слишком верит в ее чистоту и безупречность…
Сейчас он в своей сфере… Он говорит… говорит… говорит… все на одну и ту же тему.
Дисциплина… дисциплина… и дисциплина. Долг службы важнее всего: отца, матери, семьи и детей. Даже любимая женщина должна быть принесена в жертву ради этого долга. Таков его взгляд, таково его убеждение… И на солдат он, во имя этого же долга, не может смотреть иначе. Это дети, неразумные животные; в них надо вбивать дисциплину.
– Вбивать? – повторяешь машинально Ирина, одними губами, без участия мысли и сердца.
– Да, вбивать! – докладывает (именно докладывает) нудный, ровный голос с противными подчеркиваниями и закругленностями слов, – голос, напоминающий крупную дробь барабана – ненавистный голос!
– Да, да, как детей и животных, – подтверждает голос, – надо бить и действовать на них, как на существ неразумных, страхом телесных наказаний, потому что с детства они не знают иного обращения. С первых годов жизни их бьет сестра-нянька, бьют товарищи-подростки, братья, отец, бьют сотские, десятские, старшина в волости за провинность перед обществом или семьею. Одна мать их не бьет или бьет меньше, за то они сами побьют ее, как вырастут, под пьяную руку в благодарность за гуманное обращение.
– О, какой ужас! Какой ужас! – говорит Ирина и закрывает лицо руками.
– Нет, не ужас, а жизнь! – вторит другой голос, приятный, не менее ей ненавистный голос Бойницкого.
– Надо проще смотреть на жизнь, Ирина Павловна, – подхватывает добродушный Махнеев, – эти самые невинные по-вашему мученики-солдаты приходят валяться в ногах после совершенного проступка, умоляя наказать их отечески, не предавая суду.
– И вы наказываете?
– Ну, разумеется! Изобьешь его, подлеца, чтоб долго помнил и отпустишь с миром.
– Это не то, Махнеев, это вы по доброте своей… – слабо улыбнулась Ирина. – Но отчего же Бойницкий не избил того же Иванова у манежа, а предал его суду?
– Это был не проступок, а преступление, преступление перед законом службы… и оскорбление начальства…
– Так зачем было предавать это гласности, убивать без оружия, губить на всю жизнь? У этого Иванова, говорят, невеста… или даже больше того. Я слышала о ребенке… И потом он был до сих пор примерный служака, – исполнительный, славный…
– Тем больше вина его… Тем строже надо отнестись к его вине. Что делать, Ирина Павловна!
– Что делать, Бойницкий? Что делать! – и голос Ирины делается глухим, как у трудно больного, – что делать? Так я скажу вам сейчас что надо делать: бросить карты, идти к командиру и сказать ему: «Полковник, виноват не Иванов, а я – поручик Бойницкий, потому что вызвал пьяного Иванова на грубость: ударил его и разбудил в нем зверя вместо того, чтобы отправить его под арест». На то, что Иванов был пьян, никто не упирал в суде. Он был дерзок, оскорбил начальство, нарушил дисциплину, – говорили все, и никто не указал на то, что он был в состоянии невменяемости. Надо пойти и сказать все это командиру и вымолить помилование Иванову. И тогда только можно жить на свете, господа…
Речь Ирины круто обрывается. Ее лицо бледно как полотно. Глаза загораются нестерпимо… Ее знобит и лихорадит… А в голове идет какая-то сложная и копотная работа… Точно в мозгу поселились маленькие гномы и ударяют там своими крохотными молотками. Она ждет до боли во всем существе… Ждет ответа… Офицеры молчат… Их спокойствие мучит ее… Бойницкий бледен и зол, стараясь не дать заметить своего смущения.
– Ну? – стоном вырывается из груди Ирины. – Бойницкий! Да что же вы молчите? – почти кричит она в упор офицеру.
И всем становится неловко.
– В таком случае вам придется лишить меня жизни, Ирина Павловна, потому что я не пойду к командиру просить за это животное, заслуживающее скорее виселицы, нежели дисциплинарного батальона…
Он встает из-за стола, бледный я спокойный, как всегда, избегая, однако, ее взгляда.
Она смеется, не скрывая значения этого смеха. Неловкость между присутствующими увеличивается… Всем тяжела и неприятна эта сцена и все ждут исхода…
За двойной рамой, заглушая на мгновенье шум дождя, долетает звонкая трель барабана. Это призыв к молитве и перекличке…
Адъютант торопливо вскакивает и, наскоро простившись, бежит с вечерним рапортом к командиру. Махнеев и Звягин спешат в роты. Бойницкий подходит проститься к Ирине.
Ее рука холодна и безжизненна, а лицо пылаешь горячим румянцем.
Ей гадко, невыразимо гадко прикосновение его губ к ее захолодевшей кисти и она брезгливо выдергиваешь руку из его пальцев.
Он удаляется, пожав плечами, готовый проглотить все оскорбления «ненормальной» женщины, как мысленно называет Ирину…
Он ушел, а она все еще стоит у окна, вглядываясь в темную, ненастную октябрьскую ночь… Его шаги с металлическим звуком шпор удаляются… потом приближаются снова. Вошь они ближе, ближе, здесь, около, рядом. Она поднимаешь больную голову.
Перед ней Бойницкий.
– Вы? Опять вы, ужасный человек!
– Я не могу уйти от вас… Вы сердитесь на меня. Поймите, я люблю вас, Ирина.
И голова его снова склоняется к ее руке.
– Как вы смеете, Бойницкий.
– Любовь все смеет. А я люблю вас.
– Я ненавижу вас, как злейшего врага!
– Знаю.
– И все-таки ищете моей любви?
– И все-таки, Ирина!