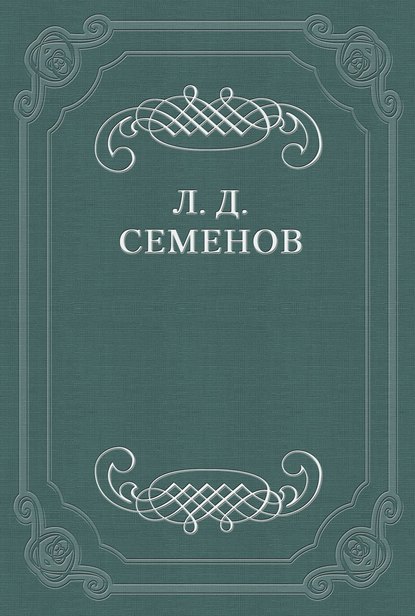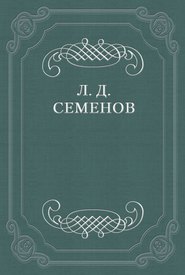По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Проклятие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Я это рассказываю. Я рассказываю теперь сухо и скупо. На словах все выходит так бледно, ничтожно. Разве можно передать, что было… свой ужас, свой гнев и бессилие?
Девушка в белом со скукой перебивает меня.
– Так что ж? Это и меня били! – говорит она и подымает на меня безучастные, чуть-чуть насмешливые глаза…
Я останавливаюсь, и она, чтобы, должно быть, отвязаться скорей от расспросов, быстро и злобно рассказывает.
– Нас держат по участкам в Одессе, пока не преданы суду… Так вот… Там, конечно, вместе со всеми – с пьяными, с проститутками по три месяца… У меня подруга заболела. Ее перевели в больницу. Я тоже просилась… Ну, меня и избили.
Я молчу. Я только гляжу на нее. Она слегка кривит рот и с какой-то злобой на себя кончает:
– Били казаки нагайками. Я вышла в сумерки на двор. Пять дней лежала. Доктора дали только на седьмой.
– Ну, и скотина же этот доктор, Бырдин! – вставляет еврей.
– Я его и не принимала! – отрезает быстро девушка, точно обидившись, что могли подумать другое – и вдруг странно, весело оживляется:
– А в Одессе тюрьма! Какая прелесть! Вот если бы вы побывали там! Море, воздух, электричество! Я все бегала, бегала по коридору. Так носилась, что всем казалась сумасшедшей… Вот и Левушка в меня тогда влюбился…
Еще все говорят, говорят. Но, кажется, я уж давно ничего не слышу, не чувствую, сплю.
– Беккера где-то застрелили! – долетает до меня.
Но мне уже все равно, как всем тут.
Передо мной белая маска плывет и скалит бескровные десна.
– Меня тоже били! – смеется она и заламывается назад. Серые глаза в синих орбитах смотрят с застывшим испугом.
«Серафима, Серафима!..»
Я брежу, брежу всю ночь.
Тогда в карцере одна мысль не давала мне покою. Сверлила. Городовые били за то, что я одного из них подвел… Я убежал из-под его дежурства. «Мужика подвел!» – звенело в ушах… Может быть, в этом и была действительно их правда, их настоящая мужицкая правда, перед которой ничто все наши учености и «доникадемии», – и все прощалось… Они мстили мне за себя, как могли… Но эти казаки, этот исправник! Там в Одессе, в застенках среди мук и стонов рождается новая жизнь… Одна часть человечества восстает на другую… Может быть, так и надо… Так и надо, что одна должна истребить другую.
Но Серафима, Серафима, что останется тогда от твоей мечты!?
Ужас охватывает меня, и я чувствую, как мозг леденеет.
Ведь и она, и она может быть там… – у казаков.
Нет, с этим я не могу примириться. Тогда проклятие, проклятие вам, истязатели и мучители!..
Я просыпаюсь…
Я просыпаюсь, кажется, от крика… Кругом все то же. Только утро теперь. Поезд стоит. Перед окнами товарные вагоны и белый, холодный снег…
– Дурак! Болван! Колода какая-то, а не человек! Кто так считает! – несется из соседнего отделения.
Я вздрагиваю.
Офицер, чистый и выбритый, с манжетами на руках и с кольцом на мизинце, проверяет наши списки и появляется в дверях.
У нас суматоха. Все суетятся, укладывают свои вещи. Сейчас разделят по партиям. Все некрасивые, бледные в утреннем свете, измятые бессонницей, и жалкие.
– Чорт возьми этот кашель! – кашляет еврей и плюет на пол.
– Это моя кружка? – спрашивает мужчина из угла.
Анархист сидит насупившись.
– На… ков, На… нов, есть тут кто-нибудь такой? – выкликает офицер.
– Дурак, болван! ну кто ж так пишет! Кой чорт разберет тут фамилии!
Девушка ищет гребенку и чуть не плачет, что не может ее найти.
– Левушка, это вы ее взяли…
Левушка храбрится и напевает вполголоса песню.
– Левушка, дайте гребенку!
– А зачем вам?
– Ну, я с вами тогда не буду никогда разговаривать…
Девушка сердится и, вдруг отвернувшись, прячет слезу.
– Н-ате! – смягчается Левушка и подает ей гребенку.
Нас делят на партии. Мне идти в этот город, другим дальше. Я стою у окна и смотрю на рельсы. Мимо проводят одну партию. Девушка в ней. Она узнает меня и кивает мне грустно головой. Она на спине, согнувшись, тащит свой узел. У нее дырявые перчатки и два пальца торчат из черной вязаной шерсти, на голове белый платок. Левушка рядом с широкополой шляпой на золотых кудрях. Еврей, выбиваясь из сил, волочит по снегу свой чемоданчик.
– Не могу! Я же не могу так! – жалуется он чуть не плача, – вы обязаны мне дать подводу. Я больной. Позовите офицера.
Солдат смеется и ногой подталкивает его чемоданчик.
Мужчина идет прямо и гордо. У него красивое бледное лицо с чуть заметным пушком на губах и с глубоко всаженными черными глазами. Он спокоен. Он ко всему привык и ничему не удивляется… Так и надо здесь.
Сейчас поведут и меня. Уже зовут. Я иду.
«Серафима! Серафима!» вот она с ясными, ласковыми глазами передо мной!
III. Тюрьма
Я в тюрьме уже одиннадцатый месяц. Но ко всему можно привыкнуть… У нас своя жизнь, свои интересы… С утра шум, гам, крик… Все камеры раскрыты. Кулачные бои не переводятся. Мы давно разделились на оппозицию и центр и тузим друг друга. В потасовках обязаны участвовать все, кто и не хочет… Даже «дедушка», и тот – наш боевой староста, низкий и крепкий старик, у которого два сына в тюрьмах, – и тот должен.
– Ну, дедушка, поборемся! Ну, дедушка, как вы? – пристают к нему – и он выставляет вперед, как мальчишка, свои крепкие, мужицкие кулаки и весь лоснится от смеха.
Девушка в белом со скукой перебивает меня.
– Так что ж? Это и меня били! – говорит она и подымает на меня безучастные, чуть-чуть насмешливые глаза…
Я останавливаюсь, и она, чтобы, должно быть, отвязаться скорей от расспросов, быстро и злобно рассказывает.
– Нас держат по участкам в Одессе, пока не преданы суду… Так вот… Там, конечно, вместе со всеми – с пьяными, с проститутками по три месяца… У меня подруга заболела. Ее перевели в больницу. Я тоже просилась… Ну, меня и избили.
Я молчу. Я только гляжу на нее. Она слегка кривит рот и с какой-то злобой на себя кончает:
– Били казаки нагайками. Я вышла в сумерки на двор. Пять дней лежала. Доктора дали только на седьмой.
– Ну, и скотина же этот доктор, Бырдин! – вставляет еврей.
– Я его и не принимала! – отрезает быстро девушка, точно обидившись, что могли подумать другое – и вдруг странно, весело оживляется:
– А в Одессе тюрьма! Какая прелесть! Вот если бы вы побывали там! Море, воздух, электричество! Я все бегала, бегала по коридору. Так носилась, что всем казалась сумасшедшей… Вот и Левушка в меня тогда влюбился…
Еще все говорят, говорят. Но, кажется, я уж давно ничего не слышу, не чувствую, сплю.
– Беккера где-то застрелили! – долетает до меня.
Но мне уже все равно, как всем тут.
Передо мной белая маска плывет и скалит бескровные десна.
– Меня тоже били! – смеется она и заламывается назад. Серые глаза в синих орбитах смотрят с застывшим испугом.
«Серафима, Серафима!..»
Я брежу, брежу всю ночь.
Тогда в карцере одна мысль не давала мне покою. Сверлила. Городовые били за то, что я одного из них подвел… Я убежал из-под его дежурства. «Мужика подвел!» – звенело в ушах… Может быть, в этом и была действительно их правда, их настоящая мужицкая правда, перед которой ничто все наши учености и «доникадемии», – и все прощалось… Они мстили мне за себя, как могли… Но эти казаки, этот исправник! Там в Одессе, в застенках среди мук и стонов рождается новая жизнь… Одна часть человечества восстает на другую… Может быть, так и надо… Так и надо, что одна должна истребить другую.
Но Серафима, Серафима, что останется тогда от твоей мечты!?
Ужас охватывает меня, и я чувствую, как мозг леденеет.
Ведь и она, и она может быть там… – у казаков.
Нет, с этим я не могу примириться. Тогда проклятие, проклятие вам, истязатели и мучители!..
Я просыпаюсь…
Я просыпаюсь, кажется, от крика… Кругом все то же. Только утро теперь. Поезд стоит. Перед окнами товарные вагоны и белый, холодный снег…
– Дурак! Болван! Колода какая-то, а не человек! Кто так считает! – несется из соседнего отделения.
Я вздрагиваю.
Офицер, чистый и выбритый, с манжетами на руках и с кольцом на мизинце, проверяет наши списки и появляется в дверях.
У нас суматоха. Все суетятся, укладывают свои вещи. Сейчас разделят по партиям. Все некрасивые, бледные в утреннем свете, измятые бессонницей, и жалкие.
– Чорт возьми этот кашель! – кашляет еврей и плюет на пол.
– Это моя кружка? – спрашивает мужчина из угла.
Анархист сидит насупившись.
– На… ков, На… нов, есть тут кто-нибудь такой? – выкликает офицер.
– Дурак, болван! ну кто ж так пишет! Кой чорт разберет тут фамилии!
Девушка ищет гребенку и чуть не плачет, что не может ее найти.
– Левушка, это вы ее взяли…
Левушка храбрится и напевает вполголоса песню.
– Левушка, дайте гребенку!
– А зачем вам?
– Ну, я с вами тогда не буду никогда разговаривать…
Девушка сердится и, вдруг отвернувшись, прячет слезу.
– Н-ате! – смягчается Левушка и подает ей гребенку.
Нас делят на партии. Мне идти в этот город, другим дальше. Я стою у окна и смотрю на рельсы. Мимо проводят одну партию. Девушка в ней. Она узнает меня и кивает мне грустно головой. Она на спине, согнувшись, тащит свой узел. У нее дырявые перчатки и два пальца торчат из черной вязаной шерсти, на голове белый платок. Левушка рядом с широкополой шляпой на золотых кудрях. Еврей, выбиваясь из сил, волочит по снегу свой чемоданчик.
– Не могу! Я же не могу так! – жалуется он чуть не плача, – вы обязаны мне дать подводу. Я больной. Позовите офицера.
Солдат смеется и ногой подталкивает его чемоданчик.
Мужчина идет прямо и гордо. У него красивое бледное лицо с чуть заметным пушком на губах и с глубоко всаженными черными глазами. Он спокоен. Он ко всему привык и ничему не удивляется… Так и надо здесь.
Сейчас поведут и меня. Уже зовут. Я иду.
«Серафима! Серафима!» вот она с ясными, ласковыми глазами передо мной!
III. Тюрьма
Я в тюрьме уже одиннадцатый месяц. Но ко всему можно привыкнуть… У нас своя жизнь, свои интересы… С утра шум, гам, крик… Все камеры раскрыты. Кулачные бои не переводятся. Мы давно разделились на оппозицию и центр и тузим друг друга. В потасовках обязаны участвовать все, кто и не хочет… Даже «дедушка», и тот – наш боевой староста, низкий и крепкий старик, у которого два сына в тюрьмах, – и тот должен.
– Ну, дедушка, поборемся! Ну, дедушка, как вы? – пристают к нему – и он выставляет вперед, как мальчишка, свои крепкие, мужицкие кулаки и весь лоснится от смеха.