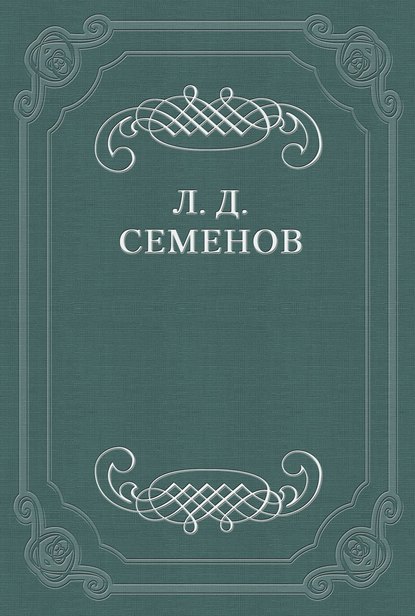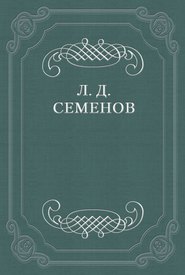По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Проклятие
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Это было сначала так хорошо, как сон, как сказка лазурная, детская. Я убежал из участка. Я был на воле.
Я лежал в канаве. Кругом была густая крапива! А надо мной было солнце и синее, синее небо… И мне ничего не было надо.
Вдали мелькнул городовой. Меня искали. Но я был так слаб. Я не мог двинуться.
Три дня тому назад я шел с крестьянином по полю. Он, суровый сектант, показывал мне свою полоску гречихи с какою-то любовною гордостью, а сам говорил о социализме и с таким жаром, с такой безбрежной и ласковой волей говорил о нем… Гречиха несла на нас свой аромат.
«Они, как семена в земле, эти речи», – думалось мне, – «как побеги озими осенью. Всюду, всюду одни и те же. Откуда поднялись они такою густою и ровною зеленью!», и не было страшно…
Легкий ветер наклонил крапиву. Городовой вдали остановился.
– А! – он вздрогнул.
Он заметил меня и побежал ко мне, боясь, чтобы кто другой не перехватил его дичь, дрожа, как зверь на охоте…
Я помню все до мельчайших подробностей.
Они подняли меня. Они вели меня, что-то звериное сплачивало их и переливалось по их телам… Еще утром они разговаривали со мной так безразлично, и были так благодушны в своей плотяности, зевали на своих постелях, смотрели в зеркальца свои бритые подбородки, похотливо рассказывали о Таньках и Маньках…
Я говорил с ними и расспрашивал их об их житье-бытье. Они добродушно улыбались и носили мне молоко, но теперь торжествовал и переродил их один крик: «бей его!»
– Теперь побьем! Теперь уж обязательно побьем! – Один забегал все вперед и злобно ворочал белками, точно этим думая застращать меня…
– Зачем? – спрашивал я их.
– Не запирайся, чорт! – орали они сзади и толкали шашкою в шею.
В участке прогнали со двора народ, чтобы не было свидетелей.
Офицер загрохотал на меня так грубо, так смешно, точно голосом своим хотел показать свою власть надо мной, и звонкий удар по лицу оглушил меня. Я полетел. Меня подняли, опять ударили. Кругом поднялся дикий рев и галдение.
– Что?! А?!
– Скотина!
– Вот тебе! Вот тебе!
– Мужика вздумал подводить!
– А еще ученый!
– Доникадемию кончил![4 - Доникадемия — значение слова неясно. Возможна следующая его этимология. Семенов написанным его не видел, он мог на слух воспринять так слово домыкадемию, производное от двух слов: домыкать «дострадать» и академию ввиду несомненной образованности и воспитанности Семенова.]
– Да бей его! Бей его в рожу! что тут жалеть-то! – проталкивался вперед один низенький, толстый и казавшийся мне добродушным.
Плевки летели в лицо. Били руками, ногами, перекидывали друг к другу и выворачивали злобно мне руки.
Потом бросили в карцер, но до ночи подходили и все грозили.
– Я бы тебя как орешек хрустнул! – скрипел один зубами. – Это еще спасибо, что милостивому человеку тогда попался первому. Он спас, а то бы… Тьфу! ты! бесстыжая харя!
И плевок летел опять.
Я говорил им. Я еще говорил им. Я думал словом прошибить их плотную озверелую стену перед собой. Что-то бычачье по своей кровожадной тупости было в ней, и безмозглое, злое…
– Что?! Народ мутить?! – услышал меня офицер. – Да я, знаешь ли, тебя повешу тут и мне ничего не будет! да я тебя нагайками выпорю так, что мяса живого не оставлю!.. – и тоже плюнул.
– Что? А! видел? – тешились городовые, когда он отошел.
Так было.
Когда я расставался перед отъездом, нежная девушка говорила мне. Березы шелестели над нами. Вдали горел закат. Она прижималась щекою к березке и гладила ее серебристую кору.
– Ах, конечно, конечно! – говорила она захлебываясь. – Это я так ясно, ясно чувствую… Разве может тут быть какое-нибудь сомнение? Все, все – едино, все одно. И не только человечество, но и все животные будут с нами. Они поймут нас, конечно! будут понимать нашу речь, как и мы их! Ведь и у них есть душа. Все братья. Все – едино.
И она замолчала от избытка, потому что слов не было… Крупные капли дождя забарабанили кругом… Мы бежали, веселые, освеженные…
Теперь я метался в душном карцере. В нем пахло блевотиной пьяных. Нельзя было встать и лечь во весь рост, а рядом храпели, натешившись, городовые. Я смотрел на них в прозорку. Их отяжелевшие от сна здоровые и молодые тела были теперь так животно-жалки в своей оцепенелости. Это они меня били.
Серафима, Серафима! к ней я молился теперь, к ней простирал руки. О если бы она никогда не узнала этого! Так молился! Пусть останутся там наверху эти чистые и нежные души, которые грезят, которых пусть никогда не коснется жизнь.
Пусть будут они нам вечною, чистою грезой!
Но разве они могут только грезить?!..
На другой день меня привели к исправнику. Я ему сказал, что меня били. Он, жирный и грузный, сидел у стола, сложив свои пухлые руки, когда я вошел.
– Не может быть! Что вы говорите!
Он развел с изумлением руками.
Я показываю на офицера, который меня бил. Он тут же.
– Вы били? – спрашивает он.
– Никак нет, ваше благородие.
– Этого не может быть! – обращается он ко мне. – Смею вас уверить. Тут что-нибудь не так. Этот человек мухи не обидит.
– Он лжет! – вспыхиваю я.
– А у вас есть свидетели?
– Нет, говорю я, – свидетеля нет, но у меня лицо… На мне знаки…
– Да у вас прекрасный вид! Что вы говорите! Смею вас уверить! – затрясся он грузно от смеха.
Это было одно сплошное издевательство.
Я лежал в канаве. Кругом была густая крапива! А надо мной было солнце и синее, синее небо… И мне ничего не было надо.
Вдали мелькнул городовой. Меня искали. Но я был так слаб. Я не мог двинуться.
Три дня тому назад я шел с крестьянином по полю. Он, суровый сектант, показывал мне свою полоску гречихи с какою-то любовною гордостью, а сам говорил о социализме и с таким жаром, с такой безбрежной и ласковой волей говорил о нем… Гречиха несла на нас свой аромат.
«Они, как семена в земле, эти речи», – думалось мне, – «как побеги озими осенью. Всюду, всюду одни и те же. Откуда поднялись они такою густою и ровною зеленью!», и не было страшно…
Легкий ветер наклонил крапиву. Городовой вдали остановился.
– А! – он вздрогнул.
Он заметил меня и побежал ко мне, боясь, чтобы кто другой не перехватил его дичь, дрожа, как зверь на охоте…
Я помню все до мельчайших подробностей.
Они подняли меня. Они вели меня, что-то звериное сплачивало их и переливалось по их телам… Еще утром они разговаривали со мной так безразлично, и были так благодушны в своей плотяности, зевали на своих постелях, смотрели в зеркальца свои бритые подбородки, похотливо рассказывали о Таньках и Маньках…
Я говорил с ними и расспрашивал их об их житье-бытье. Они добродушно улыбались и носили мне молоко, но теперь торжествовал и переродил их один крик: «бей его!»
– Теперь побьем! Теперь уж обязательно побьем! – Один забегал все вперед и злобно ворочал белками, точно этим думая застращать меня…
– Зачем? – спрашивал я их.
– Не запирайся, чорт! – орали они сзади и толкали шашкою в шею.
В участке прогнали со двора народ, чтобы не было свидетелей.
Офицер загрохотал на меня так грубо, так смешно, точно голосом своим хотел показать свою власть надо мной, и звонкий удар по лицу оглушил меня. Я полетел. Меня подняли, опять ударили. Кругом поднялся дикий рев и галдение.
– Что?! А?!
– Скотина!
– Вот тебе! Вот тебе!
– Мужика вздумал подводить!
– А еще ученый!
– Доникадемию кончил![4 - Доникадемия — значение слова неясно. Возможна следующая его этимология. Семенов написанным его не видел, он мог на слух воспринять так слово домыкадемию, производное от двух слов: домыкать «дострадать» и академию ввиду несомненной образованности и воспитанности Семенова.]
– Да бей его! Бей его в рожу! что тут жалеть-то! – проталкивался вперед один низенький, толстый и казавшийся мне добродушным.
Плевки летели в лицо. Били руками, ногами, перекидывали друг к другу и выворачивали злобно мне руки.
Потом бросили в карцер, но до ночи подходили и все грозили.
– Я бы тебя как орешек хрустнул! – скрипел один зубами. – Это еще спасибо, что милостивому человеку тогда попался первому. Он спас, а то бы… Тьфу! ты! бесстыжая харя!
И плевок летел опять.
Я говорил им. Я еще говорил им. Я думал словом прошибить их плотную озверелую стену перед собой. Что-то бычачье по своей кровожадной тупости было в ней, и безмозглое, злое…
– Что?! Народ мутить?! – услышал меня офицер. – Да я, знаешь ли, тебя повешу тут и мне ничего не будет! да я тебя нагайками выпорю так, что мяса живого не оставлю!.. – и тоже плюнул.
– Что? А! видел? – тешились городовые, когда он отошел.
Так было.
Когда я расставался перед отъездом, нежная девушка говорила мне. Березы шелестели над нами. Вдали горел закат. Она прижималась щекою к березке и гладила ее серебристую кору.
– Ах, конечно, конечно! – говорила она захлебываясь. – Это я так ясно, ясно чувствую… Разве может тут быть какое-нибудь сомнение? Все, все – едино, все одно. И не только человечество, но и все животные будут с нами. Они поймут нас, конечно! будут понимать нашу речь, как и мы их! Ведь и у них есть душа. Все братья. Все – едино.
И она замолчала от избытка, потому что слов не было… Крупные капли дождя забарабанили кругом… Мы бежали, веселые, освеженные…
Теперь я метался в душном карцере. В нем пахло блевотиной пьяных. Нельзя было встать и лечь во весь рост, а рядом храпели, натешившись, городовые. Я смотрел на них в прозорку. Их отяжелевшие от сна здоровые и молодые тела были теперь так животно-жалки в своей оцепенелости. Это они меня били.
Серафима, Серафима! к ней я молился теперь, к ней простирал руки. О если бы она никогда не узнала этого! Так молился! Пусть останутся там наверху эти чистые и нежные души, которые грезят, которых пусть никогда не коснется жизнь.
Пусть будут они нам вечною, чистою грезой!
Но разве они могут только грезить?!..
На другой день меня привели к исправнику. Я ему сказал, что меня били. Он, жирный и грузный, сидел у стола, сложив свои пухлые руки, когда я вошел.
– Не может быть! Что вы говорите!
Он развел с изумлением руками.
Я показываю на офицера, который меня бил. Он тут же.
– Вы били? – спрашивает он.
– Никак нет, ваше благородие.
– Этого не может быть! – обращается он ко мне. – Смею вас уверить. Тут что-нибудь не так. Этот человек мухи не обидит.
– Он лжет! – вспыхиваю я.
– А у вас есть свидетели?
– Нет, говорю я, – свидетеля нет, но у меня лицо… На мне знаки…
– Да у вас прекрасный вид! Что вы говорите! Смею вас уверить! – затрясся он грузно от смеха.
Это было одно сплошное издевательство.