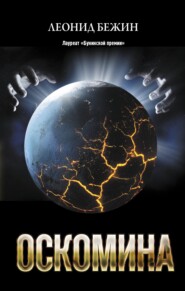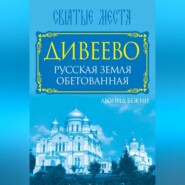По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Школа бизнеса в деревне Упекше
Автор
Серия
Год написания книги
2021
Теги
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Или я что-то путаю… Словом, чем-то таким… ну, ты понимаешь. Особенно когда в трубе воет ветер, невидимкою луна освещает снег летучий…
– Мутно небо, ночь мутна. Неужели ты полюбила Александра Сергеевича?
– Я всегда его любила. Еще со школы. Но я не об этом… – Жена смутилась и слегка покраснела, словно школьница. – Не знаю, как ты отнесешься к моей просьбе, но все-таки рискну.
– Давай, рискуй.
– Собственно, это пустяк – не надо придавать особого значения…
– Говори, говори. Обещаю выполнить любую просьбу.
– Правда? Только не сомневайся, а то ничего не получится.
– Господи, что ж это такое? Ты меня заинтриговала.
– И интриги здесь нет никакой. Все эти глупости, суеверия и предрассудки разом отпадают. Только ответь мне сразу, согласен ты или не согласен.
– На что именно?
Жена опустила глаза.
– Давай полетаем. Только сразу… сразу… ответь.
– Давай, – сказал я, не успев толком уразуметь, взять в толк, что мне предлагают и с чем я соглашаюсь.
Тогда жена взмахнула руками, словно дирижер, поднимающий оркестр в ответ на овации публики. При этом она загадочно и призывно взглянула на меня, явно поощряя повторить за ней ее жест. Я тоже взмахнул, подражая жене во всем из одного только равнодушного недоумения, вызванного ее нелепыми жестами и загадочными призывами: а почему бы нет, если уж ей так хочется?
И тут мы оба с чудесной легкостью оторвались от земли и повисли в воздухе на высоте трех-четырех метров. Осваиваясь со своим новым положением, я невольно оглядывал свои руки и ноги, словно проверяя, не обрел ли я вместо них ангельские крылья, помогающие держаться в воздухе.
Нет, ангелом я еще не стал. Руки и ноги были те же, только на левой ноге расшнуровался ботинок, и я боялся его потерять (уронить кому-нибудь на голову), но нагнуться и зашнуровать не мог, опасаясь, что перекувырнусь в воздухе.
– Ну, как? Не жалеешь, что согласился? – закричала мне жена (от высоты с непривычки закладывало уши).
Вместо ответа я закрыл себе ладонью рот, чтобы тоже не закричать от удивления и восторга, и замотал головой, что означало, наверное: нет, не жалею.
Затем мы стремительно поднялись в голубое, прозрачное небо с плавающими осенними паутинками и мелкими иголками дождя, высыхающими, не достигнув земли. Мы оба одновременно заплакали и засмеялись от счастья.
Засмеялись и – блаженно раскинув руки, – полетели. Мои развязавшиеся шнурки… впрочем, я уже не помнил ни о каких шнурках.
VII
Земля, верхушки деревьев, скамейки Измайловского парка, пруды, дорожки с велосипедистами (во вращающихся спицах проскакивала змейкой золотистая радуга) разом оказались где-то внизу, отдалились и уменьшились, словно в перевернутом бинокле. Облака же, наоборот, неправдоподобно увеличились, приблизились, и солнце засияло ярче, ослепило, и на минуту перед глазами возникла нездешняя белизна.
В воздухе по-прежнему плавали осенние паутинки, налипая на лицо. Полы наших одежд захлопали на ветру, как флаги. С меня сорвало шляпу и куда-то унесло. Остатки волос на голове встали дыбом. Ветер засвистел у меня в ушах, чем-то влажным забило дыхание, и я чуть не задохнулся, закашлялся, стал рвать на себе ворот рубахи и ртом судорожно хватать воздух.
– Это сейчас пройдет. Повернись ко мне лицом. Ну вот… Тебе хорошо? – спросила жена, не выпуская моей руки и делая вид, будто это я держу ее за руку. – И не страшно? – Глядя мне в глаза, она приготовила шутливый упрек на тот случай, если я признаюсь, что испугался.
– Немного непривычно. – Я старался не смотреть вниз и улыбаться. – Все-таки я раньше никогда не летал. – Мне стало досадно, что я оправдываюсь. А затем стало еще досаднее из-за моей досады.
– Скоро привыкнешь. Мне тоже пришлось привыкать, хотя у меня отец был летчик-испытатель, вся грудь в орденах, ты же помнишь. Между прочим, твои старые одежды и особенно кожаная куртка, подаренная мною, удивительно приспособлены для того, чтобы летать. В этом их нераспознанное свойство, приобретаемое со временем. Да и сам ты – отчаянно смелый, я тобой горжусь. – Жена прикрыла мне маленькой ладонью рот, чтобы не услышать от меня банального отказа признавать свои достоинства. – Смотри, там внизу наша Яуза, Лефортово, где мы студентами прогуливали лекции, целовались, пили портвейн прямо из горлышка вместе с крошками от пробки, закусывали какой-то дрянью, и было так вкусно.
– Было восхитительно.
– Ну уж, не преувеличивай. Ты любишь преувеличивать. – Жена пыталась поправить разметавшиеся от ветра пряди волос. – А вот высотный дом, где мы катались на скоростном лифте – вверх и вниз, только циферки проскакивали в оконцах. И когда кабина падала в бездну, ты мне однажды признался. Только не спрашивай, в чем.
– В чем?
– Кажется, в неземной любви.
– По-моему, я признался тебе в любви на Ваганьковском кладбище, когда хоронили мою бабушку Елизавету. Шел мокрый снег, на дне могилы скопилась лужица, и было так грустно…
– Это уже во второй раз. А в первый раз ты признался от восторга падения. А после мы поднялись на самый верхний этаж высотного дома, и там такое круглое окно, из которого видна вся Москва.
– Жаль, что мы тогда не летали.
– Да мы вообще не летали, потому что были слепы, как Иоланта у Чайковского. Она родилась с этим пороком и не догадывалась, что она слепая, поскольку, чтобы прозреть, ей нужно было осознать свою слепоту. Вот так же и всем людям надо осознать и ужаснуться, что они не способны летать, и тогда они полетят. Им откроются нераспознанные свойства вещей, как и нам они открылись. Скоростной лифт не в счет. Все его свойства распознаны. Но есть вещи иного порядка… Впрочем, не будем особо мудрствовать.
– Как ты хорошо придумала: наш полет и этот разговор…
– Я ничего не придумывала. Помнишь, у Льва Николаевича Наташа на балконе говорит, что надо обхватить себя за колени, поднатужиться и – полетишь. Как мы сейчас. У нее не вышло по молодости. К тому же Наташа слишком тужилась, а летать надо с непринужденным изяществом. У нас получилось, поскольку мы зрелые овощи, хотя и без лишнего житейского опыта. Накопленный опыт – это балласт, мешающий взлететь.
– А мы не упадем?
– Видишь, ты засомневался…
– Кажется, я падаю. – Я почувствовал, что воздушные потоки подо мной перестают быть мне опорой и я сползаю с них, как рыхлое ватное одеяло с кровати. – Держи меня.
– Ничего ты не падаешь. – Жена на всякий случай меня поддержала. – Не смей так думать. И измени направление мыслей. Куда бы ты хотел слетать? Пользуйся случаем – выбирай. В Париж? В Италию? В Гималаи?
– Я бы хотел в Иерусалим.
– Не важничай. Зачем тебе? Ведь ты у меня законченный афей, ни во что не веришь. К тому же в Иерусалим летают, оседлав черта или ведьму, а это давно уже устарело, стало пережитком. Я придерживаюсь более совершенных и современных методов.
– Каких же? Умц… умц… умц?
– Дались же они тебе, эти умцы! Никак не успокоишься. Нет, мой главный метод, позволяющий мне летать, – это любовь. Я им хорошо владею. Да и метлы у меня, как видишь, нет. Вернее, есть на даче, за сараем. Так что я перед тобой чиста, словно ангел.
– Тогда – в Калифорнию к нашему сыну, – сказал я, с облегчением услышав от жены ее признание и сочтя для себя нужным при удобном случае тоже признаться, что некие упомянутые ею методы (например, любовь) мне не совсем чужды.
VIII
Наш сын Варфоломей учился так же хорошо, как и я когда-то, но наша похожесть лишь подчеркивала роковое различие меж нами: сыну доставались одни несчастья там, где мне удавалось быть счастливым. Поэтому жена предпочла бы, чтобы Варфоломей не был на меня похож и даже учился намного хуже, лишь бы это избавило его от несчастий. Но успехи, схожие с моими, казались ей причиной всех бед, словно я невольно отбирал у сына то, что по праву принадлежало только ему и отчасти ей, раз уж она как мать ему все-таки ближе, чем отец.
Об успехах сына неустанно твердили наши друзья и знакомые. Твердили особенно охотно за столом и под рюмку, когда жена вносила на блюде заливное (сквозь подрагивающее желе смутно проступала украшенная лимоном и петрушкой спинка судака), разливала по тарелкам золотистый от жира бульон, почему-то называвшийся у нас бухарским, и раскладывала свой фирменный салат из тертой редьки с жареным луком.
Вот тогда-то все считали нужным отметить успехи: жены – в домашней готовке и умении накрыть к празднику стол (с этого всегда начинали), а Варфоломея – в школьных премудростях и науках, благодаря чему мы, как правило, подписывали ему дневник не глядя.
Гости не забывали упомянуть и мои любимые шахматы, и по застольной логике получалось, что сын все-таки во всем на меня похож: «Унаследовал отцовские дарования. Далеко пойдет. Нам еще в его кабинеты стучаться придется».
– Мутно небо, ночь мутна. Неужели ты полюбила Александра Сергеевича?
– Я всегда его любила. Еще со школы. Но я не об этом… – Жена смутилась и слегка покраснела, словно школьница. – Не знаю, как ты отнесешься к моей просьбе, но все-таки рискну.
– Давай, рискуй.
– Собственно, это пустяк – не надо придавать особого значения…
– Говори, говори. Обещаю выполнить любую просьбу.
– Правда? Только не сомневайся, а то ничего не получится.
– Господи, что ж это такое? Ты меня заинтриговала.
– И интриги здесь нет никакой. Все эти глупости, суеверия и предрассудки разом отпадают. Только ответь мне сразу, согласен ты или не согласен.
– На что именно?
Жена опустила глаза.
– Давай полетаем. Только сразу… сразу… ответь.
– Давай, – сказал я, не успев толком уразуметь, взять в толк, что мне предлагают и с чем я соглашаюсь.
Тогда жена взмахнула руками, словно дирижер, поднимающий оркестр в ответ на овации публики. При этом она загадочно и призывно взглянула на меня, явно поощряя повторить за ней ее жест. Я тоже взмахнул, подражая жене во всем из одного только равнодушного недоумения, вызванного ее нелепыми жестами и загадочными призывами: а почему бы нет, если уж ей так хочется?
И тут мы оба с чудесной легкостью оторвались от земли и повисли в воздухе на высоте трех-четырех метров. Осваиваясь со своим новым положением, я невольно оглядывал свои руки и ноги, словно проверяя, не обрел ли я вместо них ангельские крылья, помогающие держаться в воздухе.
Нет, ангелом я еще не стал. Руки и ноги были те же, только на левой ноге расшнуровался ботинок, и я боялся его потерять (уронить кому-нибудь на голову), но нагнуться и зашнуровать не мог, опасаясь, что перекувырнусь в воздухе.
– Ну, как? Не жалеешь, что согласился? – закричала мне жена (от высоты с непривычки закладывало уши).
Вместо ответа я закрыл себе ладонью рот, чтобы тоже не закричать от удивления и восторга, и замотал головой, что означало, наверное: нет, не жалею.
Затем мы стремительно поднялись в голубое, прозрачное небо с плавающими осенними паутинками и мелкими иголками дождя, высыхающими, не достигнув земли. Мы оба одновременно заплакали и засмеялись от счастья.
Засмеялись и – блаженно раскинув руки, – полетели. Мои развязавшиеся шнурки… впрочем, я уже не помнил ни о каких шнурках.
VII
Земля, верхушки деревьев, скамейки Измайловского парка, пруды, дорожки с велосипедистами (во вращающихся спицах проскакивала змейкой золотистая радуга) разом оказались где-то внизу, отдалились и уменьшились, словно в перевернутом бинокле. Облака же, наоборот, неправдоподобно увеличились, приблизились, и солнце засияло ярче, ослепило, и на минуту перед глазами возникла нездешняя белизна.
В воздухе по-прежнему плавали осенние паутинки, налипая на лицо. Полы наших одежд захлопали на ветру, как флаги. С меня сорвало шляпу и куда-то унесло. Остатки волос на голове встали дыбом. Ветер засвистел у меня в ушах, чем-то влажным забило дыхание, и я чуть не задохнулся, закашлялся, стал рвать на себе ворот рубахи и ртом судорожно хватать воздух.
– Это сейчас пройдет. Повернись ко мне лицом. Ну вот… Тебе хорошо? – спросила жена, не выпуская моей руки и делая вид, будто это я держу ее за руку. – И не страшно? – Глядя мне в глаза, она приготовила шутливый упрек на тот случай, если я признаюсь, что испугался.
– Немного непривычно. – Я старался не смотреть вниз и улыбаться. – Все-таки я раньше никогда не летал. – Мне стало досадно, что я оправдываюсь. А затем стало еще досаднее из-за моей досады.
– Скоро привыкнешь. Мне тоже пришлось привыкать, хотя у меня отец был летчик-испытатель, вся грудь в орденах, ты же помнишь. Между прочим, твои старые одежды и особенно кожаная куртка, подаренная мною, удивительно приспособлены для того, чтобы летать. В этом их нераспознанное свойство, приобретаемое со временем. Да и сам ты – отчаянно смелый, я тобой горжусь. – Жена прикрыла мне маленькой ладонью рот, чтобы не услышать от меня банального отказа признавать свои достоинства. – Смотри, там внизу наша Яуза, Лефортово, где мы студентами прогуливали лекции, целовались, пили портвейн прямо из горлышка вместе с крошками от пробки, закусывали какой-то дрянью, и было так вкусно.
– Было восхитительно.
– Ну уж, не преувеличивай. Ты любишь преувеличивать. – Жена пыталась поправить разметавшиеся от ветра пряди волос. – А вот высотный дом, где мы катались на скоростном лифте – вверх и вниз, только циферки проскакивали в оконцах. И когда кабина падала в бездну, ты мне однажды признался. Только не спрашивай, в чем.
– В чем?
– Кажется, в неземной любви.
– По-моему, я признался тебе в любви на Ваганьковском кладбище, когда хоронили мою бабушку Елизавету. Шел мокрый снег, на дне могилы скопилась лужица, и было так грустно…
– Это уже во второй раз. А в первый раз ты признался от восторга падения. А после мы поднялись на самый верхний этаж высотного дома, и там такое круглое окно, из которого видна вся Москва.
– Жаль, что мы тогда не летали.
– Да мы вообще не летали, потому что были слепы, как Иоланта у Чайковского. Она родилась с этим пороком и не догадывалась, что она слепая, поскольку, чтобы прозреть, ей нужно было осознать свою слепоту. Вот так же и всем людям надо осознать и ужаснуться, что они не способны летать, и тогда они полетят. Им откроются нераспознанные свойства вещей, как и нам они открылись. Скоростной лифт не в счет. Все его свойства распознаны. Но есть вещи иного порядка… Впрочем, не будем особо мудрствовать.
– Как ты хорошо придумала: наш полет и этот разговор…
– Я ничего не придумывала. Помнишь, у Льва Николаевича Наташа на балконе говорит, что надо обхватить себя за колени, поднатужиться и – полетишь. Как мы сейчас. У нее не вышло по молодости. К тому же Наташа слишком тужилась, а летать надо с непринужденным изяществом. У нас получилось, поскольку мы зрелые овощи, хотя и без лишнего житейского опыта. Накопленный опыт – это балласт, мешающий взлететь.
– А мы не упадем?
– Видишь, ты засомневался…
– Кажется, я падаю. – Я почувствовал, что воздушные потоки подо мной перестают быть мне опорой и я сползаю с них, как рыхлое ватное одеяло с кровати. – Держи меня.
– Ничего ты не падаешь. – Жена на всякий случай меня поддержала. – Не смей так думать. И измени направление мыслей. Куда бы ты хотел слетать? Пользуйся случаем – выбирай. В Париж? В Италию? В Гималаи?
– Я бы хотел в Иерусалим.
– Не важничай. Зачем тебе? Ведь ты у меня законченный афей, ни во что не веришь. К тому же в Иерусалим летают, оседлав черта или ведьму, а это давно уже устарело, стало пережитком. Я придерживаюсь более совершенных и современных методов.
– Каких же? Умц… умц… умц?
– Дались же они тебе, эти умцы! Никак не успокоишься. Нет, мой главный метод, позволяющий мне летать, – это любовь. Я им хорошо владею. Да и метлы у меня, как видишь, нет. Вернее, есть на даче, за сараем. Так что я перед тобой чиста, словно ангел.
– Тогда – в Калифорнию к нашему сыну, – сказал я, с облегчением услышав от жены ее признание и сочтя для себя нужным при удобном случае тоже признаться, что некие упомянутые ею методы (например, любовь) мне не совсем чужды.
VIII
Наш сын Варфоломей учился так же хорошо, как и я когда-то, но наша похожесть лишь подчеркивала роковое различие меж нами: сыну доставались одни несчастья там, где мне удавалось быть счастливым. Поэтому жена предпочла бы, чтобы Варфоломей не был на меня похож и даже учился намного хуже, лишь бы это избавило его от несчастий. Но успехи, схожие с моими, казались ей причиной всех бед, словно я невольно отбирал у сына то, что по праву принадлежало только ему и отчасти ей, раз уж она как мать ему все-таки ближе, чем отец.
Об успехах сына неустанно твердили наши друзья и знакомые. Твердили особенно охотно за столом и под рюмку, когда жена вносила на блюде заливное (сквозь подрагивающее желе смутно проступала украшенная лимоном и петрушкой спинка судака), разливала по тарелкам золотистый от жира бульон, почему-то называвшийся у нас бухарским, и раскладывала свой фирменный салат из тертой редьки с жареным луком.
Вот тогда-то все считали нужным отметить успехи: жены – в домашней готовке и умении накрыть к празднику стол (с этого всегда начинали), а Варфоломея – в школьных премудростях и науках, благодаря чему мы, как правило, подписывали ему дневник не глядя.
Гости не забывали упомянуть и мои любимые шахматы, и по застольной логике получалось, что сын все-таки во всем на меня похож: «Унаследовал отцовские дарования. Далеко пойдет. Нам еще в его кабинеты стучаться придется».