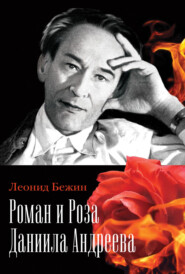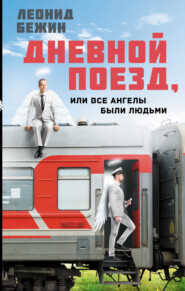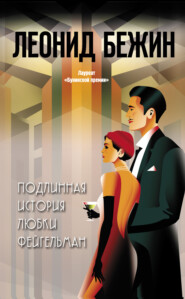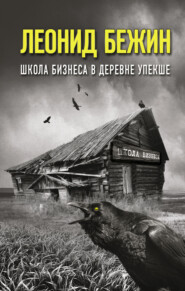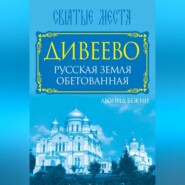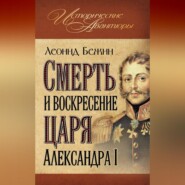По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Оскомина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Садись, Гордей Филиппович. – Шапошников пододвинул ему стул и предупредил: – Осторожно, шатается, и спинка не держится. Все никак не починю. Мое положение тоже, знаешь ли… шаткое. Но ничего, держусь. Чем обязан?
– Ты мне нарочно этот стул?.. Как предупреждение?
– Считай, что так. Чем обязан? – повторил Борис Михайлович свой вопрос, словно первый раз задал его так, что на него можно было и не ответить.
– Свечин арестован.
– Знаю. И уже хлопочу о нем по мере моих возможностей.
– А тут еще Тухачевский… с его совещанием…
– И об этом слыхал. Тухачевский расчищает себе дорогу к вершинам и устраняет конкурентов. Хочет маршалом стать. Бойся его.
– Я вот письмо написал от имени академии. Никто не хотел подписывать, хотя совсем недавно жали руку Александру Андреевичу, чуть ли не обнимались, демонстрировали дружеские чувства. Всего пять подписей-то и собрал.
– На чье имя письмо?
– На ваше.
– Перепиши на имя Сталина. Он Свечина ценит и так просто не отдаст.
– Значит, есть надежда?
– Свечина взяли по делу «Весна» – против военспецов, бывших царских генералов. Трясут РККА. Все зависит от того, в какую сторону повернут.
– Письмо вам принести потом?
– Мне, мне.
– Заслуги Свечина перечислить?
– Скромно. Особо не раздувая. Это может не понравиться. Мол, выходит, что он один такой выдающийся. А остальные что же?
– Понял. Все так и сделаю.
– Чаю хочешь?
– Не время сейчас…
– Вот это ты зря. Впрок надо пить хороший чай-то. От лагеря никто не застрахован, а там хорошим чаем не напоят, побаловаться не дадут. Там не чай, а помои.
– Ну, вот и поговорили. Видишь, и стул подо мной не подломился. Хоть и шаткий, а выдержал.
– Дай бог и нам с тобой так выдержать. Ты крест, вижу, не носишь, а у меня всегда при себе. Если не на шее, то в потайном кармане – фамильный, от Фаберже. Кажется, я лишнего тебе тут наговорил, но ты единственный, с кем можно поговорить. Вернее, нас трое: ты, я и Свечин. Ну, прощай. Или лучше до свидания, но только не за решеткой и не за колючкой.
– Что еще за колючка? Репей какой?
– Ишь чего захотел – репей. Репей сейчас вместо роз… Наша колючка – колючая проволока, протянутая между столбами, да и между словами тоже, – Шапошников усмехнулся, допуская, что он не прав, но при этом никому не позволяя усомниться, что он это все-таки сказал.
Восчувствие
Несмотря на предупреждение Шапошникова, мой дед решил не просто перечислить заслуги Свечина, но написать о них обстоятельно.
Решил, сел за письменный стол и задумался, какие заслуги особо отметить. То, что Александр Андреевич честно и преданно – не за страх, а за несговорчивую, строптивую совесть – служил советской власти, дед взял из первого письма: там об этом хорошо было сказано. При этом, конечно, подсократил, подужал и пригладил, чтобы не особо лезло в глаза и не раздражало, как красная тряпка быка.
Этим сравнением дед часто пользовался, не смущаясь тем, что красная тряпка могла указывать и на красный флаг, и тогда становилось непонятно, кого этот флаг раздражает и кто тут, собственно, бык.
Во втором же письме, адресованном Сталину, не любившему трескучих фраз, решил добавить кое-что по теоретической части, и прежде всего толково обрисовать, что такое, по мысли Свечина, измор, основа его стратегии. Дед отдавал себе отчет, что для вождя это, может быть, предмет хорошо знакомый, поскольку тот не просто следит за развитием военной науки, а обладает особым свойством ума – гениальной способностью хранить в глубинах памяти колоссальные запасы знаний.
Хранить не как спец в своей узкой области, не как буржуазный интеллектуал, а как универсал именно социалистического толка. Хранить словно некую Сумму, подобную Сумме Фомы Аквинского, и использовать оную в нужный момент – так, чтобы молнии накопленных, как накапливается электричество, знаний настигали каждого и каждого разили. Поистине: кого в пах, кого в лоб, кого в бровь, кого в глаз – точнее не скажешь, хотя эти строки дед, кажется, прочел гораздо позже.
А может, и не читал вовсе, но восчувствовал их потаенную суть. И в гениальных способностях Сталина он таким же восчувствием не раз убеждался. Поэтому, переписывая письмо, он считал, что – при универсальных знаниях Сталина – кое-что и повторить не грех. Как ни странно, глупцы повторений не терпят, полагая, что они выше их, гении же любят повторения, почему, собственно, они и гении.
Иными словами, дед снова приходит к известной истине: талант делает, что хочет, а гений – что он может. Истина же позволяет ему разобраться с измором.
Само это слово – измор – Александр Андреевич и любил, и не любил. Вернее, недолюбливал за то, что, взятое не из латыни, не из немецкого и даже не из французского, как строгий военный термин оно хромало. Любил же его за выразительность – за то, что едва лишь тронь его, и лопнет, брызнет пенистым соком, как спелая ягода.
Измором взять – что уморить, умотать, утомить, измучить, довести до мора, до смерти.
Вот так и с врагом надо: морить его, уматывать, как Кутузов Наполеона, а это большое искусство – оно не каждому дается. Поэтому сейчас все больше упирают на сокрушение, лихую атаку, внезапный удар. Причем подводят под это идеологическую подкладку, талдычат, будто стратегия сокрушения больше всего отвечает идеалам социализма, лозунгам нового бесклассового общества.
Мол, пускай старая царская армия, опасливая и трусливая, маринует противника измором, а храбрые вояки РККА шашку в руки и – вперед. В гражданскую войну так и побеждали.
Но гражданская война отгремела, будущая же будет совсем другой, требующей высшей математики, точных исчислений и бережного учета всех материальных ресурсов, и прежде всего экономических. Российская же экономика отстает от западной, поэтому ее нельзя безрассудно бросать на обеспечение сокрушительного удара: этак можно и пробросаться. Экономические крохи, как и всякие крохи, следует скрупулезно распределять, постоянно оставляя запасец. А это и есть измор, или выжидательная – оборонительная – стратегия.
Она же, эта стратегия, призвана щадить людей, живую силу армии, побеждать не за счет человеческих жертв, а за счет воинского искусства. Измор противника – это как конечный итог сбережение собственного народа, спасение армии, сохранение жизни восемнадцатилетних пареньков, которым дали в руки винтовку и послали на смерть.
А им смерть не сестра, винтовка же – не подруга. Дома их невеста ждет, чтобы свадьбу играть, детей рожать, хозяйство поднимать и смерть гнать со двора хворостиной, как чужую бодливую козу.
Сокрушение же – бросать на рога смерти тысячи бойцов, о коих невеста поплачет, да их и забудет. И детей у них не родится, и хозяйство поляжет, как побитые градом колосья. И каждая градина – с кулак, поскольку какое же без кулака сокрушение.
Ребенком сравнивали с Наполеоном
Тухачевский всего этого не понимал. Вернее, понимать отказывался и даже более того – придавал своему отказу выражение, свойственное тем, кто решительно не приемлет нечто заведомо неверное, вздорное, безнадежно далекое от какого-либо намека на истину.
Не приемлет и всем своим видом показывает: ах, увольте! Этот ваш измор если и уморил кого-то, то лишь одного меня!
Вот и Михаил Николаевич своим упрямым непониманием как бы говорил: внесите во все это хотя бы частицу здравого смысла, и я приму ваши рассуждения, хотя это будет мне стоить насилия над собой. Но я пересилю себя вам в угоду – пересилю, чтобы показать, что у меня нет к вам неприязни и антипатии, а меня волнует лишь элементарная логика и здравый смысл.
На самом же деле никакой не смысл, а именно неприязнь и даже ненависть к Свечину были у него на первом месте, хотя Михаил Николаевич всячески это скрывал и не признавался даже самому себе, что Свечина он ненавидит. Однако себя не обманешь. К тому же Тухачевский был слишком склонен к самоанализу, чтобы он мог долго играть с собой в прятки.
В конце концов он поставил себе неутешительный диагноз, сводящийся к тому, что Свечина он, мягко говоря, недолюбливает. А если быть честным перед самим собой, попросту… ненавидит. Это можно расценивать как его недостаток или даже, если угодно, порок, но это так. Зато подобная откровенность с самим собой позволила ему сделать себе уступку хотя бы в том, чтобы ни при каких условиях не признаваться, что все недобрые чувства к Свечину вызваны сознанием его явного превосходства.
Вот она, главная слабость Михаила Николаевича, его ахиллесова пята. Свечин во всем его превосходит, и прежде всего превосходит даже не в том, что делает, а в том, чего он никогда не стал бы делать.
Он не стал бы устраивать над ним судилища, если б знал, что Тухачевский отбывает срок в лагере и поэтому не может ему ответить. Он не стал бы травить газами восставших тамбовских крестьян и так жестоко расправляться с кронштадтскими моряками.
Но и в том, что он делал, Свечин тоже его превосходил. Оба были теоретиками, оба не только выступали устно перед слушателями (Свечин к тому же преподавал в академии), но и писали, печатались и, таким образом, обращались и к специалистам, и к широкой аудитории. И получалось так, что Свечин при всей его учености владел неким секретом – секретом толстовской заразительности. Свою аудиторию он увлекал, вел за собой, очаровывал, обольщал.