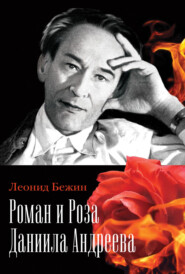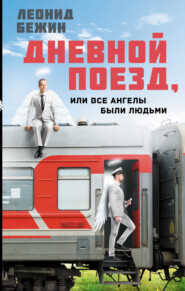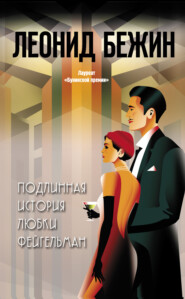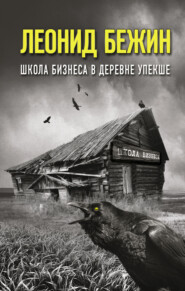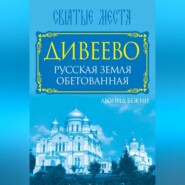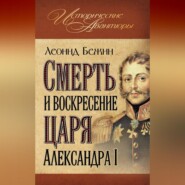По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Оскомина
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Вы имеете в виду меня? Почему же? Я тоже выпью за вашего учителя, и весьма охотно, хотя мы с ним, увы, не единомышленники, – сказал Тухачевский, не отводя взгляда от Юлии Ивановны и Светланы в знак того, что его намерение отвезти их домой остается в силе.
– Тогда и пить не стоит. – Дед поднял и снова поставил рюмку.
– Нет уж, позвольте мне самому решать… – На этот раз Тухачевский осушил свою рюмку залпом и до самого дна.
На его красивые, бархатистые, с затаенным сиянием глаза не то чтобы навернулась слеза, но в них явно дрогнула влага.
– После того совещания в Ленинграде вы, конечно, вправе были бы и не пить… – Дед искал, куда бы поставить свою рюмку, чтобы она заняла подобающее ей место.
– Совещания? Какого совещания? – Тухачевский вдруг озаботился тем, чтобы его рюмка не стояла рядом с рюмкой деда, и отодвинул ее подальше.
Но дед свою рюмку упрямо придвинул.
– А то вы не помните… Того самого заседания Военной секции Коммунистической академии в Ленинграде, осудившего реакционные взгляды профессора Свечина. А профессор-то был не на свободе, заметьте. Профессор отбывал срок в лагере и посему на осуждение не мог ответить. Если же смог бы, то всю вашу секцию перемолол бы как жмых.
– Ах, Свечин! Вы все о нем! Не осудившего, а в порядке дискуссии… ему были высказаны замечания, и весьма существенные. Впрочем, что я оправдываюсь! Да, осудившего за пораженчество, за недооценку революционного энтузиазма бойцов, за старорежимные замашки. Если вам так угодно… – небрежно бросил Михаил Николаевич, словно привыкший по воле необходимости угождать тем, кто этого вряд ли заслуживал.
– Что ж, спасибо за откровенность… – Дед поклонился так, чтобы в его поклоне угадывалось нечто фатовское и скандальное.
Тухачевского побледнел, а затем его бросило в краску.
– Это еще не вся откровенность, – раздельным, четким выговором произнес он. – Я мог бы высказать вам больше. От моей откровенности срываются гроба шагать четверкою своих дубовых ножек.
– О, Маяковский! – воскликнул дед, словно для него не было большего удовольствия, чем услышать Маяковского из уст такого любителя искусства, как Тухачевский.
Глава третья. Измор и сокрушение: две стратегии
Сама повела бы полки
Еще до того, как Свечин стал у нас частым гостем, о нем постоянно вспоминали, им интересовались, он уже присутствовал в разговорах между матерью, отцом и дедом. И то, что для деда он был кумиром, о чем все прекрасно знали, обещало: и прочим домашним грозит та же участь – превратиться в его почитателей, хотя, казалось бы, Александр Андреевич к этому совершенно не располагал.
Он был штабным военным, кабинетным кротом, грузным, согбенным, облысевшим со лба, тяжелым на подъем. Одолевая лестницу, вытирал платком шею и часто приостанавливался под благовидным предлогом (взглянуть на часы, тронуть платком насморочный нос или пошарить в прохудившихся карманах), хотя на самом деле из-за коварной одышки и сердцебиения.
Но при этом держался молодцом, никогда не жаловался, не позволял себе раскисать. И всегда ставил себе в зачет, что на последних ступенях совершал рывок (марш-бросок), перешагивал через одну, а то и через две, словно позируя для картины «Переход Суворова через Альпы».
Не наделенный романтической внешностью, Александр Андреевич за счет других своих черт обладал особым даром притягательности, заразительного воздействия на людей – не только своих друзей, но и читателей.
А у нас Свечина читали, и его книги таинственным образом исчезали с полок деда, заимствованные под разными предлогами завсегдатаями дома: навести справку, уточнить дату, проверить какой-нибудь факт и отчеркнуть ногтем на полях особо нужное место. Наводили, проверяли, отчеркивали и сами не замечали, как, увлекшись, погружались в чтение.
Тем самым наша семья попадала под его неотразимое обаяние – сначала среднее поколение, затем младшее, а затем и более консервативное старшее. Поэтому неудивительно, что Свечин некоторым образом добрался и до наших тетушек, у которых, кроме уборки своих углов, охоты за молью, вязания в кресле и чтения, и дел-то особых не было.
Неискушенные по части стратегии, но зато падкие на образованность, широчайшую эрудицию и профессорскую импозантность, наши старушки признавали в нем не просто полководца, но – поднимай выше – полководца духа. И не скрывали, что в полку его прибыло и эти вновь прибывшие – именно они.
Из кабинета деда образ Александра Андреевича, словно по волшебству, перенесся за их ширмы и занавески, где о нем шептались, ворковали и секретничали.
– Ах, Свечин! Какой он все-таки умница! – вздыхала тетушка Зинаида, отрываясь на минуту от книги, которую она бережно держала на худых коленях и перелистывала, разгибая уголки, загнутые прежним читателем. – Я бы сама повела полки, так он меня вдохновляет и очаровывает!
– На кого повела?
– На редуты. – Тетушка Зинаида, словно играя в шахматы, делала ход, не имея ни малейшего представления о том, какой будет следующий.
– Что еще за редуты?
– Ну вражеские, разумеется.
– Что ты, собственно, читаешь? – Тетушка Олимпия заподозрила, уж не французский ли роман держит сестра под книгой Свечина, заимствуя из него столь исчерпывающие сведения о редутах.
– «Эволюцию военного искусства» Свечина. Издание двадцать восьмого года.
– А что у тебя под ней?
– Под ней у меня «Клаузевиц». Я его сегодня дочитала. Не беспокойся – не французский роман.
– А я и не беспокоюсь. Мы уже не в том возрасте, чтобы я могла руководить твоим чтением.
Тетушка Зинаида позволила сестре это высказать, после чего выдержала паузу, чтобы заговорить совсем о другом:
– Интересно, какая у него жена?
– У кого? У Клаузевица или у Свечина?
– У Свечина, конечно. Жена Клаузевица меня, признаться, мало интересует.
– Полагаю, что красавица. Умные всегда выбирают красивых, а красавцы – умных.
– Ах, я мечтала бы оказаться на ее месте! С таким умным мужем… такого мужа можно любить вечно – хотя бы за его интеллектуальное превосходство.
– Тогда тебе больше подошел бы Фауст…
– Фи! – Тетушка Зинаида наморщила нос, облепленный аптечным пластырем. – Твой Фауст – чернокнижник. У него темная душа. А у Свечина светлая голова и, судя по всему, доброе сердце. Представляю, каким душкой он был в молодости. Да он и сейчас наверняка такой же…
– В чем же загвоздка? Надо только отбить… – Тетя Олимпия взяла вязание, показывая, что ее, давшую столь полезный совет, менее всего интересует, воспользуется ли им сестра.
– Как, моя милая? Как?
– В молодости ты таких вопросов не задавала. Сама увела от жен трех мужей.
– Если и увела, то всего лишь двух. Третий и мой последний сам отбил меня у мужа. Причем оба были военные, при погонах и портупеях – в одном звании. – Тетушка Зинаида вздохнула и слегка прослезилась в знак того, что различие воинских званий не вызвало бы у нее таких чувствительных и сентиментальных воспоминаний, как их сходство.
Под разговор
А уж когда Свечин стал бывать у нас, запираться в кабинете с дедом, а потом чаевничать со всем прочим народом, откидываясь спиною на венский стул, поджимая локти и вытягивая перед собой ноги, все в него влюбились и признали его авторитет в любых вопросах, от фасона рюшей на платье до разницы между булем и гамбсом.
Кроме того, он был негласно избран поверенным душевных тайн – не только наших старушек, но и бывавшей у нас молодежи, которая в порывах комсомольского энтузиазма уж и забыла, что такое душевные тайны и невысказанные секреты.
Александр Андреевич же ей ненавязчиво, но строго напомнил и заново приобщил к осознанию того, что в душе у нее богатство – потаенная жемчужина, которую можно утратить, стоит лишь целиком отдаться комсомольским порывам. И наша восприимчивая ко всему хорошему молодежь была ему благодарна за этот урок, уверившись, что Александр Андреевич не просто душка, как его называли тетушки, а наставник и даже вожатый, за которым можно идти и которому можно верить.
Но все же главное действо, ради которого приходил Свечин, совершалось не за ширмами и перегородками у тетушек, а в кабинете деда, куда никому не было доступа, кроме меня, поскольку я по своему малолетству пользовался особыми правами.