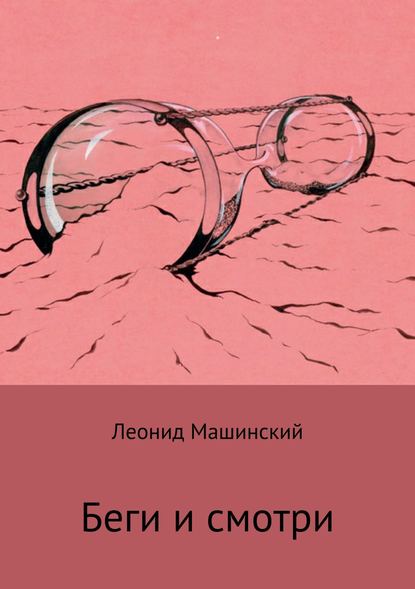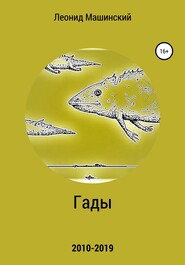По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беги и смотри
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Толпа посторонилась слегка, но не оттого, что испугалась деда, а оттого, что хотела его получше рассмотреть – как-никак бесплатный аттракцион. Я тоже встал и подошёл к платформе, даже перелез на неё через бортик. Калмык ораторствовал от меня в каких-нибудь двадцати шагах. Он свирепел всё более, но дежурный по станции милиционер в эти минуты находился где-то далеко, а ни у кого другого пока не возникло желания связываться с сумасшедшим стариком. У самых лихих были дела поинтереснее. Я прислушивался, стараясь понять, чего же дед всё-таки хочет. Он расходился всё больше, скалил отсутствующие зубы и пытался пучить утонувшие в коричневых морщинах щёлочкообразные глаза. Дети и толстые хохлушки смеялись. Я тоже улыбнулся. Но дед брызгал слюной и танцевал на месте совершенно серьёзно – вот именно сейчас, в этот самый миг, он вознамерился кому-то что-то во что было то ни стало доказать. Интересно, сколько он терпел – лет шестьдесят? Боль пересилила?
Все видели, что дед держится за какую-то штуку в кармане своих допотопных галифе. Это само по себе было смешно – огурец он, что ли, себе туда для солидности засунул? Но, может быть, окончательно убедившись, что никто его здесь не воспринимает иначе, чем скомороха, калмык вскричал как-то уж совсем по петушиному и, закрутив в воздухе тощей кадыкастой шеей, точно штопором, выхватил из заветного кармана наган. А может быть, это был и маузер. Я не успел разглядеть, он сразу начал стрелять.
Толпа рядом мгновенно стихла, волной молчание распространилось до самых краёв перрона. После нескольких выстрелов тишину прервала только пара истошных женских выкриков, да ещё слышен был частый топот убегающих ног, но какой-то игрушечный, словно не настоящий. Стараясь устраниться от опасности, люди толкали друг друга как мешки. Несколько человек уже лежало в разных позах на асфальте, и не понятно было, поражены ли они пулями или сбиты с ног другими. Как раз в это время к платформе, возникнув словно из неоткуда, начал приближаться поезд.
Поезд подходил слева, и я отвлёкся на долю секунды, глядя на него. Я посмотрел направо и увидел калмыка, подходящего ко мне с револьвером на перевес. По всей видимости, ему было совершенно безразлично, в кого палить. Движения всех живых объектов – как нередко бывает в таких случаях – замедлились словно в киношном рапиде. Я запомнил бежавшую мне навстречу собаку, рыжую, с высунутым розовым языком, каких-то баб в развевающихся цветастых платьях. Из упавшей корзины катились зелёные яблоки. Но любоваться антуражем было решительно некогда. Калмык наступал, как Полчища Чингисхана. Вытянутая тщедушная фигурка в кургузой застиранной телогрейке цвета хаки и в разбитых тапочках вместо сапог – этакий стойкий оловянный солдатик неарийского происхождения. С каждым шагом он подпрыгивал, словно его били током, – так бывает у некоторых психов. Целится. Возможно, в меня… Что он там видит, через свои щёлки? Хорошо, солнце с моей стороны.
Нет, я не хочу умирать. Это вовсе не входит в мои планы. Поэтому сейчас я вполне могу позволить себе праздновать труса. И у меня нет никакой злобы на это несчастное существо, просто я стремлюсь как можно скорее спрятаться от его пуль. Я уже вновь за оградой перрона – сиганул ножницами, как когда-то учили в школе. Отбегаю несколько метров, тут меня от калмыка отгораживает бестолково сунувшаяся под наган паническая толпа. Кто-то падает, и я падаю, но живой и невредимый – просто прячусь под перрон, в какую-то собачью яму. Здесь воняет, конечно, но безопасно – вряд ли старик полезет меня выкапывать, когда кругом такое количество подвижной дичи.
Считаю выстрелы, прикрыв затылок руками. Но ничего уже не слышно, кроме грохота останавливающегося поезда. Вот досада! Может быть, задержат отправление в связи с такими непредвиденными обстоятельствами? Поезд совсем остановился. Стучащая в висках пауза. Выстрелов больше нет. Но и не слышно обычного гвалта торговок – затаились. Надоело лежать, уставившись в сыроватую, отвратительно пахнущую мглу. Сколь он здесь стоит – две? Три минуты? Раздаётся ещё один выстрел. Какая-то беготня, мужская громкая матерщина. Повязали? Нашлись же герои!.. Всё-таки не напрасно я не торопился. Со всеми мерами предосторожностями встаю, настраиваю глаза на яркий свет, отряхаю замусоренное пузо. Поезд ещё стоит, но всеми фибрами души я чувствую, что вот, уже сейчас он тронется. Я бегу к перрону, перескакиваю через ограду, однако оглянувшись направо – нет ли деда. Уже никого нет, только одинокая тётка подбирает свои яблоки. Краем уха слышу из-под арки станции какое-то сипение – наверное, дед там – трудно заткнуть «правде» рот.
Поезд трогается. Я лечу к ближайшему вагону. Какие всё-таки широкие делают к нас перроны. Зачем? Проводница убрала свой флажок и закрывает дверь. Я вставляю ногу в сужающийся проём. Проводница охает и отскакивает вглубь. Чтобы удержаться, я невольно тяну ручку двери на себя и захлопываю дверь. Она, мгновенно сообразив, что к чему, запирает её с той стороны. Я еду повиснув на подножке. Поезд ускоряется. Я стучу в дверь. Кто-то кричит мне с перрона. Я не оборачиваюсь – только бы в спину не стреляли. Луплю изо всех сил в дверь. Это трудно делать, потому что не во что упереться. Да и мешает поклажа – рюкзачок за спиной, который я всё это время – вот молодец! – не снимал. Если выбить стекло, возможно, удастся отпереть дверь с той стороны. Проводница, похоже, убежала кого-то звать. Если закрыла на трёхгранку – бить стекло ни к чему. Может, позабыла с испугу? Я вишу, и висеть всё труднее – а поезд набирает обороты по степи. Хорошо, что здесь перроны низкие – а то бы мне ни за что не удержаться.
Меняю руки – ручка подозрительно хлипкая – если оторвётся – костей не соберёшь. Вообще, вагон требует ремонта. Внизу, с самой угрожающей близости, погромыхивают кровожадные колёса. Может, на крышу попробовать залезть? Насмотрелся я всяких дурацких фильмов! Поднимаю глаза, на меня из-за решётки дверного окошка пялится какой-то мужик в форме, вроде не мент, а тоже проводник – не иначе, начальник вагона. Очень эмоционально открывает рот, но я ровным счётом ничего не слышу – только стук и ветер в ушах. Ну ясное дело: требует, чтобы я отвалил. Но куда я тут буду отваливать? Это же опасно. Я никогда раньше не тренировался прыгать с поезда на такой скорости. Отчего бы ему не разобраться со мной честь по чести? Наверное, предполагает, что я сообщник давешнего калмыка. А вот если бы у меня был револьвер, пальнул бы я ему через окошко… Этого-то он почему-то не боится, дурная душа. Мне не до сантиментов, я прекрасно понимаю, что и он меня вряд ли услышит. Даже если я стану орать во всю мощь – поэтому я шепчу слогам волшебное русское послание, старательно обрисовывая звуки губами и вкладывая в послание все оставшиеся внутренние силы. Он понял, уже идёт. Может быть, за подмогой? Но что' они мне могут сделать? Для того, чтобы что-нибудь сделать, они сначала должны открыть дверь – того-то мне и надо!
Никого уже нет, давно. Поезд идёт ровно – слава Богу, больше не прибавляет. Кругом выжженная плоская степь. Никаких признаков жилья. Запах дыма и помёта. Мне остаётся только употребить все свои способности и энергию, чтобы не сорваться. Если не удержусь: а) могу попасть об колёса, б) могу разбить голову о встречный бетонный столб, в) ещё как-нибудь покалечиться, пусть и не смертельно. Слабо верится, что мне удастся спрыгнуть без потерь. Да и что' потом делать? Я хочу уехать именно на этом поезде. В конце концов, я на него купил билет. Надо было этому придурку через окно билет показать. Но для этого надо было его сперва достать – что чревато падением, да и ветром могло унести.
Когда же станция? Дождусь ли? А вдруг он на следующей не останавливается? Какие у нас большие прогоны! Смотрю вниз – рябит глаза, смотрю вверх – небо слепит, смотрю назад – кружится голова, смотрю перед собой – и злюсь. Суки! Никакого сострадания к человеку – падай себе, пожалуйста! Человек за бортом, понимаете ли…
Рук уже не чувствую. Предполагаю, в некий момент Х они разожмутся сами собой. Хотелось бы всё-таки приготовиться к отстыковке. В который раз переминаюсь, пытаясь занять более удобное положение – выбор поз у меня отнюдь небольшой. Ветер в харю. Вишу – как муха на арбузе. Зелень вагона и продольные полосы увеличивают сходство. Рюкзак тянет назад и вниз – не бросать же его? И если буду вылезать из лямок – точно сорвусь…
Я уже почти смирился со своей судьбой. Еду закрыв глаза, потому что иначе тошнит. Помогая рукам, сжимаю зубы – наверняка эмаль обкрошится. Вдруг – замедление… Да неужели? Обнадёженный, открываю глаза, гляжу вперёд. Поезд выходит на дугу. Да! Станция. А если я ошибаюсь – придётся прыгать. Больше пяти минут я уже не выдержу.
Дальше всё как во сне. Скрежет торможения. Станция «Мазут» – ведь вот сумел же прочесть название. Даже запомнил какие-то, подтверждающие его, технические ёмкости на горизонте. К поезду торопятся негустые людишки. Прямо по желтоватой крупной щебёнке. Проводница, кажется, уже другая, открывает дверь. Я тут же вскакиваю в тамбур, отталкиваю её плечом и врываюсь в вагон. Интересно, почему они мне так легко открыли – уверены были, что меня уже нет. Там, сзади, ещё кто-то тяжело влезает с поклажей. Проводница что-то верещит мне в спину, даже вроде стучит мне в рюкзак кулачками – но я ноль внимания. Не могу поверить своему счастью. Ноги немного подкашиваются, поэтому цепляюсь за стены. Пассажиры смотрят на меня как на привидение. Их видно немного, потому что вагон купейный. Дохожу до противоположного конца вагона, заставляя шарахаться полураздетых дам и понимаю, что мне необходимо отдохнуть, просто отдышаться – иначе я рискую здесь же растянуться без чувств.
Я рывком откатываю в сторону дверь в последнем по счёту купе. Там полный комплект. Я с размаху сажусь на койку. Поезд трогается. Прибежала проводница, но я смотрю на неё в отсутствующим видом и улыбаюсь. В купе, похоже, одни дамы; да и вряд ли бы кто-нибудь из мужиков решился бы сейчас выставлять меня. Проводница жестикулирует – голос у неё слабый – не по профессии. Ближайшая сзади тётка пробовала меня спихнуть, но тщетно, я только посмотрел на неё с усмешкой через плечо.
Наулыбавшись вдоволь, сообщаю со всей возможной членораздельностью, что у меня есть билет на этот поезд, но только место моё в другом вагоне. Билет покажу, когда отдохнут руки. Показываю руки, которые не гнутся и трясутся в такт ходу состава. Проводница махнула рукой и ушла – скорей всего, опять кого-то звать. Но мне плевать. Женщины в купе молчат, глядят на меня с плохо скрываемой ненавистью. Проснулся мужик на верхней полке и раздумывает, стоит ли слезать. Не слезай – убьёт!
Я выдыхаю застоявшийся в лёгких воздух и отваливаюсь на спинку сидения. Затем прикрываю дверь купе – так меньше шума.
– Вы хотите мне что-то сказать? – обращаюсь я к застывшим в напряжённых позах пассажирам.
Они только ещё больше напрягаются.
Я закрываю глаза, блаженная улыбка опять-таки выпирает из меня наружу. Не задремать бы.
– Вы не волнуйтесь, – говорю я, едва приподняв ресницы. – я здесь посижу ещё несколько минут и пойду. В свой вагон.
Они ждут. А я медитирую, наблюдая смену света и теней на кроваво-красной изнанке собственных век.
Цыгане
"Мне нравится грубый здравый смысл, который обитает на улицах…"
Наполеон Бонапарт
В каком-то из городов. В Астрахани? В Краснодаре? Нет, скорее всего, в Воронеже – я иду вечером по правой стороне одной из центральных улиц. Не тепло, на мне плащ с вылезающим из ворота шарфом. В руке – торт на верёвочке.
В одном месте тротуар перекрыт строительством. Красноватые металлические леса облепили рельефное серое здание. Тут же, под лесами – какого-то чёрта базар. Мешая уличному движению, прямо на проезжей части, рядом с тротуаром, торгуют цыгане. Не очень характерное для них занятие – продавать фрукты-овощи. Не иначе – где-нибудь наворовали. Огурцы, чеснок и помидоры разложены прямо на асфальте, на газетах. Газеты подмокают, всё это выглядит нечисто, но какие-то покупатели есть. Они создают ещё большую непроходимость. Ступаю влево и вниз с бордюрного камня и пытаюсь прорваться через лабиринт горланящих торговок. Обращаю внимание на карманы – всякое может быть. Почти уже вышел, но чуть не наступил на разноцветные перцы, которые почему-то рассыпались и раскатились уже без газет. То ли кто-то поддел ногой, то ли просто из рук выронили. Аккуратно переступаю через мелкие плоды, которые выглядят, как замызганные сироты среди чёрных блестящих луж. Я на воле. Но слышу в спину ругань и злобные шаги. Какая-то цыганка бьёт меня в спину. Оборачиваюсь, стараясь не помять торт. Ничего себе – молодая и хорошенькая. Среди теперешних цыган такое редко встречается. Да и насчёт былых времён – сомневаюсь. А эта – ишь как распалилась – ей едёт. Глаза пылают, и серёжки с бусами на ней позвякивают. Не удивлюсь, если окажется дочкой какого-нибудь барона.
Но тут я начал злиться. Она таки довольно больно ударила меня по поджилкам своим сапожком. Лепетала что-то насчёт того, что я раздавил её товар. А я ведь не давил – очень внимательно смотрел под ноги, нарочно ступал как аист – и на тебе. Я понимаю, что ей обидно, но это ведь не я.
Поскольку ни на какие рациональные уговоры она не поддавалась, я тоже начал орать. Мол, что это за безобразие – я ничего не давил, а меня обвиняют. Устроили здесь! Угроза общественной безопасности! Наносят телесные повреждения! Милиция! Немедленно! И в таком духе.
Мой напор её ошарашил, и она заткнулась на несколько мгновений, приоткрыв рот – зубы тоже хорошие, нет золотых. Зато другие – в большинстве гораздо в более старые и отвратительные на вид – торговки, подняли гвалт, как стая рассерженных гусынь.
Я махнул на них рукой, как мог выразительно, и пошёл дальше. Мне в спину что-то полетело – возможно, тот же товар, который они подобрали из грязи.
– И испачканная одежда! – добавил я, оглянувшись и погрозив пальцем. – Милиция! – и прибавил шагу.
Я уже отошёл метров пятьдесят и миновал перекрёсток, когда меня нагнали два мужика, явно имеющие отношения к тому цыганскому базару. Один из них был невысокий и пожилой, и очень внушительного вида, несмотря на скромную одежду. Второй же – здоровила в оранжевой безрукавке, похоже, дорожный рабочий, которого я видел в паре с другим таким же, ошивающихся перед пресловутым базаром. Этот второй, явно не цыган, но мужчина выдающихся размеров, тут же, ничтоже сумняшеся, принялся дубасить меня своими ножищами.
– Бей его, бей, – приговаривал низкий. Он дышал с перебоями, и руки у него тряслись – надо меньше пить, дядя.
Я конечно старался уворачиваться от неприятных ударов. Хорошо ещё, что нельзя было сказать, чтобы бил он слишком профессионально. Работяга и есть работяга – заплатил он ему, что ли?
– Чего вы от меня хотите? – вырвалось у меня. И я застыдился собственного сорвавшегося голоса.
Низкий не говорил, а приговаривал. Очень темпераментно. Хотя при этом отнюдь не терял выражения достоинства. Мне бы так.
– Зачем ты её ударил? Она тебя била?
– Кто кого ударил? – пытался выяснить я, морщась от боли и всё же пытаясь спасти торт.
– Она тебя ударила?
– Ну, да она, ваша, ударила. Я-то её не бил…
– Зачем бил? Вот он тебя бьёт. Ударь его.
– Не хочу я с вами драться, – признался я.
Я действительно совершенно не хотел с ними драться. Не только потому, что это было бесполезно, даже в случае каких-то моих успехов на этом поприще, к ним прибегут на помощь, а ко мне нет. Во-вторых, я был далёк от того, временами находящего на меня, состояния отчаянной ярости, когда мне уже всё равно с кем драться и каков будет исход. Они застали меня в минуту слабости. Увидев бьющую меня цыганку, я вспомнил другую – та не била меня и не ругала – но уж лучше бы била и ругала…
В конце концов, я получил по яйцам. Не слишком сильно, но достаточно, чтобы пресеклось дыхание и потемнело в глазах.
– Зачем бил? Бей его, бей! Он тебя бьёт – ударь его. Почему не бьёшь? – низкий дышал мне в ухо дорогим перегаром – коньячок наверное употребляет.
– Да .. вашу мать! – завопил я, – отбегая в сторону. На глазах выступили жгучие слёзы. – Не бил я никого! Уберите от меня, ради Бога, эту гориллу! Не хочу я никого убивать! И целым хочу остаться.
Но мои тирады, хотя и вырвались из глубины сердца, видимо, не произвели достаточного впечатления, и избиение продолжилось. Удивительно, что я ещё ухитрялся оставаться на ногах. Замечательно, что у издевающегося надо мной рабочего было очень честное лицо. Он, вероятно, совершенно искренне полагал, что делает нужное дело. Обидели невинную девушку, и всё такое… Я-то полагал, что вот такие среднерусские блондинистые лбы должны недолюбливать цыган, как и всех прочих «чёрных». Так вот нет, заглядывая в его голубые зенки, я убедился, что никогда не дождусь от него поддержки. Может, татарин какой? Скорее уж меня этот барон пожалеет – всё же есть в нём нечто интеллигентное, хотя, разумеется, и с криминальным душком. Но у нас – всё так.
Я получил по морде. Исполин выдернул у меня из пальцев коробку с тортом, синтетическая верёвка в кровь ободрала кожу. От нокдауна я плохо соображал, обзор заплывающего левого глаза стал стремительно сужаться.
– Зачем бил?
– Да не бил я, – выдохнул я обессилено.