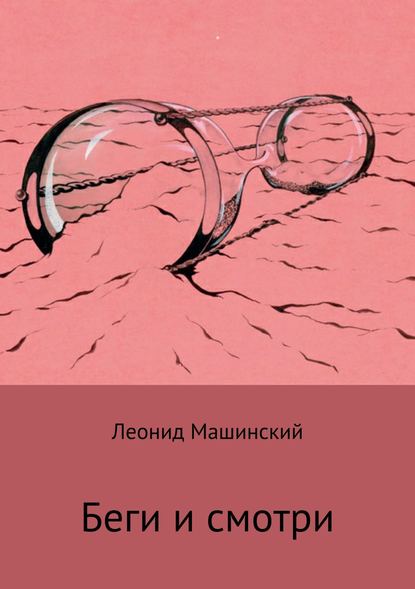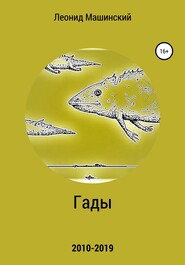По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Беги и смотри
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
И барон наконец заметил, что я плачу. Слёзы текли сами собой, но я почему-то смотрел только на торт. Торт было жалко.
Можно было предположить, что мой честный избиватель попляшет на нём своим растоптанным сорок шестым, или – как это делают уважаемые мной укротители чванливых особ – размажет мне сладкую кашицу по физиономии – хоть попробую, что' я теряю. Или взял бы угостить, пострадавших в кавычках, цыганок.
Нет, он зачем-то взялся развязывать верёвку на торте. Тут ему пришлось отвлёчься, что дало мне приятную передышку. Затем он мельком заглянул внутрь, и, ничего не выразив на крупном убеждённом лице, бросил торт в заскорузлый придорожный сугроб. Даже не бросил, выронил. Торт упал и даже не раскрылся, лежал в самой некрасивой, незаконченной позе – такой же серый, как сугроб. Но его ещё можно было есть.
Я плакал.
Громила собрался мне добавить, он барон остановил его жестом. Они взяли меня с двух сторон под руки и куда-то повели – не в сторону базара. Я шёл и плакал – у меня не было сил сопротивляться. «Заведут в какую-нибудь подворотню и убьют», – мелькнуло у меня. Я оглянулся на торт, его уже не было видно. Наверно подобрали – тут народ голодный.
– А это ваша дочь? – спросил я спокойно.
Барон остановился и с интересом заглянул мне в лицо. Глянув на шефа, и громила с неохотой отпустил меня – а то ведь почти нёс под мышку, чуть руку не оторвал.
Я перестал плакать, но погрузился в какую-то непробиваемую грусть.
– А ты, что, влюблён? – вдруг спросил меня проницательный барон.
– Да, влюблён, – ответил я честно. – Но не в вашу дочь.
Он окончательно отпустил мою руку и, отвернувшись, о чём-то на несколько мгновений задумался. После закурил, дорогую сигарету. Рабочий ждал.
Барон больше ничего не сказал. Он сделал наёмному бойцу знак гордой своей головой, и они пошли от меня назад, к цыганкам.
Я стоял, как в воду опущенный, и не оборачивался. Только зачем-то подумал, что надо всё-таки проверить – цело ли содержимое карманов. Но руки висели в стороны – как у орангутана.
Я бы ещё поплакал – да нечем уже было. Где-то под глазом выползла и запеклась кровь. Болело в паху.
В белёсых, не совсем цыганских, глазах барона, когда он уходил, было что-то брезгливо-сочувственное. И руки свои он слишком поспешно от меня убрал – как будто испугался заразиться. И я почувствовал себя зачумлённым. «Влюблён». Да, с таким уже ничего не поделаешь. Это не лечится. Такому не сделаешь хуже. Зачем бить дырявый матрас – разве что ради тренировки.
Интересно: насколько цело содержимое моих штанов? А то – какая уж тут влюблённость! Интуиция подсказывает, то всё-таки цело. Но шаги пока буду делать в раскорячку. Здо'рово я наверно выгляжу со стороны. Под ближайшим фонарём надо будет посмотреть, насколько я грязен.
Ловлю себя на том, что уже иду вперёд. С трудом, но иду. И ловлю себя на совсем уж идиотской мысли – насчёт того, что всё-таки надо бы вернуться и посмотреть, что там с тортом.
Любовь
"Другие люди ей скорее требовались для расхода своих лишних сил, чем для получения от них того, чего ей не хватало…"
А. Платонов
Я сижу на эстраде, если это можно так назвать. Один из концов продолговатой большой комнаты, видимо, бывшей аудитории приподнят над остальным полом не более, чем на полметра. По этому возвышению раскиданы маленькие плотные подушки, здесь же стоят низкие прочные табуретки, которые, на самом деле, используются как столики для чая. Сидеть следует на подушках, как говорила моя бабушка, по-турецки или, как теперь принято говорить, в позе лотоса. Впрочем, по-настоящему замкнуть ноги кренделем тут мало у кого получается. Да и не затем здесь большинство посетителей, чтобы напрягаться.
Я сижу и смотрю на танцующих. Их пока немного, потому что я пришёл рано. Больше девушек – они танцуют восточные танцы – некоторые, похоже, самозабвенно, другие же явно для того, чтобы привлечь чьё-то внимание. Зрителей, впрочем, почти нет. Не для меня же они, с самом деле, стараются?
Я закрываю глаза и пробую сосредоточиться. Ударные в этих композициях присутствуют специально для того, чтобы вводить в транс. Мне хочется забыть всё, что я оставил на улице. Мне хочется просто захотеть танцевать. Даже эротическое воображение сейчас мешает. Да и смотреть-то особенно не на кого. «Пум-пум-бум, пум-пум-бум ..,» – бьют барабаны.
Как я попал сюда – особая история, и её скушно теперь рассказывать. Однако, обстоятельства моей жизни сплелись таким образом, что это должно было произойти. Чего хотело то меня Провидение?
Хорошо было бы, если бы человеку хотелось только танцевать и больше ничего не хотелось. Но, увы. Люди не умеют до конца раствориться в танце. Когда человек танцует один, ему не хватает ещё кого-то. А когда появляется этот кто-то, пара, вместо того, чтобы жить в сиюминутном ритме, начинает строить планы и вспоминать, как было раньше. Они стараются настроиться друг на друга, помочь друг другу, ну и, конечно, взять друг от друга всё, что возможно взять за это короткое время, когда соприкасаются тела.
Здесь, на этой странной дискотеке, встречаются довольно странные существа. У большинства из нас не всё в порядке в сексуальной сфере. Мы чего-то ищем. Здоровые люди приходят сюда ненадолго и, получив своё, убираются восвояси. Если же кто-то ходит на эти вечера долго и регулярно – это уже диагноз.
Впрочем, ставить диагноз танцующему рядом с тобой индивиду строго-настрого запрещено писаными правилами сего заведения. Называется оно «Восточный дом». И мне теперь грезится, что в этом названии есть что-то астрологическое. Ну и что?
Пахнет сжигаемыми благовонными палочками. По дощатому полу бегают босые дети. Народу прибавляется. Вновь прибывшие разуваются и складывают свои сумки в ячейки у стены – кто-то остроумно устроил эти ячейки из поставленных друг на друга рядов откидных сидений. Дерматин на этих сидениях синий, а все остальные драпировки в комнате в красных тонах. На красных полотнах, украшающих стены, подобия звёзд и портреты гуру. Красный свет призван возбуждать страсть.
Я увидел её краем глаза третьего июня. Мы танцевали с кем-то из моих друзей. Толпились на месте в неторопливом темпе индийского песнопения. Я сразу её оценил, вернее, даже не её, а её живот. Она выглядела очень молодо, и длинные волосы были расчёсаны на прямой пробор. Она была маленькая, стройная, и что-то было такое в глазах. Здесь, да и вообще где бы то ни было, такие редко встречаются.
Я понял, что могу влюбиться. Но я ведь этого ждал. Всё во мне ждало этого. Я знал, что это может меня убить. Так, наверное, наркоман предполагает, что его убьёт следующий укол.
Могло ли это не произойти? Я увидел её нос. Она держала голову немного вперёд, по-утиному. И нос мне не понравился. Я с облегчением вздохнул. Она не была настолько красива, чтобы я расплакался тут же, на месте. Но она была опасна. Я старался не смотреть на неё на протяжении вечера. Но всё равно смотрел. Вернее, я чувствовал её спиной, плечом, да чем угодно, где бы она ни была, и чувствовал, когда она отсутствует в комнате. Я подумал, что, наверное, всё-таки стоит пригласить её танцевать; но не теперь.
Любовь банальна. Она врывается в сердце, как стая громил. Вот тебе уже завязали рот и глаза. Почти нечем дышать. И тебе наплевать, что' они уносят – лишь бы остаться живым. Но могут попасться садисты и начнут сдирать с тебя кожу.
Когда мы с ней танцевали, она отвечала на вопросы просто и ясно. От неё веяло девственностью и цельностью, даже, может быть, тупостью, той самой здоровой тупостью, которая так привлекает. Каково же было моё удивление, когда я узнал, что она побывала замужем.
У неё были странные взаимоотношения с жизнью, и в чём-то мы без сомнения сходились. Кто-то когда-то внушил ей, что у неё нет чувства ритма и она совершенно не может танцевать, и вот теперь она изо всех сил доказывает самой себе и всем остальным, что это не так. И у неё кое-что получалось. У неё получалось мило, хотя и однообразно. В ней была та самая опасная слабость, которая разит наповал.
Услышав эту струну, эту прорывающуюся глухим плачем струну обиженного ребёнка, я уже не мог отделаться от влечения слышать её снова и снова. Чего, собственно, я мог хотеть от неё? Мне нужна было любовница? Да, наверное. Видел ли я любовницу в ней…
Здесь вообще всё было не по-настоящему. Игра для взрослых – это меня бесило. Более, чем безопасный секс. Можно было прижиматься друг к другу, не опасаясь, что презерватив порвётся. Люди собирались от страха, от страха перед большой жизнью. Но ведь кто-то забредал сюда, чтобы найти спасение у этих испуганных людей.
Ты сожалела, что танцы тут не каждый день. Ты говорила, что когда танцуешь, отдыхаешь. Из-за него ты развелась с мужем, но ничего не вышло. Он, кому ты была готова отдать всё, бежал. У него уже было семья в другом городе. Я всё пытался себе представить, как это происходит у тебя, как ты любишь – и не мог. Все эти мальчики, твои мужья, возлюбленные и женихи, представлялись мне убогими бесплотными тенями. Да, наверное, они были красивы, красивее меня. Хотя мне это было смешно. Смех защищает. Да и не только поэтому я смеялся – смеялся я и над собой, смеялся над комплексом мужской некрасивости, который внушили мне моя мать и одна из моих подруг, моя первая женщина. Они хотели видеть меня другим. Но если бы я стал и в самом деле другим, я перестал бы быть самим собой, а только играл бы чью-то роль, чью-то чужую. Тогда и вся моя жизнь стала бы не моей, а жизнью какого-то изображаемого мной персонажа. Чаще всего, как на эталон, в таких случаях указывают на какого-нибудь киноактёра, среди которых и многие явно некрасивые кажутся весьма сексапильными. Слава Богу, я вовремя понял, что вовсе не хочу того, чего хотят от меня другие. До, я был жалок, но не более жалок, чем все эти кинофильмовские девичьи мечты. К чему менять шило на мыло?
Я хотел настаивать на своём, всегда настаивать на своём – чего бы мне это ни стоило. Побеждать – так самому, умирать – так самому. Я всегда гнушался каких бы то ни было авторитетов. Но как я мог понять людей, которые настолько боятся себя, что действуют всегда не иначе, как в масках, и от других требуют, чтобы те не снимали масок? Для всех это нормально. Это называется правилами общественного приличия.
Было ли в тебе что-то, чего не было у остальных? По прошествии времени я мог уяснить, что часто влюблялся в девушек фригидных. И это не потому, что я бил наугад и таких вокруг оказывалось много. Просто стандартная женская сексуальность вызывала у меня подсознательное отторжение, этакую тоску, а то даже и отвращение, какие может вызвать прямой бетонный канал. Если всё ясно, то собственно, что' не ясно? Что' тут ещё делать? Ту пресловутую таинственность, которую склонны напускать на себя плотски заинтересованные в мужском поле особы, они, как правило, почёрпывают в тех же фильмах и книгах, – и хорошо ещё, если им в нежном возрасте случайно попало под руку что-нибудь экзотическое. Одна моя бывшая любовь, читала повести про грузин и поэтому любила грузин и вообще кавказцев, а русских не любила – так во всяком случае она говорила. Меня она точно не любила. Но зато пыталась заниматься проституцией в общежитии ВГИКа с китайцами. Тогда у меня были все основания пожалеть, что я не грузин или – на худой конец – не узбек. Узбекам она тоже давала.
Незаинтересованность в мужских ласках моих любимых обманывала меня лишь потому, что я хотел обмануться. Что-то тут было не так. Было, за что бороться. Была надежда, что что-то изменится, пусть и чудом. Т.е. надежда на чудо. А если чуда ждать неоткуда, разве интересен весь этот процесс? Тут уж наверное следует употреблять ум, который расскажет тебе, как наилучшим способом обзавестись семейством и родить детей.
Я же желал жить сердцем. Я желал, хотя бы убедиться, что это возможно. Но пробовать любовь – так же чревато последствиями, как пробовать тяжёлые наркотики. Для того, чтобы долго выживать, нужна исключительная выносливость. Теперь я могу констатировать, что она у меня была. Однако, и я начал сдавать.
Мы сидели на месте бывшего розария под тёплым, но не кусающим августовским солнцем. Это была наша вторая встреча за пределами «Восточного дома».
Мы пили красное вино, молдавское каберне. Закусывали мясом и хлебом. В основании высоких иссохших стеблей перед нами копошились многочисленные полёвки, тут же, то взлетая, то присаживаясь на грунт, сновали азартные воробьи. Мы бросали им крошки, все были довольны – целая толпа птиц и зверей.
Мы сидели на горячих камнях, ты немного захмелела и что-то разглядывала там, под своими прикрытыми веками. Ты распустила губы и выглядела, совсем как замечтавшаяся школьница за партой. Но меня не было в твоих мечтах, хотя я и сидел рядом с тобой. Странным образом я не мог проникнуть в тебя, ты что-то думала, но думала не обо мне, а о каком-то воображаемом идеальном друге, поводом к мысли о котором я послужил. Ты спросила меня, что' я ценю в дружбе. Не помню, что' я ответил. А ты сказала, что ценишь в друзьях искренность и широту кругозора. Видимо, ты предполагала, что я потенциально отвечаю этим требованиям. Но что' ты собственно хотела со мной делать? Как с другом? Для чего я тебе мог бы сгодиться, если ты не видела во мне сексуального (эротического) объекта?
Когда мы сидели на камнях, я кроме всего прочего рассказал тебе об одном своём друге, который в сексуальном отношении так и остался ребёнком пяти-шести лет. Т.е. он мог отличить красивую женщину от некрасивой, так же как эстетически развитый человек может различать статуи. Он понимал и любил ласку, но не более той, которую можно дать своим детям. Конечно, ему бы понравилось, если бы его погладили по голове. Он мог, расчувствовавшись, прижаться к кому-нибудь щекой или поцеловать руку. Физически он не был импотентом, но собственная эта способность вызывала у него недоумение, если не раздражение.
Странно, но ты выслушала мой рассказ с недоверием и даже как-то не очень пристойно хохотнула. Впрочем – это действительно редкая особенность, и трудно сказать, насколько она хороша – ты почти не умела смеяться. Это была, пожалуй, чуть ли не единственная попытка полноценного смеха, которую я у тебя наблюдал. Ты улыбалась. Да, часто, почти всё время, на твоём лице можно было заметить улыбку – не вымученную, как у профессиональных телеведущих – твоя улыбка была грустна и уже потому естественна. И вся твоя способность к смеху будто растворилась в этой улыбке. Ты стеснялась смеяться и не то вообще никогда этого толком не делала, не то так пугалась собственного неумелого смеха, что, едва услышав самоё себя, тут же замокала. Страшные басовитые нотки, вырвавшиеся тогда из твоей груди, в самом деле, могли изумить и оттолкнуть – в этом подспудном, загнанном в самую утробу, смехе было что-то плотоядное и необузданно пошлое. Это совершенно диссонировало с внешностью примерной наивной старшеклассницы – прямо-таки клякса на чистейшем гимназическом фартучке. Нужно ли мне было тогда насторожиться? Расслышал ли я тогда сигналы из своего внутреннего центра?
Насторожился бы я тогда или нет – что бы это изменило? Ты и сама не без основания побаивалась своей глубины. А разве есть люди, которые самих себя совсем не боятся? Разве нормально, если молодая девушка совсем не смеётся? Что значит этот синдром Несмеяны? Уж недаром подобный сюжет затесался в сказку.
Если бы я мог быть беспристрастным аппаратом, этаким луноходом, который изучает неизвестную планету при помощи разнообразных щупов и антенн… Но самое серьёзное осложнение, какое может возникнуть у человека, решившего удовлетворить своё любопытство, – боль. Но именно боль и, скорее всего, одна только она, служит ориентиром, когда в непредвиденных экстраординарных инопланетных условиях все остальные чувства отказывают.
Мало того, что придётся танцевать на битом стекле и ходить по раскалённым углям, ты должен быть готов ещё и к тому, что все эти твои страдания оценены отнюдь не будут. Потому что у жителей других планет всё по-другому, они над тобой даже не посмеются – пытались подражать землянам, но так и не научились и не поняли, зачем это собственно делается.
Ты сказала мне, что когда влюбляешься, самое маленькое, что тебе хочется сделать, – это выброситься из окна. На протяжении нашего знакомства ты пережила ещё один разрыв с любимым человеком – ты настаивала, что таковой человек всегда является для тебя единственным и опять упоминала об окне. Вероятно, уже возникла привычка. Но ты честно призналась, что когда хорошенько выглянешь, – страшно. Я вот в детстве и ранней юности любил вешаться. По крышам тоже лазил.