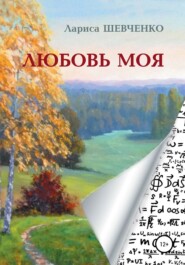По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вкус жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Поняв свою оплошность, Люся терялась и пугалась, что не выполнит опрометчиво данное себе обещание спасти подругу, но замолкала ненадолго. Похвально было упорство, с каким она отстаивала свое право на советы, пытаясь разрушить атмосферу скорби и безысходности. Она не отступала в поисках ахиллесовой пяты своей подруги, хотя иногда от бессилия злилась и пускала в ход далеко не великосветские выражения, а потом каялась, просила прощения, объясняя свою несдержанность нервами. «Ты же знаешь, чего я натерпелась от своей свекрови, и с мужем долго пришлось хлебать гадкую кашу его тирании. Устала я от сложностей. Что-то горькое подступало к горлу, мешало дышать. Так хотелось простых, незамысловатых и честных отношений… – говорила она и со слезами обнимала Лену, будто ища, как в юные годы, ее защиты. – Когда скорбь начинает невыносимо больно теребить мне душу, я говорю сама себе: «Подопри свое сердце надеждой и живи дальше»… Она чуть не сказала: «ради детей», но вовремя опомнилась.
Проходило совсем немного времени, и Люся опять искала пути примирения подруги с реальным миром.
– Ну что ты, в самом деле, очнись! Путь твой не завершен. Хочешь ты того или нет, тебе придется начинать жить заново. Не все проходят Голгофу с последующим воскрешением, но только не ты, – упрямо говорила она. – Что-то сломалось в тебе, и ты почувствовала себя беззащитным ребенком. Если память мне не изменяет, ты не лишена честолюбия. Каждый из нас несет в себе свою особенно звучащую ноту жизни. Не загаси свою, такую красивую и высокую. Выйди из беды с наименьшими потерями. Не губи себя. Тебе не пристало поддаваться разочарованию и бездеятельности, ты еще много можешь сделать. По уши впрягайся в научную лямку, изнуряй себя работой. Чтобы не оставить ни минуты для гнетущих, терзающих сердце раздумий. Вспомни свои слова: «Коль скоро рассчитываешь на победу, ставки надо делать по-крупному». Вытаскивай свои козыри, не мелочись. Где твой характер, твоя суть? Ты же знаешь себе цену. Вспомни доцента с кафедры биологии. Он птицами занимался. До последнего дня из последних сил старался. Врачи дали ему полгода жизни, а он четыре смог…
Она опять чуть не сказала «ради своих троих маленьких детей».
– Ты сама в своем расстроенном воображении создала ужасный образ нынешней жизни. Тоска сама собой не прекратится, ее, как болезнь, надо лечить. Перед тобой самый труднопреодолимый перевал в твоей жизни. Пройди его достойно. Я страх и тоску выбивала из себя злостью на свою беспомощность, – упоенная своей собственной речью, утверждала Люся.
Лена угрюмо молчала. «Кому нужны эти нудные резоны? Не отбиться мне от наседающих тоскливых мыслей». На какой-то миг Люся уже отчаялась найти способ вывести подругу из мрачной депрессии. Ей хотелось закричать: «Мне скрестись, стучать, барабанить в неподатливую дверь твоего упрямства или умолять?!» Но она успокоилась и пустилась в воспоминания.
– Пораскинь мозгами, ты же всегда учила меня тому, что мы, женщины, не можем позволить себе быть слабыми. Я первое время часто вспоминала твои шутливые слова: «…Усталость отложи на потом, это любовь и рождение детей на старость нельзя откладывать…», «Кажется, еще немного – и конец, но я взмываю белым лебедем!» Они не плод моего воображения. Ты права, мы обязаны взмывать… Всегда в самый ответственный момент ты оказывалась рядом с теми, кому плохо… Я и Лиле о тебе рассказывала, когда ей было тошно.
Мне тоже знакомо чувство гибельного одиночества. Вспомни весь пунктир наших, пусть даже редких встреч, вспомни мою беду. Я тогда до ручки дошла. Ты учила меня чувства подчинять рассудку, ты помогла мне тогда выжить, и не растоптала меня горькая правда жизни. Встала я на ноги, окрепла сердцем. Живу, хоть нередко и сейчас еще меня топчут, борюсь. Твой лозунг: «Чтобы радоваться жизни, надо быть сильным человеком» поддерживает меня в трудных ситуациях, не дает раскисать… Это же отступничество! – возмущалась Люся. – Мне показалось, ты перестала себя уважать. Тебе выпало очень трудное испытание – переживать самое большое несчастье в жизни женщины – гибель ребенка, но ты, насколько я тебя знаю, самая сильная из нас, твоих подруг, ты сумеешь вынести его и с полным правом сказать: я сильнее обстоятельств. Это горе никогда не забудется, не сотрется из памяти, но тебе надо заслониться новыми заботами, новыми проблемами. Умение быть или чувствовать себя счастливой – тоже талант. Можно ведь и всю жизнь проплакать. Ты пропиталась собственной горечью. Расслабься. Если в душе нет пространства, а в сердце – ритма времени, – это смерть. Грех – убивать себя. Отрешись от сомнений, положись на меня. Вместе мы победим твою депрессию.
Ты поставлена перед выбором: отвоевать себе новое счастье или отказаться от него. Молодость – лучшее лекарство от всех жизненных невзгод. Тебе только сорок. Ты достойно прошла первую половину своего жизненного пути. Прими взвешенное решение, ты же умная. Не растрачивай на тоску драгоценное время второй половины. Я понимаю, в твоем сердце последние семнадцать лет безраздельно царили сын и мама. Все остальные привязанности для тебя были как тени. Теперь, когда самых родных больше нет, тебе необходимо свыкнуться с мыслью о потере, освоиться в новых условиях. Все раны в конце концов зарастают. Попробуй научиться любить себя. Это поможет тебе выжить. Любить, а не жалеть. Жалость к себе ослабляет и физически, и морально, с ног валит, превращает в медуз. Сама посуди, ведь плохо, если человек перестает быть нужным самому себе? Абсолютного счастья не бывает. Отыщи и не упусти хоть малое… Я понимаю, когда все плохо, никак не можешь уйти от своих скорбных мыслей… это невыносимо. Но прекрати вслушиваться в себя.
Только Лена не подпадала под влияние подруги, снисходительно, даже как-то покровительственно поглядывала на нее и печально качала головой, не принимая ее мужественного сострадания. Мол, не привыкла раскладывать свой груз по чужим плечам. Сама разберусь, как жить с неразрешимой мукой в сердце. Она не позволяла себе сомневаться в суждениях подруги, но и не подчинялась ее воле. А Людмила верила в успех своего замысла и снова вооружалась терпением.
– Не прячься от самой себя, – говорила она уже на следующий день. – Как иногда бывает важно знать, что кто-то чувствует так же, как и ты. Бывает, что и чужие чувства, сходные с твоими, становятся близкими тебе.
Лена отвечала ей молчаливым согласием. Но не прорывались к ней Людмилины слова, утомляли. Да она и сама запутывалась в них.
– Я не вправе лезть в твою душу, оспаривать твое мнение. Знаю, что никогда не перестанешь горевать, но это только сейчас тебе кажется, что твое горе не поддается переосмыслению. Я отгоревала свое несчастье, и ты прими его как данность и переживи. Не смеешь надеяться?.. Новые обстоятельства уже предъявляют на тебя свои права. Победи страшную прихоть судьбы, не дай сломать себя. Тебе сейчас главное – не упасть ниже, чем ты есть, не свалиться еще глубже в пропасть отчаяния. Отбрось проклятую нерешительность, порожденную несчастьем, не позволяй горю обрушить твою жизнь, не обрекай себя на одиночество. Изоляция может любого человека привести на грань безумия. Одиночество возвышает души и заставляет идти вперед только избранных. Человек – стадное животное, ему нужно общение, – пошутила она, с тревогой, опасливо глядя на Лену. – Сделай одолжение, попытайся преодолеть горе, найдя выход в науке и творчестве. Помнишь, Хичкок обернул свои страхи в творчество.
– Ты считаешь, что тебе удалось выявить между нами объединяющее сходство? Он думал о себе, и это несколько меняет дело… Какое творчество, когда душа пуста, а сердце разорвано на две половинки? – все еще храня в уголках губ гримасу боли, устало и безнадежно отмахнулась Лена.
Не помогали ей Людмилины слова, не трогали душу. То не было простодушное стремление отрицать очевидное. Она еще вся была в своем горе. И голова до сих пор была как чужая и не воспринимала адекватно окружающее. И скрытный характер, закаленный самостоятельной жизнью, не позволял, не впускал. И только глаза чаще, чем ей хотелось, проявляли во взгляде то, какого рода мысли заключены в ее непокорной голове. Но она приобрела привычку их прятать. Вот и не получалось у Людмилы найти ключик к сердцу подруги. А Лена отвечала ей с уступчивой усмешкой привычное: «Тебе видней».
И, тем не менее, негромкий успокаивающий голос подруги становился для Лены как бы единственным ориентиром в мире, погрузившемся во мрак с той минуты, когда она осталась в городе одна. И Люся, словно понимая это на уровне подсознания, отметая всякие сомнения, не отступалась и упорно продолжала искать, нащупывать.
– Ты в своей жизни уже совершила один негромкий, но героический подвиг – воспитала прекрасного сына, соверши еще один. Прыжок с парашютом – это прыжок не вниз, а вверх, через страх, через боль… Пойми, для нас, женщин, предел несчастья – безнадежное одиночество. Оно, как стопор или якорь, не позволяющий двигаться, жить. Нам нужно о ком-то заботиться. Отвлекись от своего горя, переключись на сострадание чужому горю. Именно на оселке чужой беды проверяется человек. Сколько еще всего хорошего в тебе спрессовано и не растрачено!
Воспитай себе второго сына, перенеси на него то, что не успела отдать Антоше. Пусть он станет отправной точкой в твоей новой жизни. И тогда в тебе не увянет до срока способность любить безраздельно – твое истинное женское предназначение – и сразу освободится обычно скрытая вечная сущность вещей, и твое подлинное «я» пробудится от мертвящего забытья. Не допусти, чтобы оно погибло окончательно. Ты возродишься. Сердце вновь раздвинется, готовое вместить не только новые страдания, но и новые радости. Только мысленно держись за тех, с кем была близка, чья любовь тебя поддерживала и укрепляла. Совершенного решения твоих проблем не может быть, но это лучшее, что ты могла бы сделать в такой ситуации.
Не тешь себя мыслью о прошлом счастье, не слушай сейчас свое сердце, оно больное и не подскажет разумного выхода из тупика. Включи мозги. Трудности снова будут сыпаться на тебя, как из рога изобилия, но с ребенком ты выстоишь, вновь почувствуешь себя в седле. Все проблемы и мелкие обстоятельства утонут в твоей любви к крохотному беззащитному созданию. Материнское начало возьмет верх.
Засветись снова, теперь, как сентябрьский кленовый листок. Твоя душа с надорванными нервами снова научится любить. И когда-нибудь ты признаешься себе, что, несмотря на трудности и беды, твоя жизнь была нескончаемым чудом и что ты успела сделать почти все, что хотела, и успела насладиться многим из того, что отпускает нам окружающая нас природа. Не отнимай у себя минуты счастья, которые сто?ят многого и даже тех испытаний, которые посылает нам судьба. Помнишь, «Старик и море» Хемингуэя? Какова сила духа! Там мужчина ради самого себя утверждался, а тебя будет направлять праведная цель – воспитание человека. Знаешь, правильно говорят: «Что отдаешь, к тебе когда-то возвратится».
Конечно, чтобы замкнуть свое сердце для жизни, для любви, надо тоже быть сильным человеком. Но твой ли это путь? Что ты предпочтешь? Искать ответы на все вопросы придется тебе самой. Как бы ни было трудно, надо жить и работать во имя своего будущего… Ты говори, говори, выговаривайся. Не молчи, – упрашивала Людмила подругу. – Каких бы высот ни достигла в своей карьере женщина, она в душе прежде всего мать, а потом уже все остальное. Надо, чтобы свеча не погасла…
Лена вздрогнула, словно оттолкнула себя от этой неожиданной мысли. Она не готова была видеть на месте своего сына другого. «Нет! Никогда! Никого!..» Она не сразу отважилась подвергнуть анализу эту неожиданную мысль, она старалась вовсе не размышлять о ней, будто не желая признавать за ней бо?льшую важность и ценность, чем она на самом деле для нее содержала. А была она, эта ценность, немалой, судя хотя бы уже по тому, какое значение Лена вдруг сама придала ей. «Я не хочу радости? Не хочу счастья? Боюсь надеяться, чтобы не разочароваться? Это слабоволие, уход от действительности… Счастье – просто жить?.. Мне этого мало. Это позволительно только в старости».
Хоть не сразу, но отозвались Люсины слова в сердце Лены. Она вдруг почувствовала, что стремительные, многословные, на первый взгляд бессвязные фразы все-таки несут информацию. И поэтому зазвучали они для нее как-то убедительнее, весомее. Она снова и снова вдумывалась в уже отзвучавшие слова Людмилы… «Зачем мне ребенок? Быть для кого-то нужной, самой главной? Чтобы меня снова любили?.. И я любила? Так трудно без чьей-то любви… Я сопротивляюсь, потому что самой себе боюсь в этом признаться?»
В ней будто бы немного затеплилось, слегка засветилось предощущение не пустого будущего. Она еще не понимала, что именно отвлекло ее от тяжелого груза тоскливых мыслей, что конкретно пошатнуло престол ее скорби, но что-то стронулось в ней в сторону улучшения душевного самочувствия. Слова пока прозвучали только в ее голове как намек на то, что могло бы случиться, но пока не случилось… Может, она почувствовала необходимость сделать самое главное, самое нужное, но еще неосязаемое. Она вдруг увидела себя со стороны, с изумлением, едва узнавая…. «Почему я сломалась? Разве я слишком долго держалась за мамину юбку? Нет… Был бы рядом Андрей… С Люсенькой не так холодно и одиноко…» – думала Лена, вдруг проникаясь к ней некоторым доверием и пониманием. Она потихоньку оттаивала, как сосулька на редком январском солнце. Ей уже иногда хотелось повалиться лицом в подушку и кричать в голос по-бабьи, рыдать навзрыд, чтобы облегчить свое сердце или отдаться на поруки чужой жалости, или пусть даже неуверенно, но запрокинуть лицо и увидеть простор неба. Но не получалось… И все же свершившаяся в ней с таким трудом перемена оказалась значительно глубже, чем она себе представляла.
И вдруг Лена непроизвольно улыбнулась. И как бы ни была ничтожно мала, эта едва промелькнувшая улыбка, она немного прибавила настроения Люсе. Она, заметив эту едва заметное изменение, воспылала каким-то детским восторгом тайного союзничества с подругой. У нее появилась надежда. «Ведь иногда бывает так важно вовремя почувствовать что-то родное, объединяющее», – чуть ли не со слезами радовалась она. Но не торопила Лену проскочить полосу сомнений. …Слова Люси уже не казались Лене столь беспощадно отвлеченными рассуждениями, не затрагивавшими струн ее сердца В них она видела что-то простое и конкретное и думала о них уже без гнева, хотя пока еще холодно, словно бы абстрактно. Эти слова отворили маленькую щелочку в ее зажатом, измученном сердце, как-то смягчили ее душу, породили жажду людского сочувствия. И само присутствие Люси отвлекало от тяжелых мыслей, сосредоточенных на одном и том же и непрестанно терзавшем ее изболевшуюся душу. Но быстро растормозиться не удавалось. Слишком медленно возвращалась она в действительность из боли… из апокалипсиса души. Но как-то ночью, очнувшись после очередного короткого раунда беспокойного сна, она обнаружила подушку влажной от слез. Организм во сне позволил себе расслабляться.
Она неожиданно для себя расплакалась, и мощный поток слез впервые принес ей некоторое облегчение. Она удивлялась силе и обилию своих слез. И позже она снова и снова бессознательно давала волю слезам. Терзавшие ее боль и тоска понемногу стали отступать. Сострадание и нежность возвращались в ее душу. Она оживала. На какой призыв она откликнулась хоть слабо, но незамедлительно? Что несколько поубавило в ней скептицизма? Крохотная надежда на то, что счастье, пусть и трудное, может повториться? Она слушала Людмилу и будто в уме произносила те же слова. Потом стала рассказывать о своих чувствах очень осторожно, стараясь не бросать подругу на острые рифы своей беды:
– Порой мне кажется, что вокруг меня не настоящий мир, а стилизованная реальность, как в театре. Вот я и воссоздаю в себе то, что было раньше, чтобы вернуться в реальный мир, минуя трагедию. Все вокруг меня пропитано неоднозначностью пространства, когда ничего не происходит и в то же время что-то происходит. Понимаешь?
Людмила не понимала, но слушала внимательно.
– Я хочу растянуть доброе время и сократить, замедлить или даже остановить горестное. Иногда хочу выйти за временные рамки. Я понимаю, что мои переживания не умственные, они носят осязательный, чувствительный характер. Это состояние прострации. Не могу я тебе доходчиво это объяснить. Я читала, у преступников такое случается. Они не испытывают ужаса от совершенного преступления. Они видят в своем действии что-то совсем другое, для нас нереальное, – открывалась она подруге.
– Боже мой, куда тебя заносит! – пугалась Люся и тут же дипломатично замолкала. Потом опять возвращалась к опасной теме:
– Леночка, не надо об убийцах. Они воспринимают насилие как должное. Их фетиш – смерть. Они не казнятся и, как говорится, быстро выбрасывают пустые гильзы прошлого. Не ставь себя с ними в один ряд. Страшный рок, а не ты – причина твоих страданий, и выйти за их пределы ты сможешь, лишь борясь не за себя, а за будущего ребенка, судьба которого будет зависеть только от тебя.
В ту ночь у Лены было ощущение экстаза, такого полного и яркого, какой приходит только во сне и никогда не случается на самом деле, в реалиях, потому что идеальной жизни не бывает. Во сне она видела, будто обнимает подругу, а между ними уже была новая, воображаемая жизнь – маленький ребенок, и он находился в мощном поле любви этих двух сильных, надежных женщин…
Она проснулась с растерянной мягкой улыбкой. Ей было тепло. Странное счастливое спокойствие на короткое время снизошло на нее. Потом опять восторжествовал дух противоречия. «Кощунственная, жестокая мысль! Моего сыночка никем не заменить… Горе никогда не покинет меня до конца. Оно будет преследовать меня даже в самые радостные дни, если таковые теперь возможны… »
И вот, по прошествии нескольких дней, Лена обмолвилась, что на работе ужасней всего то, что она постоянно чувствует на себе излишне пристальные взгляды сотрудников, что ее изводят их участливая жалость, сочувственные слова, как по живому режут, точно прогоняют сквозь строй соболезнований. Естественно, что она в ответ или молчит, или бросает резко: «Да не вяжитесь ко мне с участием, и так тошно!» И Людмила потребовала от Лены взять отпуск, чтобы новое место всецело завладело ее вниманием, ее мыслями. Лена, может, впервые за ее взрослую жизнь, почувствовала себя слабой и ведомой и хоть не сразу, но согласилась. Невозможно мгновенно отрешиться от себя, от проблем. Еще долго черными, перехлестывающими тенями метались в ее сознании тревога и тоска, и заполненные до краев депрессией дни выматывали душу, разрывали сердце невозвратимой утратой, не позволяли спокойно коротать ужасно длинные ночи.
Всякий знает, что ночами, когда нет дневной суеты, душа больше стонет. Но Лена потихоньку отогревалась чуткостью Людмилы, и боль души ослабляла свою хватку. Мучительные мысли о сыне, тоска в сердце подле нее как-то становились тише. Она ни словом не обмолвилась Люсе об этом, но теперь не уходила от общения с нею, напротив, искала точки соприкосновения. Она поняла, что именно Люсенька в самое тяжкое время не позволила ей сойти с ума от горя. В ней затеплилась пока что пугливая и робкая надежда. Она очень осторожно касалась ее сердца и снова уплывала… А Люся улыбалась. Она уже несла в себе чувство своей причастности к доброму, светлому, просыпающемуся в подруге. Это придавало сил и уверенности.
Не в одночасье изменилось Ленино отношение к действительности. Потихоньку таяло и уходило чувство затравленности. Ее уже не пугали новые мысли, новые ощущения. Но решительных, кардинальных изменений в сознании не происходило. Может, потому, что еще совершенно непредсказуемо, неконтролируемо часто мелькали в голове грустные мысли, которые сразу вышибали все «предохранители», и снова начиналась жуткая бессонница, за ней следовала черным хвостом депрессия… Жуткие воспоминания всё еще сохраняли над ней мощную непреодолимую власть. Они словно замуровывали ее в непроницаемый саркофаг.
А Люся торопила: «И с таким настроением ты собираешься преодолевать новые превратности судьбы?» Характер их разговоров тоже претерпел заметные изменения. В них появилась некоторая задушевность. Беседы приобрели доверительную тональность. Теперь Лена уже сама пыталась направить свои силы в русло вновь приобретенных надежд, осуществление которых потребует от нее снова вознестись наверх, постепенно набирая высоту. Еще совсем недавно она отказывалась принять горькую действительность, а теперь ей казалось, что годы, проведенные с Антошей, были прекрасным, счастливым сном, ни забыть, ни стереть из памяти который невозможно. Они останутся с нею навсегда…
Некоторые раны не подвластны времени… мир рушится в один миг… боль хоть и притупляется, но всплывает снова и снова… Время четко делится на «до» и «после». Но она пробудилась, и наступила новая реальность, требующая от нее концентрации всех сил, для осуществления главной и единственной цели ее жизни, ее высшего назначения – воспитания ребенка.
Потом события стали развиваться стремительным темпом. Подчинившись настоянию подруги, Лена на время покинула город, бывший когда-то для нее центром вселенной, потому что здесь рос ее сынок, но ставший центром горя, потому что в нем его не стало. Город преследовал ее, навевая слишком тягостные воспоминания. Деваться некуда – всюду он, он…
Поначалу Лене не хотелось возвращаться на родину, боялась убедиться, что многие воспоминания окажутся совсем не схожими с прошлыми, реальными событиями, и разочаруют ее. И все же она поехала в деревню, где прошло ее школьное детство. Эта деревня, как шутили соседи, «одной ногой стояла в Украине, другой – в России»… Недаром говорят, что когда тебе плохо, хочется вернуться туда, где когда-то было искренне хорошо. Там было трудно… но иногда так радостно!
Она приехала в деревню, чтобы там почерпнуть ту силу, которая помогала ей расти в детстве и поддерживала её на протяжении многих взрослых лет. Движимая интуицией, она прибыла сюда, чтобы, пройдя через возрождающий ритуал, вновь вернуться к жизни. Сначала это путешествие подарило ей встречу с самой собой. Здесь она совершила очищающую экскурсию внутрь себя и поняла, как необходимо иногда побывать в тиши таинственных уголков детства, задуматься, по-иному проанализировать прожитое, чтобы вновь обрести себя. Раньше все бегом, бегом, а тут остановилась, оглянулась и будто дотянулась до детства, до своей истинной души. Почему с возрастом мы хотя бы мысленно стремимся вернуться в прошлое? Устаем от жизни? Окунаемся в детство в поисках первых чистых чувств ради обновления? Да мало ли для чего… Почему именно в этой деревне, в глубокой провинции, а не в городе, где прожила основную часть своей жизни, у нее возникает ощущение родины?..
Она пересекла станционный поселок. За ним открылся луг, и уже в душном запахе старого сена – остатков прошлогодних развороченных скирд – почувствовала что-то родное, до боли знакомое, но далекое. Подумалось: я разучилась думать о радостном? Она удивилась широте и пустоте открывшегося перед ней пространства. И эти высокие облака, как застывшие ворохи аптечной ваты, и небо первозданной синевы и чистоты… А эти хлеба слева – сила-силища! И эта выгнутая спина большого моста и вогнутые спины у маленьких мостков и кладок! Пахнуло детством, всколыхнулась в груди тихая, радостная грусть. Впервые за многие годы она ощутила блаженный покой, растворяющий не только проблемы, но и желания. В городской скученности, где глаза натыкаются на стены домов, и постоянный шум слегка туманит мозги, она отвыкла от чистого, далекого горизонта, от успокаивающей глади полей и лугов, от всеобъемлющей, плотной тишины…
Вот и круча. С нее прыгали в воду кто вниз головой, а кто солдатиком… Подошла, осторожно наклонилась, взглянула на тихую водную гладь. Обмелела река, далеко ушла от прежнего берега. Легла в траву. Ветерок обдувает, кузнечики стрекочут. Хорошо-то как!..
Ее душа, затерянная в бесконечных подробностях городской жизни, здесь, в деревне, вдруг вновь обрела четкие контуры. Внутри нее что-то зашевелилось свежей, забытой уже радостью любви к природе. Почему-то вспомнился легкий, еле различимый гул живого ствола дерева. До дрожи в ногах захотелось вновь прижаться к нему, испить счастья… вызвать в себе яркое восхищение, странную, неземную, радостную тревогу…
Шла к кладбищу медленно, горько вспоминая все связанное с прошлым хождением по этой дороге… Сонные собаки, как и прежде, валяются в пыли. Рядом спокойно пасутся телята, прядая ушами, отгоняя насекомых. Вот еще сливающийся вдали обветшалый забор старой части кладбища, тонущий в бурьяне, вот уже четко выделяющийся на фоне чистого неба темный крест на входе в святилище. Здесь тихо и торжественно По самому краю кладбища осевшие могилки-холмики с обветшалыми, покосившимися крестами – недолговременными, молчаливыми хранителями усопших. Они уже не приглашают… в свои когда-то распростертые деревянные объятья. А вон там могилы вовсе без крестов. Они овеяны особой скорбью и печалью. Наверное, такие имеются на любом деревенском кладбище. Около них думается о вечном и преходящем. А вот эти надгробья – «зафиксированная в камне память»… Они не просто память, это то, что укрепляет нас по жизни.
Трепет охватил ее, когда она унеслась мыслями в детство, в свои прошлые ощущения, которые долго дремали где-то в глубине ее души. Они нахлынули внезапно у могил матери, бабушки и любимого деда, переполнили грустной и нежной тоской осознания потерь. Она будто в кругу родных, еще живых…
Сколько всяких теплых, добрых мелочей сразу вспомнилось ей!.. У их могил она почувствовала не только первозданную тишину, чистоту деревенского воздуха и красоту дикой природы – в этой картине запустения старой части кладбища было ощущение застывшего времени. Словно за этим осевшим, сглаженным, заросшим бурьяном рвом притаилась само время, сама смерть… Столько здесь было покоя и печали! В тишине и аромате этой вечной кладбищенской жизни она остро ощутила, как стесняет ее сердце давняя, неизбывная любовь, светлая грусть прошлого, боль настоящего и неопределенность будущего. И сердце не могло противостоять внедрению печали. Навернулись слезы…
Стоя у надгробий, она медленно пролистывала книгу памяти, силясь удержать ускользающие теплые мгновения минувшего. Не без труда она прокладывала путь к, казалось бы, затерянным в памяти грустным местам… Но в переплетении мыслей о прошлом, настоящем и будущем побеждало новое настоящее, пропитанное и пронизанное добром давно ушедших лет. Не сразу побеждало, потому что моменты воскрешения прошлого слишком сложны. Ее сознание путалось в нем, как в неуверенном забытьи, которое мы иногда испытываем, задремывая, окунаясь в несказанные видения. Слишком много труднопреодолимого наслоилось в ее прошлом: детдом, еще детдом, семья, еще одна… Не хотелось думать о грустном, но оно просачивалось…
Воспитательница. Почему именно ее вспомнила? Что расшевелило и разбудило в памяти именно этот эпизод? Звук, совпавший с тем, из далекого детства? Запах цветущей белой акации? А может, густая, насыщенная тишина? Тогда она была заполнена страхом. Терпкий сладковатый воздух или всего-навсего до боли знакомый негромкий, надоедливый зуд насекомых?.. «Она замахивается, я сильно сжимаю веки, будто это поможет онеметь всему внутри, чтобы все живое там заглохло. Мое, стиснутое между зубами ойканье, под аккомпанемент жуткого, заходящегося от злости смеха воспитательницы, сплетается со свистящими звуками ударов лозиной и с тяжелыми, с великим трудом сдерживаемыми, продолжительными вздохами ожидающих своей очереди ребятишек. Страх рвет их сердца… А потом одних бросала в темном лесу. И это уже был не просто страх. То был ужас…» Именно этот ужас был первым и самым сильным, потому что полная беззащитность для ребенка – самое страшное… Разве я могла, мама, рассказать вам про это…
Знала воспитательница, что все будет шито-крыто, пока мы – запуганные малыши… Это годам к шести мы обретали голоса и некоторое понимания себя в этом маленьком детдомовском сообществе… После очередной экзекуции, когда боль сковывала тело, думала: «Когда вырасту, неужели я тоже вот так же буду психовать и бить?.. Нет!»