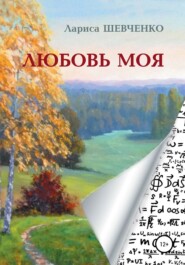По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Вкус жизни
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Это Андрей, – как можно спокойнее сказала Кира и глазами попросила Инну впустить гостя. Лена будто приросла к креслу.
…Андрей… Сердце испуганно вздрогнуло, дыхание перехватило, закружилась голова. Лена была не в силах шевельнуться. Кира приподняла ее под мышки и слегка встряхнула. И будто быстрее побежала по венам кровь, забилась в возбуждении, прихлынула к лицу. С туманом в глазах на ватных, полусогнутых ногах она с трудом сделала несколько шагов в сторону прихожей… Их руки встретились, словно ведомые неким безупречным инстинктом. У него они тоже дрожали. «Неужели и он сохранил любовь? Ей чудится? Боже, как реально!.. Он просто коснулся, а остальное дорисовали ее чувствительная память, настрадавшееся воображение? Как давно она не держала в своих руках его ладони; сильные, любимые…»
– Я всегда помнил о тебе. Лучше тебя я никого не встретил…
«Что это? Прошлое взыграло? Ностальгия по ушедшей молодости? Желание реабилитироваться в ее глазах и ослабить свою вину? Просто доброе стремление поддержать ее дух в старости? Рисуется? Какая разница? Он здесь. И это правда…»
Лицо ее пылало, все внутри вибрировало радостной дрожью… Как объяснить, как передать словами продолжительность своих чувств во времени, их силу?..
В этот момент она не оценивала его слова, не подвергала глубокому анализу. Она слушала, и для нее ничего больше не существовало… Анализ будет потом. Если будет.
Андрей отстранился, взглянул ей в глаза… и этот взгляд сказал ей больше, чем любые слова: он сожалел о том, что произошло тогда, много лет назад.
– Эта наша встреча – спустя эпоху. А ты все та же… Теперь я знаю о тебе все-все. Я не знал о нашем сыне. Груз осознания вины навалился на меня физической тяжестью, я потрясен твоей жизнью и на какой-то момент почувствовал, что умираю… Прости меня.
– Лучшего не нашла, худшего не хотела… В моей жизни все-таки было больше хорошего, потому что я любила…
Андрей… Лена… Они еще некоторое время молча стояли, обнявшись, положив голову друг другу на плечо. В этот момент они были единым целым. Оба понимали, что это – встреча с прошлым и окончательное прощание с будущим. Только теперь они по-настоящему осознали и прочувствовали, как она была необходима им обоим. Ему требовалось искупление – ее прощение, ей – эти, пусть даже не совсем правдивые, слова. Кира давно это поняла, потому-то и задумала свести их вместе. Собственно, и всю эту встречу с однокурсниками она затеяла потому, что ее не покидало непреодолимое желание хотя бы на короткое время соединить прошлые пары тех далеких шестидесятых. Чтобы вспомнили юность и многое наконец-то для себя прояснили.
«Столько вокруг Лены было мужчин, но ни один из них не смог установить с ней контакт, не помог ей почувствовать вкус жизни, как это сделал Андрей. Вот и пойми, за что один человек преданно любит другого?.. Почему Андрей, а не, допустим, Антон, как более достойный?.. Или Игорь… Сумели бы они сохранить свои чувства в такой чистоте и неизбывности, если бы не расстались? Сомневаюсь, – подумала Кира. – Семья – слишком тяжелая ноша. Не всякой любви она по плечу… Лена и Антон… Ничья страсть не заставила их раздвоиться… Они однолюбы, только любят не тех, недостойных их чувств… Виртуально любить несложно, а вот под гнетом быта… Не зря в церкви во время венчания на головы жениха и невесты надевают венцы, венцы мученичества. Чтобы осознавали ответственность… Семья – функция двух неизвестных, и если одно из них мнимое… то о чем дальнейшем можно рассуждать? Одной только ее любовью семью не сохранить… Им после его измены воскреснуть друг для друга было уже невозможно… Всю жизнь Лена вела борьбу за непорочность. Не хотела, чтобы чужие руки и губы пятнали ее любовь к Андрею, чтобы никто не осквернил то единственно прекрасное, что было в ее жизни».
Лена обессилено опустилась на пуфик, стоявший в прихожей у зеркала. В памяти замелькали ускоренные кадры их студенческой жизни, их любви. Взгляд ее обратился к тому… их последнему дню. А в ушах звучало: «Мама, милая мамочка! Я тебя люблю».
Лицо Инны неожиданно исказилось какой-то жестокой внутренней мукой, вмиг осунулось и сделалось каким-то дряблым, серым. Она почувствовала очередной перехлест тоски и несвоевременную досадную слабость, сразу ссутулилась и как-то растеклась и уже с гаснущим вниманием следила за Леной и разговорами подруг глазами в черных полукружьях тяжелых век. Это было одно из многочисленных ощущений, которые предваряют неприятные события еще до того, как они случаются. Действие самого сильного лекарства заканчивалось. Кому, как не ей, лучше всех знать его сроки. Дальше никакое мужество не поможет. Срочно требуется укол. «Хотелось хотя бы еще часок пообщаться…» Инна тихо и медленно вышла из-за стола. Ее качнуло. Чтобы не потерять равновесия, она ухватилась за спинку стула. Переждала сильное головокружение и незаметно исчезла. Как растворилась…
Мамочка
Женщины за столом весело переговариваются, иногда возникают бурные всплески эмоций, захлестывающие всю компанию. Разговоры разгораются с новой силой. Лена и Андрей сидят рядом. Но она в прошлом. Она вновь перемалывает много тысяч раз пережитое, передуманное… Годы жизни шуршат в голове, как страницы быстро перелистываемого дневника, которого она никогда не имела возможности вести. Слой за слоем снимает, пласт за пластом… Раскапывает и отбрасывает мхи печали, вязкую глину недоверия, горькие окаменелости бездушия и горечи, встреченные ею на жизненном пути. Она ищет минуты счастья. Любовь к Андрею. Четыре года, как счастливый миг. Сынок родился… встал на ножки… Научился плавать… Обнял ее, сказал «мамочка». Эти мгновения счастья – вехи ее жизни.
…Сыночку пять лет. Заболел. Лежа в постели, старательно вычерчивает график своей температуры. Откуда у него понятие координатных осей и масштаба? Наверное, понял их назначение, когда тихонько играл на ее лекциях где-то в самом дальнем углу аудитории… Шесть лет. С удовольствием собирает по методическим описаниям лабораторные установки и демонстрирует их на самоподготовке студентам. Придирчиво следит за правильностью выполнения ими экспериментов. Он так играет. И ведь без ошибок, чего не скажешь о торопливых студентах…
Она снова углубляется в свою душу, чтобы найти там светлую радость, а находит глубоко запрятанную боль, которая от воспоминаний стократно усиливается, распирая ее измученное сердце. Она будто смотрит на себя со стороны.
…С того страшного события прошло много дней, но ей до сих пор иногда мнится, будто то, что случилось с ее сыном, было с кем-то другим и в другой жизни, а ее Антоша сейчас переступит порог и улыбнется… И боль, причинявшая ей столько мук, тоже чья-то… Происшедшее ускользает от ее понимания, оставаясь на уровне чувств и ощущений… Но несчастье реально существует и безжалостно сверлит и раздирает ей мозг… Каждый следующий день истощает натянутые нервы. А тут еще эта зима с ее все растущей день ото дня безнадежностью и унынием…
Она терзается, сжимая виски в бессильном отчаянии. «Я не нужна самой себе. Пустоту в сердце ничем не заполнить. Работа не заменит сына. Жить незачем»… Жизнь словно сжалась и переместилась ТУДА со всеми помыслами… Эта страшная бесконечная память, эта невыносимость чувств… Она убивает…
«Вырастила, ночь за ночью сидя у его кроватки, мечтая. Вылепила характер. Жила все эти годы, воодушевленная любовью и чувством прекрасно исполняемого долга. Цель вовсе не сводилась к тому, чтобы он добивался всего того, о чем сама мечтала, но оказалась не в состоянии достичь. Просто хотела видеть его здоровым и счастливым. Но судьба пишет свои сценарии. Жизнь была соткана из забот и тревог о сыне. А что теперь? Безумная, запредельная, зашкаливающая тоска, разрушительное состояние ненужности, неприкаянности. «Лучше бы я погибла… Как с этим жить?..» Из ее приоткрытых губ едва пробился долгий тягучий вековечный стон, такой слабый, точно вылетал он не из нее, а из сердца женщины… тех незапамятных времен, из дальних далей…
Оказавшись одна в четырех стенах, она почувствовала, до какой степени несчастна, загнана, измучена. Она, наверное, впервые осознала ничтожно узкие пределы своих физических возможностей и непосильность ноши морального давления вины. Страшная неизвестность отступила, но пришла жуткая, безнадежная определенность. Хотелось выть. Неосознанно вызревал самый жестокий период ее жизни – без сына.
Мучило мрачное сознание своей вины. Вины как открытой незаживающей раны. Поощряла занятия спортом, увлекла, подставила под удар. А теперь горе пустило под откос привычное течение жизни… Если бы можно было предвидеть, чем обернется та поездка в горы!.. Изводила непреодолимая жажда говорить себе правду, проклинать себя, свое хобби, явившееся причиной жуткой трагедии. Ей хотелось надеяться, что боль, которую она испытывала при покаянии, хотя бы отчасти искупала ее вину перед сыном. Но все оправдания, которые находил мозг, были фальшивыми, неубедительными. Оставалось задумываться до ужаса, до шизофрении, обмирать, вздрагивать в тяжелой тишине…
Беспрерывно разъедающая душу тоска не уходила из сердца, пульсировала в мозгу. Она, складываясь с виной и одиночеством, удваивалась, утраивалась… Невыносимо мучительная переполненность сердца, ужасающе губительный холод страшных мыслей терзал ее, разливаясь по телу тяжелой вязкой слабостью, заполнял ее мозг, узурпировал власть над воображением. Разбуженный страхом инстинкт самосохранения мог бы подсказать, как быть. Что делать? Но он молчал. Это безмолвие страшнее крика… Душа стала выжженной горем пустыней. Обуглилась. В ней умерло главное, и она утратила желание жить…
Оглушенная болью, она стремительно падала в пропасть безмолвия. Окружающий ее мир потускнел и стал чуждым, враждебным. Все путалось в ее представлениях, вращалось в какой-то непонятной смутной тревоге, вводившей ее с состояние странной настороженности… Погруженная в пучину страданий, она жила, как в дурном сне. Вернее, на границе сна и яви. Она больше не впадала в обычную спасительную после перенапряжения сил ко?му – крепкий сон. Ни день, ни ночь – все серо, все едино… уткнуться бы в подушку, провалиться бы в темноту сна… Но и во сне она металась во власти кошмаров.
Она потеряла всякую ориентацию в пространстве и во времени. Дух горести и печали касался всех сфер ее деятельности. Печаль буквально пронизывала всю жизнь, превращая ее в тень. Ей уже казалось безумием надеяться на что-то, что могло бы изменить ее жизнь к лучшему. Мир добра и счастья остался где-то вовне. Она заточила себя в своей боли и не могла вырваться из ее тисков. Рана сердца ныла без выхода к разуму. И главной причиной тому была боязнь вернуться в привычный мир и обнаружить, что там больше нет сына. Какая-то непонятная тупая боль в голове размывала мысли, делала ко всему индифферентной, не давала сосредоточиться на чем-либо одном. Она не могла думать о том, о чем хотела. Она не распоряжалась своими мыслями. Они шли сами по себе, как им хотелось, и сколько она ни старалась, предпочитали задерживаться на том, что ее мучило.
Она физически ощущала одиночество, которое будто выползало отовсюду из всех углов и окутывало ее странными, неясными предвечерними образами, чутко подстерегающими тенями, принося неосознаваемую тревогу. «Такое одиночество – предвестник безумия?» – мелькала одинокая, будто случайная мысль и тут же пропадала. Другие привязывались: «Иногда в добром безумии человек бывает счастливым. Не надо излечивать его от такого счастья». «Внутри каждого из нас существует программа. Мы ее не знаем, но постепенно открываем для себя. Неужели произошел сбой?.. А может, и правда, достигнув крайнего предела, боль, чтобы окончательно не лишить рассудка, на время погружает меня в спасительное небытие». «Вернусь ли я из переживаний, поглотивших меня? А зачем?» – вяло думала она, вслушиваясь в себя.
Почему-то вспомнились слова деда, утешавшего соседку: «Видишь, Христос на кресте. Гляди и утешайся тем, что в страданиях, которые не избежать, не обойти, тебе легче, чем было ему… Измаялась ты душой. В ней тупая, холодом пронизанная пустота, подавленность. Мысли кружат вокруг одного. Нельзя всю жизнь пестовать в себе эту боль. Самоистязание – грех… Тебе бы обратиться к Нему сердцем, чтобы избавиться от свербящей неотвратимости неотступных, назойливых мыслей, выплакаться, испытать облегчение». И вроде неверующий был дед, но верил… А у нее не получается…
По вечерам она отрешенно и бесцельно бродила из комнаты в комнату, не в состоянии чем-либо заняться, и только погружалась в мрачные внутренние диалоги. В тревожном унынии, навалившись грудью на подоконник, долго простаивала у окна, бездумно скользя глазами по заляпанным грязью машинам, глядя поверх окон постоянно галдящей забегаловки, по сути дела распивочной, что ютилась напротив. Это заведение открывало свои двери для посетителей, круг которых определялся чем-то, что не вписывалось в ее понимание человеческой нормальности. И сизыми спиралями колыхался над ней сигаретный дым. Полночь, за полночь, а сна нет…
И вдруг она неожиданно пристально вглядывалась в зыбкий сумрак ночи и переживала в своем воображении все, что сказала бы сейчас сыночку, если бы он вдруг… Она ждала его, а его не было… и она ловила себя на странном чувстве смещенной реальности. Возникало отвратительное ощущение чего-то постороннего, вторгшегося в мозг, будто инородный непроницаемый интеллект плотно сцепился с ее сознанием, а ее собственный мозг оставался безучастным даже к смутной, властной работе подсознания. Он не контролировал его… Потом она приходила в себя, возвращалось чувство вины, отчаяние и ненавистная жалость к самой себе. И она вынуждена была признавать свое бессилие. Глаза снова суровели.
Она пыталась требовать от себя мыслей, додуманных до конца, но слова в них будто соединялись многоточием. И тогда слепой черный страх одолевал ее, лицо искажалось гримасой страдания, и взгляд застывал в неподвижности. Смятение духа, ее постигшее, было столь велико, что она могла часами глядеть перед собой, ничего не видя, непонятно о чем думая, пока тяжелая напряженная дремота не сжимала ей веки, и она больше не принадлежала себе.
Раньше во сне всегда происходило мгновенное, безболезненное изменение ее состояния к лучшему, но картинки ярких детских снов давно отцвели и крепкие сны молодости теперь ушли в прошлое. Во сне уже не разрешались недоумения и проблемы, постоянно занимавшие ее. Теперь одни жуткие запутанные кошмары заполняли ее ночной отдых. Именно ночь обнажала всю степень ее горя, тяжким бременем виснувшего на плечах и давившего петлей одиночества. Именно бездеятельная ночь особенно сильно выстуживала кровь тоской и безысходностью. Ночью в одиночестве все впечатления обострялись и усиливались. Говорят, во сне ярче радость, сильнее страх. Почему?.. Да и утром обрывки нереальных снов еще таились в подсознании, продолжая терзать измученную обессиленную душу.
Со страхом она ожидала наступления следующей бесконечной ночи, когда перед ней чудовищной черной глыбой вырастала и разрасталась смертельная тоска. Думать не получалось, пыталась просто вспоминать. В полубезумии, в нервной усталости она тщетно шарила в закоулках памяти, чем бы взбодриться или успокоиться. Она не могла остановиться ни на одном факте, чтобы он тотчас не связывался в целую вереницу страшных воспоминаний – везде был только сынок, только беда и одна тупая мысль: «Как дожить до утра?»
Она стала бояться воспоминаний. Страхи, может быть, и не возникали бы, если бы в каждом сюжете, что воскресал в ее памяти, не гнездились скорбь, боль, страдание. Ох уж эта причудливая, злая, выборочная память горя. Она как черное жерло печи, пожирающее все светлое, что накопила жизнь… Ей хотелось, как в детстве, натянуть на голову глухое одеяло, отгородиться от жестокого мира, сделать вид, что его не существует… чтобы не наступал момент, когда уже не страшит возможность не удержаться на скользком краю бездны иррационального… когда уже… И она с маниакальным упорством вспоминала каждую малость, каждую подробность Того дня. Он заслонял ей всё. И эти мысли, без конца повторявшие один и тот же сюжет, прогоняли сон… И случился надлом, нервный срыв – как хочешь обзови. Это когда на улице спотыкаешься о тени, как о реальные предметы, а в доме в ужасе шарахаешься от своего изображения в зеркале, как от чужого человека, неизвестно каким образом забравшегося в квартиру… «Это потеря рассудка? Уйти из жизни, покончить с сумасшествием?» Но даже затуманенный болью разум восставал против этой мысли.
Иногда мир ее воспоминаний прояснялся. Она вновь контрастно постигала свое несчастье, искала виноватых, но никого не находила, кроме себя и природы, жестоко убившей ее мальчика… Опять она ухнула в свое прошлое. «Горькое разочарование забросило ее в этот заснеженный край… Не то… Почему сынок? За что? За лавинами не гонялся, тесты на прочность себе не устраивал, знал, когда проявлять отвагу, когда попридержать эмоции, рано научился соизмерять свою силу и слабость…»
Это она его учила, что осторожность следует соблюдать всегда, даже когда есть уверенность в собственных силах, потому что существуют непредвиденные, непросчитываемые ситуации, возникающие в тот момент, когда их не ждешь, не чувствуешь. Горы не прощают промахов. Ничто не проходит безнаказанно. И он жил в ладу с окружающей его действительностью и всегда помнил, что доблесть не исключает осторожности. У него всегда срабатывал внутренний интуитивный защитный механизм. И по жизни он не блуждал окольными путями, прямо шел к намеченной цели. Но ему претила даже видимость послаблений. Ему хотелось поскорее пойти во взрослый поход, чтобы развеять ребяческие иллюзии.
«Где просчиталась, почему не сумела подстраховать сына? Это фатальная или тактическая ошибка? За что судьба так жестоко обошлась с ее ребенком? Это торжество несправедливости?» Ей не хотелось верить в то, что Провидение уготовило ему, такому безгрешному, столь ранний и столь ужасный конец. «Вот опять она, эта тонкая грань между счастьем и трагедией… Сначала Андрей остался на рубеже ее прежней жизни. Он – высокая любовь и страдание ее жизни. Уехав от него, она так и не разубедила себя в том, что была неправа… Теперь Антоша – ее единственное полное счастье – покинул ее навсегда, оставив вечную тоску и пустоту сердца»… Без сына ее жизнь потеряла свой главный смысл.
Говорят, «каждое поколение приносит в жертву лучших. Самые талантливые и беспокойные всегда идут первыми, оставляя мир уже не таким, каким он был. Более совершенным». Мы все воспитаны в преданности делу, идее, но не всем дано осветить правильную дорогу в будущее… Красиво говорят, не задумываясь…
Как-то сразу все в ее жизни разладилось. Стократно замедленный ритм изматывал. Каждый день казался перегруженным деталями. Нападала удесятеренная усталость. Все стало нечеловечески, чудовищно неприятно. Мысли рвались и метались, словно подхваченные вихрем. Прошлое причудливо переплеталось с настоящим, живые логические нити соединяли несоединимое. Она силилась овладеть собой, старалась привести мысли в порядок но, обессилев, послушно повиновалась течению подсознания, и вновь ее утомленный взгляд бродил, ни на чем не останавливаясь. Ей раз за разом казалось, что хоть жила она трудно, но удивительно четко, ясно, твердо стояла на ногах, а теперь… Теперь она жила на автопилоте без мыслей, без надежд. Вокруг что-то происходило, что-то менялось, но она не вникала, что именно, и потому оставалась бесстрастна, тупо безразлична.
Пойманная в паутину серых, не различающихся дней, она сникала. И скорбь все глубже пускала свои корни в ее измученное сердце. «Ведь, в конечном счете, люди живут прежде всего ради своих близких, кровью с ними связанных… разве можно подготовить себя к вечной разлуке с теми, кого любишь? Значит, правильно говорят, что в каждом большом счастье заложено маленькое зерно несчастья, и оно прорастает, чтобы счастье не длилось вечно». За что мне столько бед?
В ней исчезло чувство устойчивого равновесия, которое делало жизнь возможной, давало уверенность. Появилась ежеминутная боязнь растеряться, столкнувшись с чем-то непредвиденным. И сразу же, будто того только и ждали, нахлынули, закружили сомнения, неясные предчувствия, и все это с какими-то клочками разорванного сознания. Ей казалось, что отныне и навсегда в ее жизни поселился тупой зловещий страх. Она сама теперь как сгусток страха, она – окаменевшее чувство вины и более ничего. «Я седая и стылая, как пепел, осталось лишь развеять…» – думала она горько.
И время теперь для нее текло по-другому. И дом стал негостеприимный, неприютный, нестерпимо холодный. В нем было тоскливо жутко. Сжимали стены, падал потолок… Былой задор угас, будто не было его и в помине. Из общительной и энергичной она превратилась в непроницаемую, внешне совсем безразличную, с холодным сердцем, осиротевшим без сына. Без радостной боли в груди она не чувствовала себя живой. Добрый мир перестал для нее существовать. Его уничтожило несчастье. Таким вот оказалось пагубное влияние горя.
Она отвернулась от друзей, не открывалась подругам, раскручивала колесо непонимания и даже обид. Лицо ее потемнело, губы плотно сжались. Как будто кто-то посягал на некие ее тайные сокровища, а она хранила их и отстаивала даже ценой собственной жизни. «Да. Нет. Мои проблемы никого не касаются» – вот и все разговоры на работе. Она боялась постороннего вмешательства в свою боль, боялась усиления постоянно подступающего отчаяния. На людях она тоже чувствовала свою отверженность. Ей было плохо в толпе. Ей будто воочию виделось их болезненное, гаденькое любопытство к чужому неблагополучию, страданиям. Она отмахивалась от него, а оно иголками вонзалось в мозг… Лекции читала на автомате. И даже в НИИ подолгу ходила неприкаянной, стараясь настроиться на тему…
Она ощущала необъяснимое, но очень сильное искушение сгинуть, провалиться сквозь землю. Ее изводила вынужденность публичной демонстрации скорби. Хотелось забиться в угол, спрятаться, чтобы отстали. В такие часы в ней закипала злость против самой возможности вторжения в ее мир, такой ранее любимый, невыдуманный. Она чувствовала себя одинокой и желала быть одинокой. Ведь больная душа жаждет укрытия. И она стояла на страже своего одиночества, того понятия свободы от всех, которое возникло у нее с гибелью сына.
Коллеги терялись перед положением, в котором она оказалась. Глаза отводили, относили ее состояние на счет болезни, жалели по-настоящему, искренно. Говорили, что от несчастий никто не застрахован… «Но оно-то досталось мне!» И она своим молчанием с какой-то злой и вместе с тем вызывающей черной гордостью выставляла свою беду на всеобщее обозрение. А иногда с тупым равнодушием или резким грубым раздражением, досадливым жестом отстраняла, кинувшихся было навстречу ей подруг, не желая бросаться с головой в волны их сочувствия. «Что могут понять эти, счастливые? Я никого не уполномочивала…»
Простодушно-счастливая улыбка, с которой она раньше говорила о сыне, пропала. Она даже в мыслях не могла вернуться к прежним радостям, их больше не существовало. Горе изменило ее облик. Она как-то сразу сникла, постарела, в углах губ появились жесткие, горькие складки. Замкнулась, уединилась. На работе свои обязанности выполняла автоматически и как-то суетно. Ей казалось, что именно благодаря этой торопливости успокаивается ее душа и находит себе занятие ум, чтобы не слишком размышлять над тем, что действительно печалит, беспокоит и обессиливает. По крайней мере, ей так хотелось думать.
Раздавленная жестокостью и несправедливостью судьбы, она перестала быть сильной. Ее охватило гнетущее чувство полной беспомощности. Пришло осознание совершеннейшего отупения, болезненной, ноющей пустоты в голове, серой унылости жизни. Глодавший ее страх, беспричинное беспокойство и горькая беспросветная тоска мешали вернуться к действительности. Она все больше теряла чувство реальности, жизнь протекала, как в тумане. Ей казалось, будто все, что с ней происходит, ей снится. Ощущение сюрреалистичности бытия не покидало ее.
Мысли о смерти все чаще посещали ее в самые неподходящие моменты, но чаще – между сном и явью, когда самые простые и привычные вещи искажаются до безобразия болезненным воображением. Длинная череда видений являлась не только в отведенные для сна ночные часы, демоны страха проникали через узорчатый занавес реальности и днем. Сумеет ли она войти в прежний ритм жизни или это конец?
Теперь уже к вечеру от однотонных мыслей голова раскалялась, каждый звук приносил страдание, наружный шум разрывал ей мозг. «Зачем рыться в одном и том же? Как обновить свои мысли? Внутри неразбериха, смута, обреченность. Сотрясаемая смертной мукой душа то стонет, то рыдает. Как я устала, скорей бы конец… Дед утверждал, что тот, кто преодолел отчаяние, живет не только в мире, но и в вечности. Слова, слова…»
Ночами напролет, оставаясь наедине со своими горькими мыслями, она вновь и вновь, воскрешая прошлое, предавалась самокопанию (как это свойственно нам, русским!) и отчаянию: «Сама разрешила. Сынок считал, что ему, юниору, оказана большая честь идти со взрослыми. И я не могла не признать, что он самый достойный из группы претендентов… А теперь все мечты лопнули, как мыльный пузырь, небо пропало, солнце закатилось навсегда». Она вновь представляла, что здесь ее нет, она вся там, где ее сын. Она отказывалась понимать, что всё еще живет…
Говорят, люди не в состоянии полюбить мертвых. Они любят память о живых и, скорбя об утрате любимых, страдают чистым страданием, забывая обиды, пустые сожаления, уколы унизительной ревности, предаются незамутненной боли… Слезы – женская вотчина скорби… Но не было слез, которые облегчили бы душу. Несчастье ударило в сердце страшной пугающей горечью, слишком глубокой для слез. И словно захлопнулась за ее спиной резко и гулко дверь, за которой Надежда. И что ей осталось: укоры, леденящая душу тоска? И все это к Богу? Ему выплескивать ад души?..