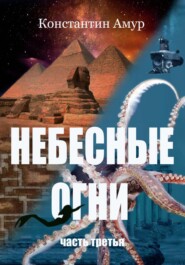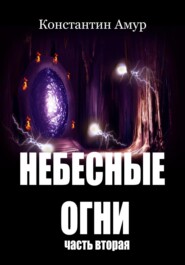По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Континент. От Патагонии до Амазонии
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конечно, не возбранялись и путешествия по югу Аргентины, в перерывах между трудами праведными, при наличии свободных денежных средств, или трудоустройство у немцев, во множестве живших в тех краях, но начинать с чего-то осязаемого надо было. Этим чем-то на ближайший год должна была стать усадьба Комарова Виталия Георгиевича, беспартийного, еще крепкого господина годков за семьдесят, живущего бобылем в уединении с двумя взрослыми детьми, и крестьянствующего по мере сил на бескрайних просторах Патагонии.
Такова была вкратце моя диспозиция.
Между тем машина, меня везущая, уже въехала в Бельграно. За окном проплывали чистенькие улицы и овощные лавки, ухоженные дома, многочисленные кафе и бистро на открытом воздухе, с неторопливо беседующей за чашкой кофе публикой. Рай-он по роскоши ничем не отличался от соответствующего района где-нибудь в Мюнхене.
Водитель помог мне выгрузить багаж на улице Эчеверрия у дома из темного кирпича в английском стиле, с отдельной калиткой и дверью на каждого владельца.
* * *
На мой звонок в домофон дверь мне открыли дистанционно, и я поднялся с вещами сразу на третий этаж в просторную гостиную, если не сказать залу, где меня уже ждали.
Владимир Дмитриевич и Светлана Ивановна Беликовы были известными людьми не только среди русской общины Буэнос-Айреса.
Высокий, немного располневший, с длинной окладистой бородой, и худенькая, стройная, с приятными чертами лица, они составляли довольно импозантную пару.
Тепло поздоровавшись, меня отвели в приготовленную комнату через всю квартиру, занимавшую как минимум половину этажа этого немаленького дома.
Разместившись, позвали чаевничать на скромно обставленную кухню, имевшую выход на крышу соседнего здания, где Беликовы устроили настоящий сад и столярную мастерскую для Владимира Дмитриевича.
Помолившись на икону, чинно расселись на лавках вокруг стола.
Беликовы были людьми, воспитанными в старых, русских традициях. Еще детьми их привезли в Новый Свет[11 - Но?вый Свет – название Америки, данное ей европейскими первооткрывателями в конце XV века, про-тивопоставляет Америку Старому Свету – Европе, Азии и Африке. (прим. авт.)] родители, беженцы Второй мировой войны. Монархических взглядов, на дух не переносили коммунизм, являясь радетелями русской культуры, превратив свою гостиную в нечто среднее между библиотекой и музеем русских народных струнных инструментов, деревянной посуды в стиле хохломы и прочих поделок.
Как-то незаметно разговор за столом перешел на политику.
– Константин, а как вы относитесь к монархии? – неожиданно спросила меня Светлана Ивановна.
Я ответил, что никак не отношусь, мол, знаю, что есть еще такое политическое течение в некоторых европейских странах, но как дань традиции, не более.
– Вам надо побольше читать. Здесь полное собрание Солоневича «Народная монархия» и еще пару книг других авторов, чтобы освежить память, – Светлана Ивановна, придерживая стопку книг подбородком, быстро принесла их из другой комнаты.
Я был несколько ошарашен таким напором и вежливо поблагодарил хозяев за предложенные к чтению книг.
На следующий день договорились с хозяйкой дома идти на службу в одну из русских церквей Буэнос-Айреса, расположенную на улице Ну?ньес.
Страшно хотелось спать, а ночью, как упырю, не спалось. Сказывалась разница на семь часов во времени. Хозяева, видя мое состояние, отправили меня покемарить.
* * *
Отстояв на следующее утро службу в русской церкви, я подошел к батюшке. Представившись, попросил благословения.
– Пост закончился. Отведайте местного аса?до, вина, – явно иронизируя, сказал отец Владимир, в миру Владимир Скалон[12 - Владимир Николаевич Скалон (1923 – 2010, Буэнос-Айрес) – митрофорный протоиерей Русской православной церкви заграницей, ключарь Воскресенского кафедрального собора в Буэнос-Айресе. С 1984 года – заместитель председателя епархиального совета Буэнос-Айресской и Аргентинско-Пара-гвайской епархии Русской Зарубежной Церкви, заместитель настоятеля Воскресенского собора. В конце 1980-х годов, ввиду продолжительного отсутствия правящего архиерея, был администратором Буэнос-Айресской епархии, а также фактически исполнял обязанности настоятеля собора. В 1993 году исполнял обязанности руководителя Русской Духовной Миссии в Иерусалиме Зарубежной Церкви. Скончался 22 мая 2010 года в Буэнос-Айресе, являясь старейшим по возрасту клириком РПЦЗ в Южной Америке. (прим. авт.)], потомок старинного дворянского рода.
На службе было совсем немного прихожан, все русские, все друг друга знали.
После посещения церкви на Нуньес Светлана Ивановна сопроводила меня к известному популяризатору йоги Индре Дэви в ее фонд, представлявший собой здание в несколько этажей. Оно находилось в благополучном районе Буэнос-Айреса, где преимущественно проживал средний класс аргентинской столицы.
В вестибюле фонда за стойкой, заваленной буклетами и брошюрами, нас встретил вежливый малый.
Индра Дэви, в миру Евгения Васильевна Петерсон, родилась в 1899 году в Риге на территории Российской империи в русской семье со шведскими корнями. С детства имела тягу к театру, как и ее мать, известная актриса оперетты. Пойдя по ее стопам, Евгения получила соответствующее образование и стала выступать в Санкт-Петербурге на сцене.
Эмигрировав в Германию в 20-х годах, продолжила театральную карьеру в труппе Дягилевского Русского театра, с которым побывала во многих странах.
Проявив интерес к тогда еще малоизвестной йоге, переселилась в Индию. Там она, зарабатывая на жизнь киносъемками в фильмах, училась древней системе самосовершенствования у известного йогина и философа Шри Тирумалая Кришнамачарьи. Получила духовное имя Индра Дэви, была знакома с известными индийскими общественными и политическими деятелями, такими как Джавахарлал Неру, Махатма Ганди и Рабиндранат Тагор. Спустя более десяти лет познания в конце 30-х годов перебралась вместе с мужем-дипломатом в Китай, где открыла студию йоги в Шанхае, заручившись поддержкой жены генерала Чан Кайши.
После окончания Второй мировой войны Индра Дэви вернулась в Индию, став известной на Западе как первый европеец, обучающий йоге в Индии. В 1947 году переехала в США, начав обучать йоге кинозвезд Голливуда. С известностью пришли и деньги.
В конце концов, с 1985 года Индра Дэви обосновалась в Аргентине, открыв спустя три года фонд по популяризации йоге и подготовке инструкторов для работы по всему миру в Буэнос-Айресе.
Молодой человек из вестибюля провел нас на второй этаж здания, где в большой комнате на медитационной подушке сидела маленькая старушка с седыми волосами, аккуратно собранными на затылке в кичку, одетая в золотистые сари, блузу и нижнюю юбку, и разговаривавшая с молодыми людьми, пребывавшими также на подушках.
Светлана Ивановна поздоровалась с Индрой Дэви и окружающими, представила меня.
Разговор шел по-испански, Беликова мне переводила.
В свои 97 лет Евгения Васильевна Петерсон обладала живым и цепким умом, свободно владела несколькими языками, включая русский. Пользовалась заслуженным уважением и авторитетом среди знавших ее людей.
Я ее еще встречал пару раз у Беликовых, когда те устраивали приемы для старых русских, где Индра Дэви даже танцевала в ее возрасте, позванивая золотыми колокольчиками своих сандалий.
Расспросив Светлану Ивановну, как ориентироваться на улицах, чтобы не заплутать, я решил побродить по Бельграно и раскланялся с ней.
Через какое-то время я вышел на широкую авениду, проспект по-нашему, и медленно пошел по тротуару, вглядываясь в лица идущих навстречу людей.
Мне показалось, что я вижу полное смешение рас и наций. Встречались в большом количестве белые – от типов северных до южных европейцев, были и креолы[13 - Креолы – потомки европейских (испанских, португальских, реже французских) переселенцев на территориях колоний в Южной Америке. (прим. авт.)], мулаты, явные индейцы в национальной одежде, негров практически не было. Я знал, что в этом мегаполисе проживает половина населения страны плюс много приезжих из соседних государств, то есть обретается более семнадцати миллионов душ.
Обратил внимание и на зеленые насаждения. Сразу опознал платаны за их своеобразную пленочную кору, мандарины, невзрачные кусты гранатов, остальное видел впервые. Очень понравилась хакандара?, дерево родом с Индии, все усыпанное нежно-синими цветами, напоминающими большие колокольчики. Кустарники и цветы не смог определить – все было внове.
* * *
День спустя Владимир Дмитриевич повел меня в редакцию газеты «Наша страна» к ее бессменному руководителю господину Кирееву. Газета выходила на очень тонкой бумаге на четырех-восьми полосах, в зависимости от тиража, и была посвящена политике и русским, в России и латиноамериканских странах.
Газета переживала не лучшие времена – проблемы с финансированием, и как следствие – падение тиражей. Раньше, во времена «холодной войны», противостояния советской системы и капитализма, в Аргентине и соседних странах проживала много-тысячная русская община и «Наша страна» была весьма популярным изданием среди русских.
Ситуация изменилась – старшее поколение уходило в мир иной, многие из детей русских эмигрантов не отождествляли себя с родиной предков и не интересовались событиями в России.
После редакции поехал на метро на старое русское кладбище, расположенное об стенку со знаменитой Чакаритой – главным кладбищем Аргентины, да нет, настоящим городом мертвых. Там есть улицы, переулки, дорожные указатели, и фамильные, уходящие вниз многоэтажные склепы вместо домов. Есть и настоящие произведения архитектуры. Для тех, кому склеп не по карману, есть многоэтажная стена с ячейками хранилищ, вроде шкафов для сумок перед входом в супермаркет. Можно абонировать для вазы с пеплом близкого.
Зайдя за Чакариту, я очутился на Сементерио Британико – британском кладбище, где похоронены первые русские эмигранты времен гражданской войны в России. Пройдя по отлично ухоженным дорожкам под большими королевскими пальмами, я склонил голову и опрокинул чарку в поминании лежащих здесь штабс-капитанов и есаулов, купцов первой гильдии и фабрикантов, флотских экипажей, чьими старания-ми строилась Российская империя и коим пришлось умереть тут, на чужбине.
Уже возвращаясь обратно, обратил внимание на открытую со всех сторон харчевню под навесом, расположенную в центре площади, перед входом на Чакариту. Меня привлек невероятно ароматный дым, клубами валивший из этого заведения. Зайдя, уселся за стойку, тянувшуюся вдоль всего длинного прилавка. По другую сторону, у жаровен над углями, ловко орудовало несколько поваров, управляясь с мясом.
Чего тут только не было.
Говяжье мясо на ребрышках, нарезанное поперек на манер длинных полос – аса?до де ти?ро или просто асадо, было главным блюдом. Ни до, ни после Аргентины я не пробовал такого качества говядины из быков, выращенных на круглогодичных пастбищах на всем натуральном.
В ассортименте были также различные жареные колбаски. Ну, и разумеется красное вино в розлив. И все это за очень небольшие по местным меркам деньги – долларов пять. К Беликовым я вернулся сильно пьяненьким и умиротворенным, и, стараясь не гневить судьбу, незаметно скользнув в свою комнату, уже через минуту провалился в безмятежный сон.
* * *