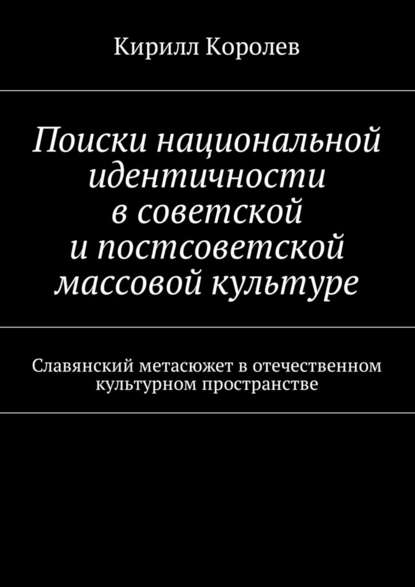По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Не раскольничьим древам Китеж-горы,
Расплющив об угол застольную чашу,
Ответил Петр – в топоры!..
Нынче песня вспотела кровью и потом,
Нестерпимым, как плахи помост,
Не вчера ли к Петровым заплечным работам
Через нас перебросили мост?
Что касается художественной прозы, то с 1920-х по середину 1930-х годов все литературные произведения, в которых присутствует славянский метасюжет в различных вариациях, – это произведения эмигрантской литературы: «Пугачев-победитель» (1924) М. К. Первухина, «Царь Берендей» С. Р. Минцлова (1923), «Глаголят стяги…» (1929) И. Ф. Наживина, «На берегах Ярыни» (1930) и «Славянские боги» (1936) А. А. Кондратьева были написаны и опубликованы за рубежом[185 - О фантастической и исторической прозе 1920-х – 1930-х гг. см.: Николаев Д. Д. Русская проза 1920-1930-х годов: авантюрная, фантастическая и историческая проза. М., 2006.].
Учитывая данное обстоятельство, не будет преувеличением сказать, что эти произведения не оказали ни малейшего влияния на «восстановление» славянского метасюжета в советской «прото-массовой» культуре[186 - В сферу научного познания роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни» вошел благодаря монографии В. Н. Топорова «Неомифологизм в русской литературе начала ХХ века. Роман А. А. Кондратьева „На берегах Ярыни“» (1990), а широкий читатель познакомился с творчеством Кондратьева только в 1993 г., когда издательство «Северо-Запад» опубликовало сборник избранной прозы писателя «Сны». О творчестве А. А. Кондратьева см.: Пивоварова И. А. Особенности жанра мифологического романа в творчестве А. А. Кондратьева // Известия ВГПУ. 2012. №11. С. 138—141; Воронина Т. Н. Эволюция творчества А. А. Кондратьева от «Сатирессы» до романа «На берегах Ярыни». Диссер. канд. филол. наук. Вологда, 2012.]. Зато, безусловно, такое влияние – пусть и опосредованное – оказали идеи национал-большевизма, который довольно долго поощрялся новой властью: программный для этого движения сборник «Смена вех», впервые опубликованный в 1921 г. в Праге, был на следующий год дважды переиздан Госиздатом, в Петрограде выходил сменовеховский журнал «Новая Россия», а статьи из зарубежного журнала «Смена вех» и газеты «Накануне» регулярно перепечатывались в «Правде» и «Известиях»[187 - Подробнее об идеологии национал-большевизма и распространении его идей в Советской России см.: Малинова О. Ю. Россия и «Запад» в XX веке: Трансформации дискурса о коллективной идентичности. М.: РОССПЭН, 2009. С. 40—60; Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж: YMCA-Press, 1980; Краус Т. Советский Термидор: Духовные предпосылки сталинского переворота (1917—1928). Будапешт: Венгерский институт русистики, 1997.]. Основная идея национал-большевизма сводилась к идеологеме «Великой России», понимаемой «вне каких-либо ценностных ориентиров – либеральных, социальных или консервативных»; поэтому революция виделась сменовеховцам прежде всего великой национальной революцией, а государственный патриотизм позволял трактовать «призывы к интернационалу» как «национальные русские лозунги»[188 - Львов В. Н. Советская власть в борьбе за русскую государственность. М.: Аврора, 1922. С. 24.]. Пусть самих национал-большевиков, вернувшихся из эмиграции, ожидала трагическая участь[189 - Лидеры сменовеховцев Н. В. Устрялов, Ю. В. Ключников и А. В. Бобрищев-Пушкин были расстреляны в 1937—1938 гг., В. Н. Львов умер в колонии, арестованный по обвинению в экономической контрреволюции.], мобилизационный потенциал их идей был осознан и частично воспроизведен советской властью, в том числе и в процессе возрождения славянского метасюжета русской культуры.
Вполне вероятно, что постепенная «реабилитация» русского национализма со стороны власти была продиктована именно мобилизационными соображениями. Как указывает Ф. Шенк, ближе к середине 1930-х годов в политическом лексиконе появилось понятие «советский патриотизм», которое «в период мощных социально-экономических переломов (индустриализации и коллективизации) … было призвано усилить легитимирующую основу режима и повысить готовность страны к обороне». При этом в качестве образца предполагалось использовать российский имперский патриотизм: «В отличие от молодого Советского государства, считавшего Октябрьскую революцию и гражданскую войну… элементами своего космогонического мифа и стремившегося встраиваться разве что в русскую или европейскую традицию народных восстаний, СССР тридцатых годов признал себя историческим продолжением Российского государства „поверх“ исторического перелома 1917 г.»[190 - Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти. С. 280.]. Схожего мнения придерживается и Д. Бранденбергер, который видит побудительную причину «сталинского духовного переворота» в экономических неурядицах конца 1920-х годов, усугубленных дипломатическим кризисом 1927 г., когда Великобритания разорвала отношения с СССР, а в Польше был убит советский полпред: «…партийная верхушка принялась с большей настойчивостью искать способ дополнить туманную материалистическую пропаганду более понятными и привычными для рядовых советских граждан лозунгами[191 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 39.]». На всесоюзной конференции 1931 г. И. В. Сталин упомянул об отечестве: «У нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость[192 - Сталин И. В. О задачах хозяйственников: Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности. 4 февраля 1931 г. // Вопросы ленинизма. М., 1934. С. 445. По замечанию И. И. Сандомирской, также вошло в обиход «оксюморонное» выражение «отечество мирового пролетариата»; см.: Сандомирская И. Книга о Родине: опыт анализа дискурсивных практик. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, 2001.]»; для соблюдения идеологической корректности этому понятию было добавлено определение «социалистическое», и конструирование коллективной идентичности возобновилось – уже с опорой на руссоцентризм[193 - Ср. рассуждения советского публициста Б. М. Волина о национализме и интернационализме: «Только тот подлинный интернационалист, кто… полон национальной гордости за свой мужественный, свободолюбивый народ… создавший русский революционный пролетариат… выработавший одну из наиболее передовых культур – русскую культуру…» (Волин Б. Великий русский народ. М.: Молодая гвардия, 1938).]. «Русские национальные образы, – по замечанию Д. Бранденбергера, – были использованы в расчете на их мобилизационный потенциал, а не потому, что они награждали русских особой политической идентичностью[194 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 268.]». Отныне советская история начиналась не с революции, а рассматривалась как «преемница» тысячелетней истории России, преподавание истории в школе отделили от обществоведения, а инициатору их объединения, академику М. Н. Покровскому, в 1934 г. было посмертно строго указано на ошибки в трактовке исторических процессов (два года спустя его обвинили в антимарксистских и «ликвидаторских» взглядах на историческую науку, школа Покровского подверглась разгрому, а подготовленные этой школой учебники истории были переписаны в соответствии с «реабилитирующей» русскую историю концепцией).
Так или иначе, с середины 1930-х годов о великорусском шовинизме, которого так опасался В. И. Ленин, больше не вспоминали. Национализм, прежде всего культурный, был «восстановлен в правах», и вместе с ним в отечественную культуру возвращается славянский метасюжет.
В первую очередь это стало заметно по плакатной графике – основному инструменту агитации и пропаганды в стране, где до сих пор велась активная кампания по ликвидации неграмотности. В предыдущее десятилетие в агитационных плакатах изредка встречались образы, в которых можно было усмотреть перекличку с дореволюционными манифестациями славянского метасюжета (например, на известном плакате В. Н. Дени изображен всадник-Троцкий, поражающий копьем дракона «мировой контрреволюции»), но в 1930-х эти трансформированные образы уступили место «возрожденным» историческим и фольклорным персонажам. Ф. Шенк приводит в своей книге репродукцию киноафиши (1938) к фильму С. М. Эйзенштейна «Александр Невский» (собственно, и сам фильм демонстрировал изменение государственной патриотической политики) и репродукцию плаката «по мотивам» этой афиши: князь изображен крупным планом, в шлеме и плаще на плечах, на фоне русского войска (в первом случае) или скачущей на врага дружины; на плакате Г. К. Шубиной «Широка страна моя родная» того же года женский образ во многом предвосхищает знаменитую «военную» Родину-Мать И. М. Тоидзе (визуализация гендерного стереотипа Руси-матушки[195 - См.: Рябов О. В. Россия-матушка. История визуализации // Границы: Альманах Центра этнических и национальных исследований ИвГУ. Иваново, 2008. Вып. 2: Визуализация нации. С. 7—36; он же: Mother Russia: гендерный аспект образа России в западной историософии // Общественные науки и современность. 2004. №4. С.116—122.]); в подписях к рисункам появляются ранее «табуированные» слова – «богатырь», «витязь» и пр. (правда, нередко с уточнением – «советский богатырь», как на плакате В. И. Говоркова 1935 г.)[196 - О советском плакате 1930-х годов см.: Голомшток И. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994; Агитмассовое искусство Советской России. Материалы и документы: Агитпоезда и агитпароходы. Передвижной театр. Политический плакат. 1918—1932. М.: Искусство, 2002; Символы эпохи в советском плакате. М.: ГИМ, 2001; Никонова О. Ю. Советский патриотизм на плакате: визуализация любви к родине в 1930-е годы // Вестник Пермского ун-та. Сер. История. 2012. №1/18. С. 278—288.]
Тому же вектору развития национального патриотизма соответствовали новые государственные праздники – к примеру, Пушкинские дни в феврале 1937 года. Былые призывы «сбросить Пушкина… с парохода современности» остались в прошлом: в передовице «Правды» за 10 февраля сообщалось, что Пушкин «глубоко национален», поэтому он «стал интернациональным поэтом». В том же году было пышно отпраздновано 125-летие Бородинской битвы; двумя годами ранее отмечалось 750-летие «Слова о полку Игореве», в 1939 году были устроены торжества в честь 250-летия Полтавской битвы, и т. д. «Соотношение общегражданской и революционной истории… изменилось в пользу первой[197 - Родионова И. В. Становление концепции советского патриотизма // Власть. 2009. №4. С. 152—156.]», отныне Советская Россия представлялась как наследница лучших традиций многовековой русской истории.
Советские литераторы отреагировали на изменение политики партии с некоторым опозданием. Так, поэту Демьяну Бедному, автору либретто к опере А. Я. Таирова «Богатыри» (1936), партийным руководством было строго указано на недопустимость пародирования образов и сюжетов легендарной русской истории (былинные богатыри у Бедного выведены пьяницами, князь Владимир – самодуром, а подлинными героями оказываются разбойники): «спектакль <…> огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются <…> носителями героических черт русского народа»[198 - О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного. Постановление Комитета // Правда. 1936. 14 ноября. Подробнее см.: Богданов К. А. Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 107 и далее.]. Вероятно, по тем же соображениям была запрещена к постановке после генеральной репетиции пьеса М. А. Булгакова «Иван Васильевич» (1936), значительно позднее использованная Л. И. Гайдаем как основа сценария для чрезвычайно популярной по сей день кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Во всяком случае, «тенденциозное изображение русской старины», насколько можно судить по воспоминаниям вдовы М. А. Булгакова, было одним из обвинений в адрес драматурга и режиссера[199 - Лосев В. И., Яновская Л. М. (сост.) Дневник Елены Булгаковой. М.: Книжная палата, 1990. Точка зрения Д. Бранденбергера, который считает утвердившийся в государственной политике руссоцентризм единственной причиной запрета пьесы, представляется, однако, чрезмерно упрощенной, как и точка зрения Я. С. Лурье, который видит в запрете исключительно отражение того обстоятельства, что «Булгаков вышел из доверия партийной верхушки». На наш взгляд, в этой ситуации следует говорить о совокупном влиянии комплекса причин, в том числе о пропагандистской «реабилитации» Ивана Грозного как собирателя русских земель – о чем, кстати, подробно рассказывает сам Д. Бранденбергер; фантасмагория М. А. Булгакова никак не соответствовала этой новой идеологической установке. См.: Platt K. M. F., Brandenberger D. Terribly Romantic, Terribly Progressive, or Terribly Tragic: Rehabilitating Ivan IV under I.V. Stalin // Russian Review. 1999. Vol. 58. N. 4. P. 635—654; Лурье Я. С. Иван Грозный и древнерусская литература в творчестве М. Булгакова // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 45. СПб.: Наука, 1992. С. 315—321; Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 112—133.]. (Правда, не только литераторы запаздывали с реакцией на изменения в государственной политике: в том же 1936 г. главный редактор газеты «Известия», председатель комиссии по истории знаний и соратник Ленина Н. И. Бухарин позволил себе на страницах газеты упомянуть о русском народе до 1917 года как о колониальной «нации Обломовых» – и подвергся суровой критике[200 - Бухарин Н. И. Наш вождь, наш учитель, наш отец // Известия. 1936. 12 января. С. 2; Об одной гнилой концепции // Правда. 1936. 10 февраля. С. 3; Леонтьев А. Ценнейший вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма // Правда. 1936. 12 февраля. С. 4; Дымерская Л. Демарш против Сталина? // Новое литературное обозрение, 1998. №3. С. 1444—154.].)
Подобное внимание власти к древнеславянской тематике, наряду с изданием многочисленных фольклорных сборников и научных работ по данному направлению, обуславливалось постепенным оформлением официального историографического канона, призванного продемонстрировать поступательность отечественной истории – от былинных богатырей до «нашего времени – времени эпоса»[201 - Бачелис И. Сергей Эйзенштейн // Известия. 1940. 11 февраля. С. 4. См. также очерк К. А. Богданова «Об эпосе и эпопее» // К. А. Богданов. Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 127—139]. В этих условиях культурный национализм превратился, как отмечают К. Платт и Д. Бранденбергер, в способ ««мифологизировать настоящее как сцену триумфальной победы над внутренними и внешними врагами, стихиями, самим временем под предводительством здравствующего вождя»[202 - Platt K. M. F., Brandenberger D. Terribly Romantic, Terribly Progressive, or Terribly Tragic: Rehabilitating Ivan IV under I.V. Stalin. P. 653.]. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в рамках нового историографического канона обезличенный «пролетариат» из революционной и постреволюционной пропаганды предыдущих лет уступает место иному «социальному воображаемому» (Ч. Тейлор) —«народу», жизнь, творчество и «корни» которого, по В. И. Ленину, должны отражать наука и искусство. Причем если первоначально в публицистических и художественных текстах под «народом», как правило, подразумевался народ-население, народ-граждане («рабочий народ», «трудовой народ», «масса трудящихся», «прогрессивные силы общества во главе с пролетариатом» и аналогичные пропагандистские клише[203 - См., например: Каммари М. Д., Глезерман Г. Е. (ред.). Роль народных масс и личности в истории. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957.]), то постепенно эта лексема приобрела значение народа-нации, конкретно – русского народа; ср.:
И ты глядишь на цепь знакомых рот,
На Сидоровых, Павловых, Петровых,
И видишь не соседей, а народ,
И волю, а не линию винтовок
(И. Л. Сельвинский); «…суровый, смелый / Народ наш многое постиг» (И. П. Уткин). Подобно «пролетариату», этот «народ» мыслится особым существом, самостоятельной личностью, обладающей конкретными свойствами – богатырь, труженик и пр., но главной характеристикой, имплицитной или эксплицитной, становится именно этническая; по замечанию С. Г. Воркачева, в текстах данного периода «русский народ представляет собой рефлексивное порождение своей родины как географической, исторической, социальной и духовной среды обитания»[204 - См.: Воркачев С. Г. Лингвоидеологема «народ» в зеркале русской поэзии // Научный диалог. 2013. №5 (17). Филология. С. 50—71; он же: Singularia tantum: идеологема «народ» в русской лингвокультуре. Волгоград: Парадигма, 2013; Королев А. А. Этноменталитет: сущность, структура, проблемы формирования. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2011.]. (Мало кто вспоминал – если вспоминал вообще – слова Л. Н. Толстого из письма 1881 года: «Что такое народ, народность, народное мировоззрение? Это ничто иное, как мое мнение с прибавлением моего предположения о том, что это мое мнение разделяется большинством русских людей[205 - Цит. по: Рассадин С. Б. Советская литература. Побежденные победители. М.: Новая газета, 2006. С. 202.]»; данная метафорика «народности», к слову, сохраняет популярность по сей день, в политическом и в социокультурном нарративе.)
Конечно, сохранялись и другие значения лексемы «народ»; пожалуй, самый показательный пример – «комбинация» этнического и гражданского смыслов в словосочетании «враги народа». Кроме того, определение «народный» использовалось и для обозначения артефактов традиционной, прежде всего крестьянской культуры, особенно культуры, «преображенной советской действительностью», будь то палехские миниатюры или «новины» М. С. Крюковой[206 - О советском Палехе см.: Вихрев Е. Ф. Палех. М.: Недра, 1930; он же: Родники. М.: Советская Россия, 1984; Зиновьев Н. М. Искусство Палеха. Л.: Художник РСФСР, 1975; Бойм С. Китч и социалистический реализм // Новое литературное обозрение. 1994. №15. С. 54—65. О творчестве М. С. Крюковой и советском псевдо-сказительстве см.: Иванова Т. Г. О фольклорной и псевдофольклорной природе советского эпоса; Миллер Ф. Сталинский фольклор; Доклад фольклориста А. М. Астаховой «Пути развития русского советского эпоса» на совещании, посвященном советской былине во Всесоюзном доме народного творчества 26 апреля 1941 года // Фольклор России в документах советского периода 1933—1941 гг.: Сборник документов. М.: Республиканский центр русского фольклора, 1994. С. 202—222; Юстус У. Вторая смерть Ленина: функция плача в период перехода от культа Ленина к культу Сталина // Соцреалистический канон. СПб.: Академический проект, 2000. С. 026—952; Добренко Е. Метафора власти. С. 104—112; Козлова И. В. Фольклор в свете идеологического дискурса 1930-х годов // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. Вып. 74—1. С. 236—243.], но далеко не всегда при анализе текстов тех лет можно вне контекста установить, что скрывается за понятием «народное искусство» – это может быть и фольклор, и «новый» фольклор, и искусство, в ленинской формулировке, созданное советским / русским народом и для советского / русского народа. Однако в целом для отечественной риторики второй половины 1930-х годов и позже свойственно именно этническое (этнополитическое и этнокультурное) толкование лексемы «народ». Более того, и самоидентификация советских людей в эти годы во многом становится этнической, то есть советско-русской, что сделалось особенно заметным в ходе Великой Отечественной войны: как писал советский офицер и будущий академик АН СССР Н. И. Иноземцев, «теперь, на базе нового государственного строя… есть все предпосылки к тому, чтобы понятия „родина“, „отечество“ стали недосягаемо высокими… впитываемыми с молоком матери… Родина – это мы. Русские – самый талантливый, самый одаренный, необъятный своими чувствами… народ в мире[207 - Иноземцев Н. И. Цена победы в той самой войне: фронтовой дневник. М.: Наука, 1995. С. 164. Другие примеры этнической самоидентификации советских людей той эпохи см. в указанных работах Д. Бранденбергера и Ф. Шенка (в том числе в библиографии), а также в книге Ш. Фицпатрик «Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века» (М.: РОССПЭН, 2011).]».
Советская литература сделала правильные выводы из показательного партийного выговора Д. Бедному. Драматург В. В. Вишневский, выступая на совещании актива оборонных писателей в 1937 году, рассуждал с трибуны о том, что в литературе «проблема национальная – особенно русская – годами была в загоне, Россия не существовала», но присутствовала «в каждом из нас, в нашей крови, в костях, во всем… это вековое»[208 - Цит. по: Родионова И. В. Роль деятелей культуры в формировании сознания советского общества (1917—1953) // Власть. 2011. №11. С. 140.]. В канву новой патриотической политики удачно вместились исторические романы – «Петр Первый» (1934) А. Н. Толстого, «Лютая зима» (1936) С. Н. Сергеева-Ценского, «Чингисхан» (1939) В. Г. Янчевецкого (Яна), «Козьма Минин» (1939) В. Н. Костылева, «Дмитрий Донской» (1940) С. П. Бородина.
Впрочем, применительно к славянскому метасюжету в строгом понимании этого термина советская литература данного периода, если не считать упоминавшегося выше либретто Д. Бедного и, с оговорками, «Малахитовой шкатулки» (1939) П. П. Бажова[209 - Поскольку в уральских сказах, которые легли в основу «Малахитовой шкатулки», тесно переплетены условно-древнеславянские мотивы и фольклор угорских народов, однозначное отнесение текстов П. П. Бажова к славянскому метасюжету русской культуры видится необоснованным. С другой стороны, как писали современники, «в волшебный мир старых уральских сказов Бажов помещал живых русских людей, и они своей реальной, земной силой побеждали условность сказочной волшебности»; присутствие в бажовских произведениях этих «живых русских людей» наряду с тщательно соблюдаемой автором лексической и интонационной стилизацией текстов «под фольклор» все-таки позволяет причислить «Малахитовую шкатулку» к ранним советским манифестациям славянского метасюжета. О творчестве П. П. Бажова см.: Блажес В. В. О фольклоризме бажовских сказов: Полемические заметки // Литература и фольклор. Свердловск, 1976. С. 79—97; Перцов В. О. О Павле Бажове и фольклоре // Писатель и новая действительность. М.: Советский писатель, 1961. С. 391—399; Булычев К. Оборотни [О сказах П. П. Бажова] // Юность.1992. №9. С. 67—69; Липатов В. В. Данила-мастер: О «фарфоровом» старателе и знатоке самоцветов // Родина. 2001. №11. С. 45—46.], оставалась равнодушной, несмотря на пропагандистскую популяризацию дискурса «эпической действительности» и реабилитацию образа славного прошлого. В советской литературе 1930-х – 1950-х годов славянский метасюжет оказался вытесненным в сферу «народного художественного творчества», причем фольклористы в этом случае выступали как своего рода литературные критики, «направляющие» и «регулирующие» процессы народного творчества[210 - О задачах советской фольклористики см.: Соколов Ю. М. Русский фольклор. М.: Наука, 1941. Любопытно, что этот учебник недавно был переиздан (М.: Изд-во МГУ, 2007; предисловие В. А. Садовничего) как актуальное и «патриотическое» (из аннотации) научное исследование – факт весьма показательный для характеристики современного культурного национализма.]. Можно предположить, что элиминация славянского метасюжета диктовалась прогрессистским пафосом идеологии социалистического реализма, в которой для «инженеров человеческих душ» не было места обращениям к легендарному прошлому; как утверждалось в уставе Союза писателей СССР, принятому на Первом съезде СП в 1934 году, «социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. Причем правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма»[211 - Устав Союза писателей СССР // Первый Всесоюзный съезд советских писателей: стенографический отчет. М., 1934. С. 716.] (курсив мой. – К. К.).
Особняком, вне соцреалистического канона – и все же пытаясь ему соответствовать, – стоял М. М. Пришвин, чьи романы-сказки, или романы-очерки, 1920-х и 1930-х годов так и не обрели окончательной авторской редакции: из дневников Пришвина известно, что он на протяжении почти тридцати лет постоянно переписывал эти тексты, пытаясь достичь некоего идеала. Впрочем, даже в «незавершенном» виде эти произведения переносят читателя в мифологизированный мир славянского метасюжета, прежде всего – мир «исконного» леса, причудливо сочетающийся по воле автора с советской действительностью, будь то почти безлюдные карельские дебри («Кащеева цепь»), болотистые «заповедные края» под Сергиевым Посадом («Родники Берендея»), нетронутый лес («Корабельная чаща») или местность вдоль русла Беломорско-Балтийского канала («Осударева дорога»). По замечанию критика А. Н. Варламова, «старейший советский писатель», как Пришвин любил себя называть, создавал волшебные местности, «где действуют свои правила, не такие, как в реальной советской жизни, а сказочные, мифологические, но и не столь выдуманные, как в ремизовском мире, а приближенные к природе вещей[212 - Варламов А. Н. Пришвин, или Гений жизни. Биографическое повествование. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 311.]». Во многом благодаря Пришвину в советской «прото-массовой» культуре тоталитарного периода «уцелело» само упоминание о Берендеевом царстве – соотнесенном территориально с местностью вокруг железнодорожной станции Берендеево под Переславлем-Залесским[213 - Многочисленные современные «Берендеевы царства» – пансионаты, рекреационные комплексы, зоны отдыха и т. д. – своим названием обязаны пьесе А. Н. Островского «Снегурочка» (1873) и одноименной опере Н. А. Римского-Корсакова (1885), «реабилитированным» наряду с остальной русской «сказочной» классикой в середине 1930-х годов; пьеса вошла в «академический» репертуар советских театров, опера регулярно ставилась на советской музыкальной сцене, вокальные партии в ней исполняли, в частности, С. Л. Лемешев и И. С. Козловский, выпускались грампластинки, вследствие чего в массовой культуре позднесоветского периода о царстве «странных берендеев», как выражался сам Римский-Корсаков, были «наслышаны». А М. М. Пришвина, творчество которого затрагивалось советской школьной программой, причислили к писателям-«природоведам» вместе с К. Г. Паустовским и В. Л. Бианки; его «сказочные» произведения, принадлежащие перу человека, который писал в дневнике: «Историю великорусского племени я содержу лично в себе, как типичный и кровный его представитель», ныне почти забыты, за исключением детской повести «Кладовая солнца» (1945). О творчестве М. М. Пришвина, помимо указанной монографии А. Н. Варламова, см.: Борисова Н. В. Жизнь мифа в творчестве М. М. Пришвина. Елец: Изд-во ЕГУ, 2001; Рудашевская Т. М. М. М. Пришвин и русская классика СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005; Овчинникова Л. В. «Сказка – это выход из трагедии?» Особенности творческих поисков М. М. Пришвина (1940-е – 1950-е гг.) // Вестник МГГУ. Филологические науки. 2009. №1. С. 15—27.].
Другим «сказочным» топонимом, в сохранение которого в советской культуре внес свою лепту и Пришвин, был невидимый град Китеж, который неоднократно упоминается в «Кащеевой цепи» и в «Осударевой дороге» и которому писатель посвятил отдельный очерк «У стен града невидимого (Светлое озеро)» (1909). Мифологема Китежа стала весьма популярной в культуре Серебряного века благодаря опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907) – популярной настолько, что образ города, по старообрядческой легенде XVIII века, воспроизведенной в романе «В лесах» (1871 – 1874) П. И. Мельникова-Печерского, города, опустившегося на дно озера, чтобы не сдаваться врагу, сделался своего рода культурным клише: отсылки к легенде, прямые упоминания Китежа, метафорические переосмысления этого образа встречаются в стихах А. А. Ахматовой, М. А. Волошина, С. А. Есенина и других поэтов, «сокровенный град» изображен на полотнах М. В. Нестерова и К. И. Горбатова, и даже будущий «пролетарский писатель» А. М. Горький процитировал духовный стих о Китеже в повести «В людях» (1916). После революции советская литература образ Китежа актуализировала исключительно в поэзии, как упоминалось выше, – мессианизм этого образа был вытеснен новым, коммунистическим мессианизмом, лишь эмигранты, как Н. К. Рерих, и «попутчики революции», наподобие М. А. Волошина и Н. А. Клюева, изредка позволяли себе ностальгию по утраченной жизни, персонифицированной в мифологеме Китежа; пришвинский постреволюционный Китеж (в романах) также упоминается и описывается ностальгически[214 - О пришвинском понимании Китежа см.: Иванов Н. Н. Мифопоэтика повести М. Пришвина «У стен града невидимого» // Ярославский педагогический вестник. 2010. №4. Т. 1. С. 255—257. О китежской легенде, ее происхождении и развитии см.: Товбин К. М. Архетип «сокровенного града» в символическом пространстве старообрядчества // Культурная и гуманитарная география. 2013. Т. 2. №2. С. 153—158; Гроза А. Б. Музеефикация культурного ландшафта (на примере озера Светлояр и легенды о сокровенном граде Китеже) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №70.]. Следует отметить, что опера Н. А. Римского-Корсакова вернулась на сцену уже в начале 1930-х годов, в 1934 году ее заново представил публике Большой театр, и с тех пор эта опера оставалась в репертуаре советских музыкальных коллективов[215 - Об истории создания оперы и ее рецепции см.: Горячих В. В. О жанровой природе «Китежа» Н. А. Римского-Корсакова // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. №99.], что обеспечивало постоянное «присутствие» Китежа в пространстве советской культуры. Причем это «присутствие» было настолько выраженным, что его периодически пытались демифологизировать: вероятно, первым произведением такого рода можно считать приключенческий роман М. Е. Зуева-Ордынца «Сказание о граде Ново-Китеже» (1930), по сюжету которого советские военные случайно обнаруживают в глухой сибирской тайге город, основанный выходцами из старообрядческого Китежа и «застрявший» по стилю жизни в XVII столетии; столкновение с советской действительностью заканчивается пожаром, уничтожившим город, и новым бегством китежан. Забегая вперед, укажу, что «окончательная» демифологизация Китежа в советской литературе состоялась в 1970-х – 1980-х годах – в «Сказке о тройке» и повести «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, в повести «Чистые воды Китежа» В. Ф. Тендрякова (подробнее см. далее); при этом мифологическая составляющая образа также не утратила актуальности, о чем свидетельствует, к примеру, стихотворный цикл В. П. Бетаки «Китеж» (1973):
Сколько в России
Светлых озер,
Столько раз Китеж
В воду ушел.
Град потаенный —
В волнах, а над
Плесом – беленый
Выторчал ад…
Главным «демифологизатором» славянского метасюжета была не литература, а кино. Советский кинематограф, который постепенно становился основным инструментом пропаганды и занимал лидирующие позиции среди видов советского искусства, в культурном поле «русского духа» достаточно быстро сформировал тенденцию «карнавализации» славянского метасюжета, когда условно-древнеславянские образы, мотивы и сюжеты переосмыслялись комически, древнерусская героика утрировалась, а мировоззренческая составляющая традиционной культуры тщательно «подчищалась» и даже высмеивалась. При этом обнаруженные «национальные корни» старательно деидеологизировались, и в результате славянский метасюжет оказался вытесненным на стык двух локальных полей – детской культуры и «славянского (древнерусского) китча» (под последним понимается утрированное воспроизведение лингвистических и художественных представлений о «древнерусском», бытующих в коллекивном знании).
Уже первые фильмы-сказки – «По щучьему велению» (1938) и «Василиса Прекрасная» (1939) – А. А. Роу интерпретировали славянский метасюжет в пародийно-сатирическом ключе; более того, данные фильмы позиционировались как детское сказочное кино, и это позиционирование подчеркивало отношение официальной идеологии к славянской традиции в советской культуре: как и большинство последующих, эти киноленты «потешны», персонажи славянского фольклора в них предстают как комические образы, и фольклорные сюжеты трактовались комически. Даже фильмы по классическим литературным произведениям, будь то «Руслан и Людмила» (1938) И. С. Никитченко и В. П. Невежина или «Конек-горбунок» (1941) А. А. Роу, балансировали на грани «потешности». Эту особенность советских сказочных фильмов уже давно подметили исследователи массовой культуры и публицисты; так, К. А. Крылов, рассуждая о денационализации русской культуры, пишет: «Киносказки Роу, на которых выросли несколько поколений отроков и отроковиц, приучили нас к тому, что „свое“ непременно забавно»[216 - Крылов К. А. Рассуждение о русской фэнтези. Отмечу здесь, что значительная заслуга в абсурдизации образов славянского фольклора принадлежит Г. Ф. Милляру, неоднократно игравшему Кощея и бабу-ягу в сказочных советских фильмах. В исполнении Милляра эти персонажи приобрели выраженные гротескные черты, которые и закрепились в массовом сознании. О советском кино 1930-х – 1950-х гг. см.: Закиров О. А. Исторические фильмы СССР 1936—1946 гг. М., 2011; Лубашова Н. И. Феномен отечественной кинематографии в социокультурном пространстве России XX века. Тамбов, 2009; Спутницкая Н. Ю. Волшебная сказка и фольклорные традиции в российском детском кино. М., 2010; она же: Сказочный герой на киноэкране: опыт А. А. Роу // Ученые записки. Электронный журнал Курского ГУ. 2020. №3. URL: http://www.scientific-notes.ru/pdf/015-030.pdf (http://www.scientific-notes.ru/pdf/015-030.pdf). Дата доступа 30 августа 2017 г.; она же: Кино и фольклор. Попытка терминологического экскурса с библиографией и фильмографией // Кинограф. 2008. №18. С. 232—284.]. (Подробнее о влиянии советского кинематографа на стереотипы коллективного знания, как позднесоветского, так и современного, и на формирование деконструкционистского направления в славянском фэнтези см. далее.)
В целом тридцатые годы XX столетия в отечественной истории – это период появления государственного национализма. По замечанию Д. Бранденбергера, «в течение 1930-х годов партийное руководство было настолько озабочено государственным строительством, массовой мобилизацией и обретением легитимности, что прибегало к руссоцентризму как к популистской идеологии… В поисках более сильной вдохновляющей идеи Сталин и узкий круг его приближенных в итоге остановились на руссоцентричной форме этатизма как на самом действенном способе поддержать государственное строительство и достичь массовой лояльности режиму»[217 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 8. См. также: Агурский М. Идеология национал-большевизма.]. Этот отказ от «революционного утопического интернационализма» в пользу «исторического нарратива, который бы подчеркнул господствующее значение русского народа в строительстве государства на протяжении всей истории»[218 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 61.], был постепенным и предусматривал итоговую фиксацию тысячелетней истории Советского Союза – от Киевской Руси до текущего момента.
Д. Бранденбергер выделяет три категории системы националистических образов, сложившихся в государственной идеологии и массовой культуре к концу предвоенного десятилетия. «Во-первых, оказались популяризированы конкретные исторические даты, события, герои дореволюционной эпохи… они выдвигали на первый план этатистские темы, касающиеся формирования и сохранения империи Романовых, а также ее предшественниц, – Московской и Киевской Руси… Во-вторых, русский народ был провозглашен „первым среди равных“. Направленная на ревальвацию отдельных русских государственных строителей, пропаганда в отношении русского народа в целом велась различными способами, от простого признания роли в строительстве государства до более шовинистского фокуса на приписываемом ему передовом культурном положении и статусе „старшего брата“ по отношению к нерусским народам… Третий феномен, тесно связанный с более преувеличенными аспектами довоенного руссоцентризма, можно было бы обозначить как сталинский ориентализм. Эта идеология, будучи следствием гегельянского отождествления русских с „историческим народом“, состоящим из славных строителей государства, предполагала, что нерусские народы не могут похвастаться подобным происхождением»[219 - Ibid. С. 114.].
Пропагандистская идеологема русского народа как «первого среди равных» приобрела особое значение в официальной риторике и в советском искусстве в годы Великой Отечественной войны. Мобилизационный потенциал этой риторики оказался чрезвычайно востребованным – как сказал И. В. Сталин представителю США А. Гарриману в сентябре 1941 года: «Мы не тешим себя иллюзией, будто солдаты сражаются за нас. Они сражаются за Родину-мать»[220 - Цит. по: Майнер С. Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая политика, 1941—1945. М.: РОССПЭН, 2010. С. 100.]. Славянский метасюжет в эти годы актуализируется до такой степени, что становится неотъемлемой частью советского культурного нарратива. На плакатах обязательно изображаются древнерусские витязи (даже на знаменитом плакате Кукрыниксов «Внуки Суворова, дети Чапаева» 1941 года присутствует, наряду с самими А. С. Суворовым и В. И. Чапаевым, русский богатырь – вероятно, подразумевался Александр Невский как «победитель тевтонов»[221 - Мифологизация «Ледового побоища» 1242 г. в восприятии советских людей во многом проистекала из усилий советской предвоенной и военной пропаганды, а также явилась следствием грандиозной популярности кинофильма «Александр Невский» (1938) С. М. Эйзенштейна, в котором эта малозначительная по своим последствиям пограничная схватка была показана как ключевой эпизод противостояния Руси «тевтонскому» нашествию. Такая трактовка сражения на Чудском озере сама есть манифестация славянского метасюжета в русской культуре: образ Александра-победителя тевтонов конструировался в отечественной традиции фактически с конца XIII века – с появления «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра». О полемике историков относительно значимости битвы на Чудском озере и о конструировании образа Александра Невского как защитника Руси см. указанную работу Ф. Шенка, особенно с. 50—235. Примером публицистической репрезентации этой мифологемы в советской культуре может служить работа А. И. Козаченко «Ледовое побоище» (М., 1938), а примером репрезентации литературной – одноименная поэма К. М. Симонова (Знамя. 1938. №1. С. 182—206). Анализ возникновения данного исторического мифа см. в работе: Ostrowski D. Alexander Nevskii’s «Battle on the Ice»: the Creation of a Legend // Russian History / Histoire Russe. 33. Nos. 2-3-4 (Summer-Fall-Winter 2006). P. 289—312. Д. Островски выделяет пять «культурных слоев» конструирования мифологемы «Ледового побоища» – от государственно-политического до протестно-религиозного.]) и сцены эпической героики; в живописи и книжной графике обретают чрезвычайную популярность условно-древнеславянские сюжеты и мотивы. Книжная графика в иллюстрированных публикациях фольклорных текстов, прежде всего былин, ориентировалась на «романтический национализм» В. М. Васнецова, который, по мнению К. А. Богданова, «оказывается отныне созвучен патриотическому воспитанию и стилистической топике эпохи позднего сталинизма»[222 - Богданов К. А. Снова об эпосе // Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 157.]. В годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы живопись обращалась к сюжетам древнерусской истории, подчеркивая героику и символизм противостояния врагу – упомяну лишь некоторые работы: триптих «Александр Невский» П. Д. Корина (1942—1943), «Утро на Куликовом поле» А. П. Бубнова (1947), «Поединок Пересвета с Челубеем» М. И. Авилова (1943) и др.; причем художественная стилистика этих полотен, опять-таки, близка васнецовскому «романтическому национализму». Тиражирование произведений Васнецова и его «продолжателей» в книжных иллюстрациях и в станковой живописи привело к формированию своего рода «канона визуализации» эпических героев, позднее банализированного в творчестве К. А. Васильева, художника, весьма популярного у поклонников славянского фэнтези и у приверженцев националистической идеологии[223 - См.: Пронин Г. В. Загадка художника Константина Васильева // Казанский альманах. 2006. №1. С.170—191; см. также сайт Клуба любителей живописи К. Васильева с характерным заголовком «Константин Великоросс» (http://veliko-ross.ru/) (http://veliko-ross.ru/)). Дата доступа 30 августа 2017 г.]. Более того, бытующее в современном коллективном знании представление о трех «главных былинных героях» – Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче – во многом обязано сюжетике картины Васнецова «Три богатыря», а вовсе не былинам, в сюжетах которых эти богатыри редко действуют вместе[224 - См.: Русские богатыри: былины и героические сказки в пересказе для детей И. В. Карнауховой. М., 1949; Былины / Вступ. статья и примеч. Н. В. Водовозова. М.: Детгиз, 1955; Илья Муромец / Подг. текстов, статьи и коммент. А. М. Астаховой. М.; Л.: Наука, 1958; Добрыня Никитич и Алеша Попович / Изд. подг. Ю. И. Смирнов и В. Т. Смолицкий. М.: Наука, 1974.]. Абсолютно справедлив тезис К. А. Богданова, который видит в тиражировании васнецовских «Богатырей» пример «эпистемологической эффективности „визуальной историографии“ – зрительного образа, гипнотизирующего наглядной „документальностью“ „исторического факта“»[225 - Богданов К. А. Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 161. Примером восприятия этого образа в отечественной массовой культуре могут служить, кстати, и российские анимационные фильмы студии «Мельница» о богатырях; вдобавок эти мультфильмы наглядно демонстрируют, помимо героической, еще одну вариацию славянского метасюжета – демифологизирующую, когда условно-славянская и условно-древнерусская топика используется в комическом контексте.]
Литературные манифестации славянского метасюжета в тот период также воспроизводили сюжеты и образы эпической героики, что вполне объяснимо; историческая достоверность этой героики значения не имела – в художественных текстах, прежде всего в так называемой окопной литературе[226 - «Карманная книжка, брошюра с очерками о выдающихся русских полководцах, умещавшаяся в полевой сумке… были самым массовым жанром исторических работ тех лет». См.: Дубровский А. М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930 – 1950-е гг.). Брянск: Изд-во БГУ, 2005. С. 577.], то есть в книжках небольшого формата, предназначенных для чтения на фронте, упоминались в одном ряду Илья Муромец и «богатырство киевское», князь Игорь и плач Ярославны, Александр Невский и Дмитрий Донской, прочие легендарные, полулегендарные и исторические личности. На обложках этих книг стояли имена А. Н. Толстого, И. Г. Эренбурга, Н. С. Тихонова и других маститых советских литераторов. Помимо обращения к героическим образам и напоминаний о подвигах прошлого авторы порой позволяли себе прямые отсылки к славянскому метасюжету; так, И. Г. Эренбург в одном из военных очерков 1942 года сравнивал Советский Союз с Китежем: «Государство, построенное на возвеличивании труда, – это тот Китеж, который искал народ», а «красный граф» А. Н. Толстой напоминал об «исконном» превосходстве русской культуры над остальными: «Славянин был воин-пахарь, воин-охотник и рыболов, не расстававшийся с мечом и рогатиной ни в поле, ни в лесу. Долгие зимы не усыпляли ум его, – в лесной глуши, в снегах, в курных избах он складывал песни и плел вязью слов волшебные сказки. Ни один народ в мире не создал столь богатой изустной литературы. В ней отражена вся его сложная, богатая, талантливая, мечтательная, пытливая, веселая и вольнолюбивая душа»[227 - Эренбург И. Г. Значение России // Война. Апрель 1942 – март 1943. М.: Военное издательство, 2002. С. 192; Толстой А. Н. Русские воины // Красная звезда. 3 августа 1941 г.]. (Для «прото-массовой», если использовать в качестве отличительного критерия качество аудитории, публицистики А. Н. Толстого вообще характерно стремление максимально «удревнить» историю Российского государства; ср.: «Киев – столь древнее место, какого, пожалуй, еще нет в Европе[228 - Толстой А. Н. Полное собрание сочинений в 15 т. Москва: ГИХЛ, 1946—1953. Т. 14. С. 236.]». ) Не удивительно, что к исходу войны тиражируемые в прессе, в литературе, в графике и живописи, в палехской лаковой миниатюре и т. д. героические образы и сюжеты «славного прошлого», под которым понималось, в том числе, и полумифическое, условно-древнерусское и условно-древнеславянское прошлое советского народа, сделались своего рода этностереотипами отечественной культуры – культуры, прежде всего, русской; как отмечал английский журналист А. Верт, «никакого разграничения между советским и русским больше не существует[229 - Werth A. Moscow «41. London: Hamish Hamilton, 1942. P. 102..]». Эти «этностереотипы» и представления об особом статусе русского народа и его истории в рамках истории человечества после войны были усвоены, обоснованы и окончательно банализированы в советской массовой культуре, а славянский метасюжет получил официальную, пусть и не полную, легитимацию. Окончательное же утверждение этого метасюжета в идеологии и культуре произошло позднее, в 1960-х – 1980-х годах.
Отступление второе. «Было время – и были подвалы, было дело – и цены снижали…[230 - Высоцкий В. С. Баллада о детстве.]», или Когда советская культура стала массовой
Конечно, вопрос, вынесенный в название очерка, требует развернутого, обстоятельного анализа и заслуживает отдельного исследования (как минимум одного; вообще же эта тема – фактически полноценная предметная область для изучения). Ниже излагаются в тезисном виде только соображения общего свойства касательно характеристик позднесоветской культуры.
На предыдущих страницах уже не раз встречались отсылки к персональному книгоиздательскому опыту. Здесь я позволю себе раздвинуть автоэтнографические границы, выйти за рамки профессиональной сферы и обратиться к собственному – более широкому – культурному опыту.
Начало второй половина 1970-х годов. Центр Москвы, окрестности Старой площади. Неприметная дверь в стене столь же неприметного здания. Вывеска у двери – «Специализированная столовая номер такой-то». Внутри две длинные очереди к прилавкам, на которых выложены продукты, практически не попадающие в обычные магазины: тонкие батоны «Докторской», глазированые сырки, черная и красная икра… Наверняка было много чего еще, но запомнилось прежде всего это (вследствие нежного возраста). Еженедельно – или раз в две недели, точно уже не вспомнить – мы с мамой приезжаем сюда за «особыми» продуктами «по блату». После столовой мы обязательно идем к зданию гостиницы «Москва», где в кафетерии первого этажа всегда в продаже печеночный паштет. Если сильно повезет, можно уговорить маму на кафе «Мороженое» на улице Горького, где продают крем-брюле с шоколадом и орехами под названием «Планета»…
Другие, повседневные, так сказать, продукты широко доступны в любом продмаге, включая шоколадное масло… Конечно, придется постоять в очереди, но удовольствие того стоит. Чтобы все это приобрести, ни в коей мере не требуются сверхдоходы – вполне достаточно зарплаты школьного учителя.
Те же годы. Центр Москвы, проезд Художественного театра. Магазин «Подписные издания». Внутри не протолкнуться – все хотят оформить подписку на новые собрания сочинений: Теккерей, Жорж Санд, Чехов, Толстой… Не имеет значения, что энное количество «книголюбов», получивших заветные квиточки, никогда не откроют ни одного тома ни единого собрания сочинений; главное – подписаться, получать тома по мере выхода и любовно выстраивать «ансамбли» на книжных полках.
Эти воспоминания, при всей их отрефлексированной детской ностальгичности, показывают и доказывают, что к 1970-м годам в Советском Союзе – или, во всяком случае, в крупных городах, особенно в столице – сформировалось общество потребления в его классическом понимании, обладающее характерными признаками: достаточное количество предметов потребления по доступным ценам, наличие потребительских ресурсов, урбанизация населения, увеличение расходов на предметы длительного пользования (те же книги, к примеру) и на организацию досуга, возникновение культуры потребления[231 - Об обществе потребления и его характеристиках см.: Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика, 2005; Рапай К. Культурный код: как мы живем, что покупаем и почему. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008; Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. О советском обществе потребления см.: Ильин В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. 2005. №2; Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. М.: РОССПЭН, 2003. О массовой культуре как культуре общества потребления см. обзор и анализ мнений в книге: Ильин А. Н. Культура общества массового потребления. Омск: Изд-во ОМГПУ, 2014.]. Недавний цикл телепередач «Намедни» Л. Г. Парфенова, посвященный истории СССР и выделяющий в качестве основных моментов каждого года советской истории события и факты, значимые именно для коллективной рецепции, отлично иллюстрирует процесс постепенного качественного изменения жизни граждан Советского Союза: революционно-классово-политические темы, волновавшие общество ранее, уступают место коллективному присвоению «потребительских трендов» повседневности – новые деньги, квартиры-«хрущевки», доступная мебель, массовая мода и ее веяния, автомобилизация страны, распространение телеприемников, новые формы массового досуга, и т. д[232 - См. книжную версию блока телевизионных сюжетов, посвященных 1960-м годам: Парфенов Л. Г. Намедни. Наша эра. 1961 – 1970. М.: КоЛибри, 2009.].
Естественным следствием формирования такого общества, пусть и обладавшего выраженной идеологической спецификой, стало появление массовой культуры («Сталинская культура внедряла и тиражировала художественные произведения высокого жанра… В эклектике 60-х возникла советская массовая культура – гитарные песни, интимные стихи, модная одежда, молодежный жаргон, „Голубые огоньки“, легкая мебель… эстрада[233 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 233.]») – напомню, что в этой книге массовая культура определяется как совокупность процессов производства и потребления символической (ценностной) продукции, наделяющая нематериальные продукты, в том числе художественные приемы, изобретенные и освоенные искусством предыдущих поколений, товарными свойствами. Массовая культура, если коротко, есть культура общества потребления, и если советский социум в указанный период времени достиг «потребительского» уровня, это означает, что только применительно к этим и более поздним годам мы вправе рассуждать о советской массовой культуре. (Д. Бранденбергер в своей работе о национал-большевизме нередко использует дефиницию «советская массовая культура» по отношению к культуре 1940-х, 1930-х и 1920-х годов; в оригинальном английском тексте выражения «mass culture», «popular culture» и «public culture» имеют синонимическое значение. На наш взгляд, это не совсем корректно, даже если учитывать лишь единственный признак массовой культуры – способность коллективного знания воспринимать и тиражировать совокупность социальных идеологий, гуманитарных технологий и культурных ценностей в качестве социальных стереотипов, моделей для воспроизведения «конвенциональных значений». Для этого необходим соответствующий уровень образования[234 - Другая периодизация датирует становление советской массовой культуры 1930-ми годами. См.: Лебедева В. Г. Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. Как представляется, это не совсем верно – по тем же соображениям, которые высказаны относительно подхода Д. Бранденбергера. Хотя, безусловно, «ростки» массовой культуры обнаруживаются уже в эти годы – например, советская массовая песня. О последней см.: Бочаров А. Г. Советская массовая песня. М.: Советский писатель, 1956; Гюнтер X. Поющая Родина (советская массовая песня как выражение архетипа матери // Вопросы литературы. 1997. №4. С. 46—61; Захаров А. В. Советская модель массового общества // Массовая культура. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. Как таковая массовая культура – в том понимании этого определения, о котором говорилось выше, – начала складываться в России еще в XIX столетии. Безусловно, она во многом отличалась от «магистральной» европейской массовой культуры (это связано прежде всего с технологическим и социальным отставанием России от европейских стран и, как следствие, с «догоняющей модернизацией»), однако в целом в отечественной культуре происходили те же трансформационные процессы, что и в культурах стран Европы, – процессы культурной унификации. Результатом этих трансформаций явилось постепенное смыкание элитарной, низовой городской и традиционной (крестьянской) культур. О становлении массовой культуры в России и о специфике российской массовой культуры на ранних этапах ее развития см.: Рейтблат А. И. Читательская аудитория в начале XX века // От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. С. 277—293; он же: Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX – начало XX века) // Ibid. С. 294—306; Оболенская С. В. Народное чтение и народный читатель в России конца XIX в. // Одиссей. Человек в истории. М.: Прогресс, 1998. С. 204—232; Брукс Дж. Когда Россия научилась читать. Грамотность и народная литература. 1816—1917 гг. // Что мы читаем? Какие мы? СПб., 1993. С.151—171.], а «пропасть» между грамотными и неграмотными, между носителями городской и традиционной крестьянской культур, равно как и между ними обоими и советской интеллигенцией, что бы ни понималось под данным определением[235 - См.: Гаспаров М. Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность. // Русская интеллигенция: История и судьба. М.: Наука, 1999. С. 5—13; Рудницкая Е. Л. Лики русской интеллигенции. М.: Канон+, 2007; Добрынина М. И. Трактовка понятия интеллигенции в годы Советской власти // Вестник БГУ. 2010. №6. С. 143—147 (там же ссылки на советские источники); Левада Ю. А., Шанин Т. Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России. М.: НЛО, 2005.], сохранялась до начала 1960-х годов, когда сложился своего рода унифицированный культурный канон советского человека[236 - См.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953 – 1964 гг. М.: РОССПЭН, 2000; Григорьева А. Г. Советская повседневность и уровень жизни населения СССР в 1953—1964 гг.: к постановке проблемы // Теория и практика общественного развития. 2010. №3. С. 216—218; Виниченко И. В. Перемены в повседневной жизни советских людей как результат социально-экономической политики государства в период «оттепели» // Омский научный вестник. 2011. №3 (98). С. 13—16.].)
Разумеется, в официальной советской доктрине ни «общество потребления» (программа КПСС, принятая в 1961 году, ставила задачей построение материально-технической базы коммунизма и «обеспечивала благополучие без стяжательства», когда «отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив[237 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 14.]»), ни «массовая культура» не фигурировали, поскольку не соответствовали государственной идеологии; эти термины служили негативными маркерами «буржуазного строя» и получали соответствующие трактовки в пропагандистских публикациях. Тем не менее, практики повседневности демонстрировали принципиальное расхождение с идеологическими установками. Доказательством того, что это расхождение в известной степени осознавалось и рефлексировалось в социуме, может служить известная кампания против мещанства, развернувшаяся в советских СМИ в годы хрущевской «оттепели». Мещанам, обывателям – не как сословию, но как носителям определенной психологии и выразителям определенных взглядов – приписывались именно те качества и характеристики, которые позволяют увидеть в них представителей общества потребления и, соответственно, «апологетов» массовой культуры; ср., например: «…дело здесь не только во внешнем убранстве квартиры, не только в том, что квартира обильно украшена дешевенькими, аляповатыми картинками, безвкусными пестрыми вышивками или загромождена разностильными предметами и напоминает собою комиссионный магазин… Мещанская мораль уводит людей от активной общественной жизни, тормозит инициативу заботами о своем маленьком счастье, заставляет стоять в стороне при решении общественных и производственных вопросов[238 - Власенко Т. В. Еще раз о мещанстве: к итогам дискуссии // Вологодский комсомолец. 4 сентября 1958 г. О советском мещанстве и «вещизме» как социокультурном явлении см.: Кабо Л. Р. Невесело быть мещанином. М.: Политиздат, 1965; Вайль П., Генис А. Мир советского человека. М.: НЛО, 2001; Гурова О. Ю. От бытового аскетизма к культу вещей: идеология потребления в советском обществе // Люди и вещи в советской и постсоветской культуре. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2005. С. 6 -22; она же: От товарища к товару: предметы потребления в советском и постсоветском обществе // Ibid. С. 35—48. О «корнях» неприятия мещанства в российской / советской культуре и о борьбе с мещанством в СССР до кампании конца 1950-х – середины 1960-х годов см.: Бачинин В. А. Мещанство как социально-нравственная проблема. М.: Знание, 1982; Иваницкая Е. Н. Парадокс о мещанстве (к проблеме этико-эстетических исканий серебряного века русской литературы) // Время Дягилева. Универсалии серебряного века. Третьи Дягилевские чтения. Материалы. Вып. 1. Пермь, 1993. С. 52—58; Колоницкий Б. И. Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» сознание // Отечественная история. 1994. №1. С. 17—27.]». Как вспоминали П. Вайль и А. Генис, «с мещанством боролись отчаянно, злобно, неутомимо, тасуя аксессуары (абажур, граммофон, сервант) по фельетонам, стихам, карикатурам… Постепенно мещанство становилось источником всех бед – от невыученных уроков до фашизма… Мещанство разоблачалось быстро, даже если маскировало себя атрибутами новизны…[239 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 59, 130.]»
Антимещанский пафос советской культуры, «унаследованный» от А. И. Герцена, доминировал прежде всего в пропагандистском дискурсе[240 - См. об этом: Аккуратов Б. С. Миф о мещанстве в советской историографии // Гуманитарное знание в системах политики и культуры. Казань, 1999. С. 189—191; он же: Антимещанский комплекс российской культуры: Культурно-историческая деконструкция // Историческое знание и интеллектуальная культура. Материалы научной конференции. Москва, 4—6 дек. 2001г. М.: ИВИ РАН, 2001. С. 251—254.], оказывая опосредованное влияние на саморефлексию граждан СССР; тем не менее, эта саморефлексия нисколько не препятствовала гражданам (зарождающемуся «деидеологизированному» среднему классу, в терминологии Д. Белла[241 - Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. N.Y.: Free Press, 1965. См. также: Зотов В. В., Спицына А. О. Идеология и доминирующая культура // Теория и практика общественного развития. 2014. №8. С. 17—19.]) «потреблять» повышение качества жизни, пожинать плоды неуклонного – вследствие развития массовых коммуникаций, а первую очередь телевидения, – распространения отвергаемой на уровне государственной идеологии массовой культуры в советском обществе.
Любопытно оценить в исторической перспективе взгляды советской науки на феномены общества потребления и массовой культуры и соотнести эти взгляды с советской же повседневностью. Среди отечественных теоретиков массовой культуры советского периода (Г. К. Ашин, З. И. Герникович, Е. Н. Карцева, В. П. Шестаков и др.) выделяется А. В. Кукаркин, работа которого «Буржуазная массовая культура» выдержала до распада СССР два издания (первое – 1978, второе, дополненное и доработанное – 1985). Именно второе издание этой работы и станет предметом дальнейшего рассмотрения.
Если абстрагироваться от неизбежных для позднесоветской публикации пропагандистских клише, главный водораздел между «буржуазной массовой» и советской культурами, по Кукаркину, определяется объектом конструирования социального воображаемого: советская культура является культурой «нового человека», тогда как массовая обращена к его потребительской ипостаси. «Буржуазные идеологи относят к массовой культуре не только фактически всю культуру капиталистических стран… но и культуру стран социализма, пытаясь затушевать коренное отличие социалистической культуры от буржуазной… Между тем принципиальное отличие этих культур связано уже с тем, что каждая из них является продуктом совершенно различных общественно-экономических формаций. В ходе строительства социалистической культуры не существует объективной материальной и идейной основы для порождения искусства и литературы, апеллирующих к низменным инстинктам людей, для сознательного насаждения низкопробных мещанских стандартов[242 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 71.]». Автор при этом «забывает» о таких культурных артефактах своего времени, как, например, советская эстрада с ее «мещанскими стандартами», когда наряду с революционно-патриотической героикой в исполнении М. М. Магомаева, И. Д. Кобзона, Ю. А. Гуляева, Э. А. Хиля, пользовались широкой популярностью лирические, «деидеологизированные» песни в исполнении Э. С. Пьехи, В. В. Толкуновой, Л. П. Сенчиной[243 - Следует отметить, что некоторым исполнителям «официальных» песен – И. Д. Кобзону, к примеру – разрешалось порой обращаться, как это именовалось на советском бюрократическом новоязе, к «мелкотемью»; можно вспомнить в его исполнении советские «городские романсы» 1930-х – 1940-х гг. («В парке Чаир» и др.).]; в поле литературы под вышеприведенное определение вполне подходят романы-эпопеи[244 - О советском романе-эпопее см.: Пискунов В. М. Советский роман-эпопея. Жанр и его эволюция. М.: Советский писатель, 1976; Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. 1950-е – 1990-е годы. В 2 т. М.: Академия, 2003. Т. 1. С. 181 -259; т. 2. С. 17—46.] из «народной жизни» поздних классиков социалистического реализма – «Вечный зов» А. С. Иванова (1971—1976), «Судьба» (1973) и «Имя твое» (1978) П. Л. Проскурина и произведения множества других авторов, которые «льстят [публике], способствуя утверждению распространенных вкусов и идей тем, что принимают их за критерий реальности, абсолютизируя статистическое большинство[245 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 62.]».
Дополнительным свидетельством «массовизации» поздней советской культуры можно считать тот факт, что транслятором общих смыслов и ценностей социума все больше выступало телевидение, которое в советских условиях, при огромных расстояниях и слабой инфраструктурной связности страны, препятствовавших функционированию иных каналов распространения, постепенно становилось основным информационным каналом и инструментом внутрикультурного взаимодействия; можно сказать, что именно ТВ, пришедшее со временем в каждый дом благодаря утверждению стандартов общества потребления, создало советскую массовую культуру. В частности, тот же «Вечный зов» стал по-настоящему популярным, превратился в «полноценный» артефакт массовой культуры – который массово тиражировали, обсуждали, цитировали и т. д. – только после выхода на телеэкраны одноименного сериала (1976—1978). Аналогичная судьба ожидала цикл Ю. С. Семенова «Альтернатива» (1975—1978), экранизированный в виде телесериала «Семнадцать мгновений весны» (1973) и ряда полнометражных фильмов[246 - В хронологическом порядке развития сквозного сюжета: «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (1975), «Пароль не нужен» (1967), «Испанский вариант» (1980), «Майор Вихрь» (1967), «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» (1976, по роману «Бомба для председателя»).], и детективный роман «Повесть об уголовном розыске» А. П. Нагорного и Г. Т. Рябова, экранизированный в виде телесериала в 1974 – 1977 годах. Телевизионные трансляции – фильмов, сериалов, «Международной панорамы», музыкальной программы «Утренняя почта», поединков КВН или популяризаторской передачи «Очевидное – невероятное» П. Л. Капицы – создавали и воспроизводили общее культурное поле, в том числе – «… через их пассивное потребление и придание творчеству характера бизнеса[247 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 12.]», поскольку ТВ в позднесоветский период превратилось в основную форму досуга[248 - См.: Борецкий Р. А. Телевидение на перепутье. М.: НИАНО, 1998; Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект-Пресс, 2011; Парфенов Л. Г., Чекалина Е. Л. Нам возвращают наш портрет: заметки о телевидении. М.: Искусство, 1990.], а скудость выбора (как правило, телеприемники позволяли смотреть 2 общегосударственных канала и 1 местный) способствовала коллективному усвоению / тиражированию смыслов – все смотрели и обсуждали одно и то же, образы и цитаты из фильмов расходились «в народе», использовались в СМИ с расчетом на мгновенную узнаваемость, превращались в объекты вторичного культурного производства – например, пародийно переосмыслялись в анекдотах – и тем самым формировали советскую массовую культуру.
Ссылаясь на Д. Белла, А. В. Кукаркин рассуждает о «культурном авитаминозе», свойственном обществу потребления: «Применительно к искусству культурный авитаминоз проявляется в игнорировании или фальсификации происходящего социально-политического процесса с его противоборством классов… в неправомерном наделении ведущими функциями чисто развлекательных жанров, будь то мелодрама, детектив или эстрадная музыка[249 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 9.]». Такое искусство, используя дефиницию Н. А. Добролюбова, можно назвать «теневым», или «ложным», поскольку оно лишь «сопутствует» высокому искусству, преимущественно реалистическому по своему характеру.
Показательным выглядит игнорирование автором изобилия развлекательных, «сопутствующих» жанров советского искусства – начиная от цирка и заканчивая, опять-таки, литературой, в которой успели «освоиться» и «обжиться» к моменту публикации работы А. В. Кукаркина такие формулы массовой культуры, как детектив (произведения А. Г. Адамова, П. Ф. Нилина, С. А. Высоцкого и др.), мелодрама (повести Г. Н. Щербаковой, пьесы А. Н. Арбузова и А. М. Володина и др., а также сценарии многочисленных фильмов и телефильмов, составивших «золотой фонд» советского кинематографа – говоря о советской массовой культуре, эти образцы массового искусства ни в коем случае нельзя не упомянуть) и даже фантастика, научная и не слишком (произведения И. А. Ефремова, братьев Стругацких, В. С. Шефнера, Г. С. Альтова и др.). По всей видимости, развлекательный «элемент» в этих формулах для А. В. Кукаркина нивелировался «гуманистическим пафосом» (тоже расхожее клише тех лет) советской литературы, хотя, скажем, к произведениям В. С. Шефнера вполне применим упрек в «ложном романтическом эскапизме», который Кукаркин предъявляет массовой культуре: «Представляется, что к кругу явлений современной буржуазной массовой культуры могут быть отнесены прежде всего те произведения псевдодокументальных, спекулятивно-политических, уголовно-детективных, приключенческих, мелодраматических, комедийных и других жанров, а также эстрадной и опереточной музыки, изобразительных искусств, которые отмечены печатью реакционной идеологии, конформизма, утилитарного потребительского прагматизма или ложного эскапистского романтизма…» Особенно двусмысленным кажется – на нынешний взгляд – обвинение буржуазных СМИ в тенденциозности, которой лишена советская пресса: «Кроме того, к массовой культуре Запада следует отнести значительную часть продукции средств массовой информации… Основной отличительной чертой… выступает… искажение функциональной сущности: информация теряет присущий ей объективный характер, обретает коммерческую или тенденциозную идейно-пропагандистскую окраску…[250 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 79—80. О «масс-культурности» советской прессы 1960-х – 1980-х годов см.: Никонова С. И. СМИ в идеологической системе последних десятилетий советской власти // Фундаментальные исследования. 2014. №6—2. С. 390—393.]»
Массовая культура в секуляризованном западном обществе, по мнению Кукаркина, заменяет собой религию: «Являясь не стилем… а новым типом функционирования механизма и идейного наполнения традиционной буржуазной культуры, возникшим в эпоху империализма… буржуазная массовая культура… имеет своего «прафеномена» в лице религии. Общность их характеризуется целым рядом моментов. К ним относятся:
– мифологизация сознания…
– слияние эскапистских и идеологических функций…
– насаждение духа конформизма…
Расплющив об угол застольную чашу,
Ответил Петр – в топоры!..
Нынче песня вспотела кровью и потом,
Нестерпимым, как плахи помост,
Не вчера ли к Петровым заплечным работам
Через нас перебросили мост?
Что касается художественной прозы, то с 1920-х по середину 1930-х годов все литературные произведения, в которых присутствует славянский метасюжет в различных вариациях, – это произведения эмигрантской литературы: «Пугачев-победитель» (1924) М. К. Первухина, «Царь Берендей» С. Р. Минцлова (1923), «Глаголят стяги…» (1929) И. Ф. Наживина, «На берегах Ярыни» (1930) и «Славянские боги» (1936) А. А. Кондратьева были написаны и опубликованы за рубежом[185 - О фантастической и исторической прозе 1920-х – 1930-х гг. см.: Николаев Д. Д. Русская проза 1920-1930-х годов: авантюрная, фантастическая и историческая проза. М., 2006.].
Учитывая данное обстоятельство, не будет преувеличением сказать, что эти произведения не оказали ни малейшего влияния на «восстановление» славянского метасюжета в советской «прото-массовой» культуре[186 - В сферу научного познания роман А. А. Кондратьева «На берегах Ярыни» вошел благодаря монографии В. Н. Топорова «Неомифологизм в русской литературе начала ХХ века. Роман А. А. Кондратьева „На берегах Ярыни“» (1990), а широкий читатель познакомился с творчеством Кондратьева только в 1993 г., когда издательство «Северо-Запад» опубликовало сборник избранной прозы писателя «Сны». О творчестве А. А. Кондратьева см.: Пивоварова И. А. Особенности жанра мифологического романа в творчестве А. А. Кондратьева // Известия ВГПУ. 2012. №11. С. 138—141; Воронина Т. Н. Эволюция творчества А. А. Кондратьева от «Сатирессы» до романа «На берегах Ярыни». Диссер. канд. филол. наук. Вологда, 2012.]. Зато, безусловно, такое влияние – пусть и опосредованное – оказали идеи национал-большевизма, который довольно долго поощрялся новой властью: программный для этого движения сборник «Смена вех», впервые опубликованный в 1921 г. в Праге, был на следующий год дважды переиздан Госиздатом, в Петрограде выходил сменовеховский журнал «Новая Россия», а статьи из зарубежного журнала «Смена вех» и газеты «Накануне» регулярно перепечатывались в «Правде» и «Известиях»[187 - Подробнее об идеологии национал-большевизма и распространении его идей в Советской России см.: Малинова О. Ю. Россия и «Запад» в XX веке: Трансформации дискурса о коллективной идентичности. М.: РОССПЭН, 2009. С. 40—60; Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж: YMCA-Press, 1980; Краус Т. Советский Термидор: Духовные предпосылки сталинского переворота (1917—1928). Будапешт: Венгерский институт русистики, 1997.]. Основная идея национал-большевизма сводилась к идеологеме «Великой России», понимаемой «вне каких-либо ценностных ориентиров – либеральных, социальных или консервативных»; поэтому революция виделась сменовеховцам прежде всего великой национальной революцией, а государственный патриотизм позволял трактовать «призывы к интернационалу» как «национальные русские лозунги»[188 - Львов В. Н. Советская власть в борьбе за русскую государственность. М.: Аврора, 1922. С. 24.]. Пусть самих национал-большевиков, вернувшихся из эмиграции, ожидала трагическая участь[189 - Лидеры сменовеховцев Н. В. Устрялов, Ю. В. Ключников и А. В. Бобрищев-Пушкин были расстреляны в 1937—1938 гг., В. Н. Львов умер в колонии, арестованный по обвинению в экономической контрреволюции.], мобилизационный потенциал их идей был осознан и частично воспроизведен советской властью, в том числе и в процессе возрождения славянского метасюжета русской культуры.
Вполне вероятно, что постепенная «реабилитация» русского национализма со стороны власти была продиктована именно мобилизационными соображениями. Как указывает Ф. Шенк, ближе к середине 1930-х годов в политическом лексиконе появилось понятие «советский патриотизм», которое «в период мощных социально-экономических переломов (индустриализации и коллективизации) … было призвано усилить легитимирующую основу режима и повысить готовность страны к обороне». При этом в качестве образца предполагалось использовать российский имперский патриотизм: «В отличие от молодого Советского государства, считавшего Октябрьскую революцию и гражданскую войну… элементами своего космогонического мифа и стремившегося встраиваться разве что в русскую или европейскую традицию народных восстаний, СССР тридцатых годов признал себя историческим продолжением Российского государства „поверх“ исторического перелома 1917 г.»[190 - Шенк Ф. Б. Александр Невский в русской культурной памяти. С. 280.]. Схожего мнения придерживается и Д. Бранденбергер, который видит побудительную причину «сталинского духовного переворота» в экономических неурядицах конца 1920-х годов, усугубленных дипломатическим кризисом 1927 г., когда Великобритания разорвала отношения с СССР, а в Польше был убит советский полпред: «…партийная верхушка принялась с большей настойчивостью искать способ дополнить туманную материалистическую пропаганду более понятными и привычными для рядовых советских граждан лозунгами[191 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 39.]». На всесоюзной конференции 1931 г. И. В. Сталин упомянул об отечестве: «У нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость[192 - Сталин И. В. О задачах хозяйственников: Речь на первой Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности. 4 февраля 1931 г. // Вопросы ленинизма. М., 1934. С. 445. По замечанию И. И. Сандомирской, также вошло в обиход «оксюморонное» выражение «отечество мирового пролетариата»; см.: Сандомирская И. Книга о Родине: опыт анализа дискурсивных практик. Wien: Wiener Slawistischer Almanach, 2001.]»; для соблюдения идеологической корректности этому понятию было добавлено определение «социалистическое», и конструирование коллективной идентичности возобновилось – уже с опорой на руссоцентризм[193 - Ср. рассуждения советского публициста Б. М. Волина о национализме и интернационализме: «Только тот подлинный интернационалист, кто… полон национальной гордости за свой мужественный, свободолюбивый народ… создавший русский революционный пролетариат… выработавший одну из наиболее передовых культур – русскую культуру…» (Волин Б. Великий русский народ. М.: Молодая гвардия, 1938).]. «Русские национальные образы, – по замечанию Д. Бранденбергера, – были использованы в расчете на их мобилизационный потенциал, а не потому, что они награждали русских особой политической идентичностью[194 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 268.]». Отныне советская история начиналась не с революции, а рассматривалась как «преемница» тысячелетней истории России, преподавание истории в школе отделили от обществоведения, а инициатору их объединения, академику М. Н. Покровскому, в 1934 г. было посмертно строго указано на ошибки в трактовке исторических процессов (два года спустя его обвинили в антимарксистских и «ликвидаторских» взглядах на историческую науку, школа Покровского подверглась разгрому, а подготовленные этой школой учебники истории были переписаны в соответствии с «реабилитирующей» русскую историю концепцией).
Так или иначе, с середины 1930-х годов о великорусском шовинизме, которого так опасался В. И. Ленин, больше не вспоминали. Национализм, прежде всего культурный, был «восстановлен в правах», и вместе с ним в отечественную культуру возвращается славянский метасюжет.
В первую очередь это стало заметно по плакатной графике – основному инструменту агитации и пропаганды в стране, где до сих пор велась активная кампания по ликвидации неграмотности. В предыдущее десятилетие в агитационных плакатах изредка встречались образы, в которых можно было усмотреть перекличку с дореволюционными манифестациями славянского метасюжета (например, на известном плакате В. Н. Дени изображен всадник-Троцкий, поражающий копьем дракона «мировой контрреволюции»), но в 1930-х эти трансформированные образы уступили место «возрожденным» историческим и фольклорным персонажам. Ф. Шенк приводит в своей книге репродукцию киноафиши (1938) к фильму С. М. Эйзенштейна «Александр Невский» (собственно, и сам фильм демонстрировал изменение государственной патриотической политики) и репродукцию плаката «по мотивам» этой афиши: князь изображен крупным планом, в шлеме и плаще на плечах, на фоне русского войска (в первом случае) или скачущей на врага дружины; на плакате Г. К. Шубиной «Широка страна моя родная» того же года женский образ во многом предвосхищает знаменитую «военную» Родину-Мать И. М. Тоидзе (визуализация гендерного стереотипа Руси-матушки[195 - См.: Рябов О. В. Россия-матушка. История визуализации // Границы: Альманах Центра этнических и национальных исследований ИвГУ. Иваново, 2008. Вып. 2: Визуализация нации. С. 7—36; он же: Mother Russia: гендерный аспект образа России в западной историософии // Общественные науки и современность. 2004. №4. С.116—122.]); в подписях к рисункам появляются ранее «табуированные» слова – «богатырь», «витязь» и пр. (правда, нередко с уточнением – «советский богатырь», как на плакате В. И. Говоркова 1935 г.)[196 - О советском плакате 1930-х годов см.: Голомшток И. Тоталитарное искусство. М.: Галарт, 1994; Агитмассовое искусство Советской России. Материалы и документы: Агитпоезда и агитпароходы. Передвижной театр. Политический плакат. 1918—1932. М.: Искусство, 2002; Символы эпохи в советском плакате. М.: ГИМ, 2001; Никонова О. Ю. Советский патриотизм на плакате: визуализация любви к родине в 1930-е годы // Вестник Пермского ун-та. Сер. История. 2012. №1/18. С. 278—288.]
Тому же вектору развития национального патриотизма соответствовали новые государственные праздники – к примеру, Пушкинские дни в феврале 1937 года. Былые призывы «сбросить Пушкина… с парохода современности» остались в прошлом: в передовице «Правды» за 10 февраля сообщалось, что Пушкин «глубоко национален», поэтому он «стал интернациональным поэтом». В том же году было пышно отпраздновано 125-летие Бородинской битвы; двумя годами ранее отмечалось 750-летие «Слова о полку Игореве», в 1939 году были устроены торжества в честь 250-летия Полтавской битвы, и т. д. «Соотношение общегражданской и революционной истории… изменилось в пользу первой[197 - Родионова И. В. Становление концепции советского патриотизма // Власть. 2009. №4. С. 152—156.]», отныне Советская Россия представлялась как наследница лучших традиций многовековой русской истории.
Советские литераторы отреагировали на изменение политики партии с некоторым опозданием. Так, поэту Демьяну Бедному, автору либретто к опере А. Я. Таирова «Богатыри» (1936), партийным руководством было строго указано на недопустимость пародирования образов и сюжетов легендарной русской истории (былинные богатыри у Бедного выведены пьяницами, князь Владимир – самодуром, а подлинными героями оказываются разбойники): «спектакль <…> огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются <…> носителями героических черт русского народа»[198 - О пьесе «Богатыри» Демьяна Бедного. Постановление Комитета // Правда. 1936. 14 ноября. Подробнее см.: Богданов К. А. Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 107 и далее.]. Вероятно, по тем же соображениям была запрещена к постановке после генеральной репетиции пьеса М. А. Булгакова «Иван Васильевич» (1936), значительно позднее использованная Л. И. Гайдаем как основа сценария для чрезвычайно популярной по сей день кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию» (1973). Во всяком случае, «тенденциозное изображение русской старины», насколько можно судить по воспоминаниям вдовы М. А. Булгакова, было одним из обвинений в адрес драматурга и режиссера[199 - Лосев В. И., Яновская Л. М. (сост.) Дневник Елены Булгаковой. М.: Книжная палата, 1990. Точка зрения Д. Бранденбергера, который считает утвердившийся в государственной политике руссоцентризм единственной причиной запрета пьесы, представляется, однако, чрезмерно упрощенной, как и точка зрения Я. С. Лурье, который видит в запрете исключительно отражение того обстоятельства, что «Булгаков вышел из доверия партийной верхушки». На наш взгляд, в этой ситуации следует говорить о совокупном влиянии комплекса причин, в том числе о пропагандистской «реабилитации» Ивана Грозного как собирателя русских земель – о чем, кстати, подробно рассказывает сам Д. Бранденбергер; фантасмагория М. А. Булгакова никак не соответствовала этой новой идеологической установке. См.: Platt K. M. F., Brandenberger D. Terribly Romantic, Terribly Progressive, or Terribly Tragic: Rehabilitating Ivan IV under I.V. Stalin // Russian Review. 1999. Vol. 58. N. 4. P. 635—654; Лурье Я. С. Иван Грозный и древнерусская литература в творчестве М. Булгакова // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 45. СПб.: Наука, 1992. С. 315—321; Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 112—133.]. (Правда, не только литераторы запаздывали с реакцией на изменения в государственной политике: в том же 1936 г. главный редактор газеты «Известия», председатель комиссии по истории знаний и соратник Ленина Н. И. Бухарин позволил себе на страницах газеты упомянуть о русском народе до 1917 года как о колониальной «нации Обломовых» – и подвергся суровой критике[200 - Бухарин Н. И. Наш вождь, наш учитель, наш отец // Известия. 1936. 12 января. С. 2; Об одной гнилой концепции // Правда. 1936. 10 февраля. С. 3; Леонтьев А. Ценнейший вклад в сокровищницу марксизма-ленинизма // Правда. 1936. 12 февраля. С. 4; Дымерская Л. Демарш против Сталина? // Новое литературное обозрение, 1998. №3. С. 1444—154.].)
Подобное внимание власти к древнеславянской тематике, наряду с изданием многочисленных фольклорных сборников и научных работ по данному направлению, обуславливалось постепенным оформлением официального историографического канона, призванного продемонстрировать поступательность отечественной истории – от былинных богатырей до «нашего времени – времени эпоса»[201 - Бачелис И. Сергей Эйзенштейн // Известия. 1940. 11 февраля. С. 4. См. также очерк К. А. Богданова «Об эпосе и эпопее» // К. А. Богданов. Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 127—139]. В этих условиях культурный национализм превратился, как отмечают К. Платт и Д. Бранденбергер, в способ ««мифологизировать настоящее как сцену триумфальной победы над внутренними и внешними врагами, стихиями, самим временем под предводительством здравствующего вождя»[202 - Platt K. M. F., Brandenberger D. Terribly Romantic, Terribly Progressive, or Terribly Tragic: Rehabilitating Ivan IV under I.V. Stalin. P. 653.]. Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что в рамках нового историографического канона обезличенный «пролетариат» из революционной и постреволюционной пропаганды предыдущих лет уступает место иному «социальному воображаемому» (Ч. Тейлор) —«народу», жизнь, творчество и «корни» которого, по В. И. Ленину, должны отражать наука и искусство. Причем если первоначально в публицистических и художественных текстах под «народом», как правило, подразумевался народ-население, народ-граждане («рабочий народ», «трудовой народ», «масса трудящихся», «прогрессивные силы общества во главе с пролетариатом» и аналогичные пропагандистские клише[203 - См., например: Каммари М. Д., Глезерман Г. Е. (ред.). Роль народных масс и личности в истории. М.: Государственное издательство политической литературы, 1957.]), то постепенно эта лексема приобрела значение народа-нации, конкретно – русского народа; ср.:
И ты глядишь на цепь знакомых рот,
На Сидоровых, Павловых, Петровых,
И видишь не соседей, а народ,
И волю, а не линию винтовок
(И. Л. Сельвинский); «…суровый, смелый / Народ наш многое постиг» (И. П. Уткин). Подобно «пролетариату», этот «народ» мыслится особым существом, самостоятельной личностью, обладающей конкретными свойствами – богатырь, труженик и пр., но главной характеристикой, имплицитной или эксплицитной, становится именно этническая; по замечанию С. Г. Воркачева, в текстах данного периода «русский народ представляет собой рефлексивное порождение своей родины как географической, исторической, социальной и духовной среды обитания»[204 - См.: Воркачев С. Г. Лингвоидеологема «народ» в зеркале русской поэзии // Научный диалог. 2013. №5 (17). Филология. С. 50—71; он же: Singularia tantum: идеологема «народ» в русской лингвокультуре. Волгоград: Парадигма, 2013; Королев А. А. Этноменталитет: сущность, структура, проблемы формирования. М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2011.]. (Мало кто вспоминал – если вспоминал вообще – слова Л. Н. Толстого из письма 1881 года: «Что такое народ, народность, народное мировоззрение? Это ничто иное, как мое мнение с прибавлением моего предположения о том, что это мое мнение разделяется большинством русских людей[205 - Цит. по: Рассадин С. Б. Советская литература. Побежденные победители. М.: Новая газета, 2006. С. 202.]»; данная метафорика «народности», к слову, сохраняет популярность по сей день, в политическом и в социокультурном нарративе.)
Конечно, сохранялись и другие значения лексемы «народ»; пожалуй, самый показательный пример – «комбинация» этнического и гражданского смыслов в словосочетании «враги народа». Кроме того, определение «народный» использовалось и для обозначения артефактов традиционной, прежде всего крестьянской культуры, особенно культуры, «преображенной советской действительностью», будь то палехские миниатюры или «новины» М. С. Крюковой[206 - О советском Палехе см.: Вихрев Е. Ф. Палех. М.: Недра, 1930; он же: Родники. М.: Советская Россия, 1984; Зиновьев Н. М. Искусство Палеха. Л.: Художник РСФСР, 1975; Бойм С. Китч и социалистический реализм // Новое литературное обозрение. 1994. №15. С. 54—65. О творчестве М. С. Крюковой и советском псевдо-сказительстве см.: Иванова Т. Г. О фольклорной и псевдофольклорной природе советского эпоса; Миллер Ф. Сталинский фольклор; Доклад фольклориста А. М. Астаховой «Пути развития русского советского эпоса» на совещании, посвященном советской былине во Всесоюзном доме народного творчества 26 апреля 1941 года // Фольклор России в документах советского периода 1933—1941 гг.: Сборник документов. М.: Республиканский центр русского фольклора, 1994. С. 202—222; Юстус У. Вторая смерть Ленина: функция плача в период перехода от культа Ленина к культу Сталина // Соцреалистический канон. СПб.: Академический проект, 2000. С. 026—952; Добренко Е. Метафора власти. С. 104—112; Козлова И. В. Фольклор в свете идеологического дискурса 1930-х годов // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. Вып. 74—1. С. 236—243.], но далеко не всегда при анализе текстов тех лет можно вне контекста установить, что скрывается за понятием «народное искусство» – это может быть и фольклор, и «новый» фольклор, и искусство, в ленинской формулировке, созданное советским / русским народом и для советского / русского народа. Однако в целом для отечественной риторики второй половины 1930-х годов и позже свойственно именно этническое (этнополитическое и этнокультурное) толкование лексемы «народ». Более того, и самоидентификация советских людей в эти годы во многом становится этнической, то есть советско-русской, что сделалось особенно заметным в ходе Великой Отечественной войны: как писал советский офицер и будущий академик АН СССР Н. И. Иноземцев, «теперь, на базе нового государственного строя… есть все предпосылки к тому, чтобы понятия „родина“, „отечество“ стали недосягаемо высокими… впитываемыми с молоком матери… Родина – это мы. Русские – самый талантливый, самый одаренный, необъятный своими чувствами… народ в мире[207 - Иноземцев Н. И. Цена победы в той самой войне: фронтовой дневник. М.: Наука, 1995. С. 164. Другие примеры этнической самоидентификации советских людей той эпохи см. в указанных работах Д. Бранденбергера и Ф. Шенка (в том числе в библиографии), а также в книге Ш. Фицпатрик «Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века» (М.: РОССПЭН, 2011).]».
Советская литература сделала правильные выводы из показательного партийного выговора Д. Бедному. Драматург В. В. Вишневский, выступая на совещании актива оборонных писателей в 1937 году, рассуждал с трибуны о том, что в литературе «проблема национальная – особенно русская – годами была в загоне, Россия не существовала», но присутствовала «в каждом из нас, в нашей крови, в костях, во всем… это вековое»[208 - Цит. по: Родионова И. В. Роль деятелей культуры в формировании сознания советского общества (1917—1953) // Власть. 2011. №11. С. 140.]. В канву новой патриотической политики удачно вместились исторические романы – «Петр Первый» (1934) А. Н. Толстого, «Лютая зима» (1936) С. Н. Сергеева-Ценского, «Чингисхан» (1939) В. Г. Янчевецкого (Яна), «Козьма Минин» (1939) В. Н. Костылева, «Дмитрий Донской» (1940) С. П. Бородина.
Впрочем, применительно к славянскому метасюжету в строгом понимании этого термина советская литература данного периода, если не считать упоминавшегося выше либретто Д. Бедного и, с оговорками, «Малахитовой шкатулки» (1939) П. П. Бажова[209 - Поскольку в уральских сказах, которые легли в основу «Малахитовой шкатулки», тесно переплетены условно-древнеславянские мотивы и фольклор угорских народов, однозначное отнесение текстов П. П. Бажова к славянскому метасюжету русской культуры видится необоснованным. С другой стороны, как писали современники, «в волшебный мир старых уральских сказов Бажов помещал живых русских людей, и они своей реальной, земной силой побеждали условность сказочной волшебности»; присутствие в бажовских произведениях этих «живых русских людей» наряду с тщательно соблюдаемой автором лексической и интонационной стилизацией текстов «под фольклор» все-таки позволяет причислить «Малахитовую шкатулку» к ранним советским манифестациям славянского метасюжета. О творчестве П. П. Бажова см.: Блажес В. В. О фольклоризме бажовских сказов: Полемические заметки // Литература и фольклор. Свердловск, 1976. С. 79—97; Перцов В. О. О Павле Бажове и фольклоре // Писатель и новая действительность. М.: Советский писатель, 1961. С. 391—399; Булычев К. Оборотни [О сказах П. П. Бажова] // Юность.1992. №9. С. 67—69; Липатов В. В. Данила-мастер: О «фарфоровом» старателе и знатоке самоцветов // Родина. 2001. №11. С. 45—46.], оставалась равнодушной, несмотря на пропагандистскую популяризацию дискурса «эпической действительности» и реабилитацию образа славного прошлого. В советской литературе 1930-х – 1950-х годов славянский метасюжет оказался вытесненным в сферу «народного художественного творчества», причем фольклористы в этом случае выступали как своего рода литературные критики, «направляющие» и «регулирующие» процессы народного творчества[210 - О задачах советской фольклористики см.: Соколов Ю. М. Русский фольклор. М.: Наука, 1941. Любопытно, что этот учебник недавно был переиздан (М.: Изд-во МГУ, 2007; предисловие В. А. Садовничего) как актуальное и «патриотическое» (из аннотации) научное исследование – факт весьма показательный для характеристики современного культурного национализма.]. Можно предположить, что элиминация славянского метасюжета диктовалась прогрессистским пафосом идеологии социалистического реализма, в которой для «инженеров человеческих душ» не было места обращениям к легендарному прошлому; как утверждалось в уставе Союза писателей СССР, принятому на Первом съезде СП в 1934 году, «социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии. Причем правдивость и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма»[211 - Устав Союза писателей СССР // Первый Всесоюзный съезд советских писателей: стенографический отчет. М., 1934. С. 716.] (курсив мой. – К. К.).
Особняком, вне соцреалистического канона – и все же пытаясь ему соответствовать, – стоял М. М. Пришвин, чьи романы-сказки, или романы-очерки, 1920-х и 1930-х годов так и не обрели окончательной авторской редакции: из дневников Пришвина известно, что он на протяжении почти тридцати лет постоянно переписывал эти тексты, пытаясь достичь некоего идеала. Впрочем, даже в «незавершенном» виде эти произведения переносят читателя в мифологизированный мир славянского метасюжета, прежде всего – мир «исконного» леса, причудливо сочетающийся по воле автора с советской действительностью, будь то почти безлюдные карельские дебри («Кащеева цепь»), болотистые «заповедные края» под Сергиевым Посадом («Родники Берендея»), нетронутый лес («Корабельная чаща») или местность вдоль русла Беломорско-Балтийского канала («Осударева дорога»). По замечанию критика А. Н. Варламова, «старейший советский писатель», как Пришвин любил себя называть, создавал волшебные местности, «где действуют свои правила, не такие, как в реальной советской жизни, а сказочные, мифологические, но и не столь выдуманные, как в ремизовском мире, а приближенные к природе вещей[212 - Варламов А. Н. Пришвин, или Гений жизни. Биографическое повествование. М.: Молодая гвардия, 2003. С. 311.]». Во многом благодаря Пришвину в советской «прото-массовой» культуре тоталитарного периода «уцелело» само упоминание о Берендеевом царстве – соотнесенном территориально с местностью вокруг железнодорожной станции Берендеево под Переславлем-Залесским[213 - Многочисленные современные «Берендеевы царства» – пансионаты, рекреационные комплексы, зоны отдыха и т. д. – своим названием обязаны пьесе А. Н. Островского «Снегурочка» (1873) и одноименной опере Н. А. Римского-Корсакова (1885), «реабилитированным» наряду с остальной русской «сказочной» классикой в середине 1930-х годов; пьеса вошла в «академический» репертуар советских театров, опера регулярно ставилась на советской музыкальной сцене, вокальные партии в ней исполняли, в частности, С. Л. Лемешев и И. С. Козловский, выпускались грампластинки, вследствие чего в массовой культуре позднесоветского периода о царстве «странных берендеев», как выражался сам Римский-Корсаков, были «наслышаны». А М. М. Пришвина, творчество которого затрагивалось советской школьной программой, причислили к писателям-«природоведам» вместе с К. Г. Паустовским и В. Л. Бианки; его «сказочные» произведения, принадлежащие перу человека, который писал в дневнике: «Историю великорусского племени я содержу лично в себе, как типичный и кровный его представитель», ныне почти забыты, за исключением детской повести «Кладовая солнца» (1945). О творчестве М. М. Пришвина, помимо указанной монографии А. Н. Варламова, см.: Борисова Н. В. Жизнь мифа в творчестве М. М. Пришвина. Елец: Изд-во ЕГУ, 2001; Рудашевская Т. М. М. М. Пришвин и русская классика СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005; Овчинникова Л. В. «Сказка – это выход из трагедии?» Особенности творческих поисков М. М. Пришвина (1940-е – 1950-е гг.) // Вестник МГГУ. Филологические науки. 2009. №1. С. 15—27.].
Другим «сказочным» топонимом, в сохранение которого в советской культуре внес свою лепту и Пришвин, был невидимый град Китеж, который неоднократно упоминается в «Кащеевой цепи» и в «Осударевой дороге» и которому писатель посвятил отдельный очерк «У стен града невидимого (Светлое озеро)» (1909). Мифологема Китежа стала весьма популярной в культуре Серебряного века благодаря опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» (1907) – популярной настолько, что образ города, по старообрядческой легенде XVIII века, воспроизведенной в романе «В лесах» (1871 – 1874) П. И. Мельникова-Печерского, города, опустившегося на дно озера, чтобы не сдаваться врагу, сделался своего рода культурным клише: отсылки к легенде, прямые упоминания Китежа, метафорические переосмысления этого образа встречаются в стихах А. А. Ахматовой, М. А. Волошина, С. А. Есенина и других поэтов, «сокровенный град» изображен на полотнах М. В. Нестерова и К. И. Горбатова, и даже будущий «пролетарский писатель» А. М. Горький процитировал духовный стих о Китеже в повести «В людях» (1916). После революции советская литература образ Китежа актуализировала исключительно в поэзии, как упоминалось выше, – мессианизм этого образа был вытеснен новым, коммунистическим мессианизмом, лишь эмигранты, как Н. К. Рерих, и «попутчики революции», наподобие М. А. Волошина и Н. А. Клюева, изредка позволяли себе ностальгию по утраченной жизни, персонифицированной в мифологеме Китежа; пришвинский постреволюционный Китеж (в романах) также упоминается и описывается ностальгически[214 - О пришвинском понимании Китежа см.: Иванов Н. Н. Мифопоэтика повести М. Пришвина «У стен града невидимого» // Ярославский педагогический вестник. 2010. №4. Т. 1. С. 255—257. О китежской легенде, ее происхождении и развитии см.: Товбин К. М. Архетип «сокровенного града» в символическом пространстве старообрядчества // Культурная и гуманитарная география. 2013. Т. 2. №2. С. 153—158; Гроза А. Б. Музеефикация культурного ландшафта (на примере озера Светлояр и легенды о сокровенном граде Китеже) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2008. №70.]. Следует отметить, что опера Н. А. Римского-Корсакова вернулась на сцену уже в начале 1930-х годов, в 1934 году ее заново представил публике Большой театр, и с тех пор эта опера оставалась в репертуаре советских музыкальных коллективов[215 - Об истории создания оперы и ее рецепции см.: Горячих В. В. О жанровой природе «Китежа» Н. А. Римского-Корсакова // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. №99.], что обеспечивало постоянное «присутствие» Китежа в пространстве советской культуры. Причем это «присутствие» было настолько выраженным, что его периодически пытались демифологизировать: вероятно, первым произведением такого рода можно считать приключенческий роман М. Е. Зуева-Ордынца «Сказание о граде Ново-Китеже» (1930), по сюжету которого советские военные случайно обнаруживают в глухой сибирской тайге город, основанный выходцами из старообрядческого Китежа и «застрявший» по стилю жизни в XVII столетии; столкновение с советской действительностью заканчивается пожаром, уничтожившим город, и новым бегством китежан. Забегая вперед, укажу, что «окончательная» демифологизация Китежа в советской литературе состоялась в 1970-х – 1980-х годах – в «Сказке о тройке» и повести «Понедельник начинается в субботу» братьев Стругацких, в повести «Чистые воды Китежа» В. Ф. Тендрякова (подробнее см. далее); при этом мифологическая составляющая образа также не утратила актуальности, о чем свидетельствует, к примеру, стихотворный цикл В. П. Бетаки «Китеж» (1973):
Сколько в России
Светлых озер,
Столько раз Китеж
В воду ушел.
Град потаенный —
В волнах, а над
Плесом – беленый
Выторчал ад…
Главным «демифологизатором» славянского метасюжета была не литература, а кино. Советский кинематограф, который постепенно становился основным инструментом пропаганды и занимал лидирующие позиции среди видов советского искусства, в культурном поле «русского духа» достаточно быстро сформировал тенденцию «карнавализации» славянского метасюжета, когда условно-древнеславянские образы, мотивы и сюжеты переосмыслялись комически, древнерусская героика утрировалась, а мировоззренческая составляющая традиционной культуры тщательно «подчищалась» и даже высмеивалась. При этом обнаруженные «национальные корни» старательно деидеологизировались, и в результате славянский метасюжет оказался вытесненным на стык двух локальных полей – детской культуры и «славянского (древнерусского) китча» (под последним понимается утрированное воспроизведение лингвистических и художественных представлений о «древнерусском», бытующих в коллекивном знании).
Уже первые фильмы-сказки – «По щучьему велению» (1938) и «Василиса Прекрасная» (1939) – А. А. Роу интерпретировали славянский метасюжет в пародийно-сатирическом ключе; более того, данные фильмы позиционировались как детское сказочное кино, и это позиционирование подчеркивало отношение официальной идеологии к славянской традиции в советской культуре: как и большинство последующих, эти киноленты «потешны», персонажи славянского фольклора в них предстают как комические образы, и фольклорные сюжеты трактовались комически. Даже фильмы по классическим литературным произведениям, будь то «Руслан и Людмила» (1938) И. С. Никитченко и В. П. Невежина или «Конек-горбунок» (1941) А. А. Роу, балансировали на грани «потешности». Эту особенность советских сказочных фильмов уже давно подметили исследователи массовой культуры и публицисты; так, К. А. Крылов, рассуждая о денационализации русской культуры, пишет: «Киносказки Роу, на которых выросли несколько поколений отроков и отроковиц, приучили нас к тому, что „свое“ непременно забавно»[216 - Крылов К. А. Рассуждение о русской фэнтези. Отмечу здесь, что значительная заслуга в абсурдизации образов славянского фольклора принадлежит Г. Ф. Милляру, неоднократно игравшему Кощея и бабу-ягу в сказочных советских фильмах. В исполнении Милляра эти персонажи приобрели выраженные гротескные черты, которые и закрепились в массовом сознании. О советском кино 1930-х – 1950-х гг. см.: Закиров О. А. Исторические фильмы СССР 1936—1946 гг. М., 2011; Лубашова Н. И. Феномен отечественной кинематографии в социокультурном пространстве России XX века. Тамбов, 2009; Спутницкая Н. Ю. Волшебная сказка и фольклорные традиции в российском детском кино. М., 2010; она же: Сказочный герой на киноэкране: опыт А. А. Роу // Ученые записки. Электронный журнал Курского ГУ. 2020. №3. URL: http://www.scientific-notes.ru/pdf/015-030.pdf (http://www.scientific-notes.ru/pdf/015-030.pdf). Дата доступа 30 августа 2017 г.; она же: Кино и фольклор. Попытка терминологического экскурса с библиографией и фильмографией // Кинограф. 2008. №18. С. 232—284.]. (Подробнее о влиянии советского кинематографа на стереотипы коллективного знания, как позднесоветского, так и современного, и на формирование деконструкционистского направления в славянском фэнтези см. далее.)
В целом тридцатые годы XX столетия в отечественной истории – это период появления государственного национализма. По замечанию Д. Бранденбергера, «в течение 1930-х годов партийное руководство было настолько озабочено государственным строительством, массовой мобилизацией и обретением легитимности, что прибегало к руссоцентризму как к популистской идеологии… В поисках более сильной вдохновляющей идеи Сталин и узкий круг его приближенных в итоге остановились на руссоцентричной форме этатизма как на самом действенном способе поддержать государственное строительство и достичь массовой лояльности режиму»[217 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 8. См. также: Агурский М. Идеология национал-большевизма.]. Этот отказ от «революционного утопического интернационализма» в пользу «исторического нарратива, который бы подчеркнул господствующее значение русского народа в строительстве государства на протяжении всей истории»[218 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. С. 61.], был постепенным и предусматривал итоговую фиксацию тысячелетней истории Советского Союза – от Киевской Руси до текущего момента.
Д. Бранденбергер выделяет три категории системы националистических образов, сложившихся в государственной идеологии и массовой культуре к концу предвоенного десятилетия. «Во-первых, оказались популяризированы конкретные исторические даты, события, герои дореволюционной эпохи… они выдвигали на первый план этатистские темы, касающиеся формирования и сохранения империи Романовых, а также ее предшественниц, – Московской и Киевской Руси… Во-вторых, русский народ был провозглашен „первым среди равных“. Направленная на ревальвацию отдельных русских государственных строителей, пропаганда в отношении русского народа в целом велась различными способами, от простого признания роли в строительстве государства до более шовинистского фокуса на приписываемом ему передовом культурном положении и статусе „старшего брата“ по отношению к нерусским народам… Третий феномен, тесно связанный с более преувеличенными аспектами довоенного руссоцентризма, можно было бы обозначить как сталинский ориентализм. Эта идеология, будучи следствием гегельянского отождествления русских с „историческим народом“, состоящим из славных строителей государства, предполагала, что нерусские народы не могут похвастаться подобным происхождением»[219 - Ibid. С. 114.].
Пропагандистская идеологема русского народа как «первого среди равных» приобрела особое значение в официальной риторике и в советском искусстве в годы Великой Отечественной войны. Мобилизационный потенциал этой риторики оказался чрезвычайно востребованным – как сказал И. В. Сталин представителю США А. Гарриману в сентябре 1941 года: «Мы не тешим себя иллюзией, будто солдаты сражаются за нас. Они сражаются за Родину-мать»[220 - Цит. по: Майнер С. Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая политика, 1941—1945. М.: РОССПЭН, 2010. С. 100.]. Славянский метасюжет в эти годы актуализируется до такой степени, что становится неотъемлемой частью советского культурного нарратива. На плакатах обязательно изображаются древнерусские витязи (даже на знаменитом плакате Кукрыниксов «Внуки Суворова, дети Чапаева» 1941 года присутствует, наряду с самими А. С. Суворовым и В. И. Чапаевым, русский богатырь – вероятно, подразумевался Александр Невский как «победитель тевтонов»[221 - Мифологизация «Ледового побоища» 1242 г. в восприятии советских людей во многом проистекала из усилий советской предвоенной и военной пропаганды, а также явилась следствием грандиозной популярности кинофильма «Александр Невский» (1938) С. М. Эйзенштейна, в котором эта малозначительная по своим последствиям пограничная схватка была показана как ключевой эпизод противостояния Руси «тевтонскому» нашествию. Такая трактовка сражения на Чудском озере сама есть манифестация славянского метасюжета в русской культуре: образ Александра-победителя тевтонов конструировался в отечественной традиции фактически с конца XIII века – с появления «Повести о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра». О полемике историков относительно значимости битвы на Чудском озере и о конструировании образа Александра Невского как защитника Руси см. указанную работу Ф. Шенка, особенно с. 50—235. Примером публицистической репрезентации этой мифологемы в советской культуре может служить работа А. И. Козаченко «Ледовое побоище» (М., 1938), а примером репрезентации литературной – одноименная поэма К. М. Симонова (Знамя. 1938. №1. С. 182—206). Анализ возникновения данного исторического мифа см. в работе: Ostrowski D. Alexander Nevskii’s «Battle on the Ice»: the Creation of a Legend // Russian History / Histoire Russe. 33. Nos. 2-3-4 (Summer-Fall-Winter 2006). P. 289—312. Д. Островски выделяет пять «культурных слоев» конструирования мифологемы «Ледового побоища» – от государственно-политического до протестно-религиозного.]) и сцены эпической героики; в живописи и книжной графике обретают чрезвычайную популярность условно-древнеславянские сюжеты и мотивы. Книжная графика в иллюстрированных публикациях фольклорных текстов, прежде всего былин, ориентировалась на «романтический национализм» В. М. Васнецова, который, по мнению К. А. Богданова, «оказывается отныне созвучен патриотическому воспитанию и стилистической топике эпохи позднего сталинизма»[222 - Богданов К. А. Снова об эпосе // Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 157.]. В годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы живопись обращалась к сюжетам древнерусской истории, подчеркивая героику и символизм противостояния врагу – упомяну лишь некоторые работы: триптих «Александр Невский» П. Д. Корина (1942—1943), «Утро на Куликовом поле» А. П. Бубнова (1947), «Поединок Пересвета с Челубеем» М. И. Авилова (1943) и др.; причем художественная стилистика этих полотен, опять-таки, близка васнецовскому «романтическому национализму». Тиражирование произведений Васнецова и его «продолжателей» в книжных иллюстрациях и в станковой живописи привело к формированию своего рода «канона визуализации» эпических героев, позднее банализированного в творчестве К. А. Васильева, художника, весьма популярного у поклонников славянского фэнтези и у приверженцев националистической идеологии[223 - См.: Пронин Г. В. Загадка художника Константина Васильева // Казанский альманах. 2006. №1. С.170—191; см. также сайт Клуба любителей живописи К. Васильева с характерным заголовком «Константин Великоросс» (http://veliko-ross.ru/) (http://veliko-ross.ru/)). Дата доступа 30 августа 2017 г.]. Более того, бытующее в современном коллективном знании представление о трех «главных былинных героях» – Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче – во многом обязано сюжетике картины Васнецова «Три богатыря», а вовсе не былинам, в сюжетах которых эти богатыри редко действуют вместе[224 - См.: Русские богатыри: былины и героические сказки в пересказе для детей И. В. Карнауховой. М., 1949; Былины / Вступ. статья и примеч. Н. В. Водовозова. М.: Детгиз, 1955; Илья Муромец / Подг. текстов, статьи и коммент. А. М. Астаховой. М.; Л.: Наука, 1958; Добрыня Никитич и Алеша Попович / Изд. подг. Ю. И. Смирнов и В. Т. Смолицкий. М.: Наука, 1974.]. Абсолютно справедлив тезис К. А. Богданова, который видит в тиражировании васнецовских «Богатырей» пример «эпистемологической эффективности „визуальной историографии“ – зрительного образа, гипнотизирующего наглядной „документальностью“ „исторического факта“»[225 - Богданов К. А. Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 161. Примером восприятия этого образа в отечественной массовой культуре могут служить, кстати, и российские анимационные фильмы студии «Мельница» о богатырях; вдобавок эти мультфильмы наглядно демонстрируют, помимо героической, еще одну вариацию славянского метасюжета – демифологизирующую, когда условно-славянская и условно-древнерусская топика используется в комическом контексте.]
Литературные манифестации славянского метасюжета в тот период также воспроизводили сюжеты и образы эпической героики, что вполне объяснимо; историческая достоверность этой героики значения не имела – в художественных текстах, прежде всего в так называемой окопной литературе[226 - «Карманная книжка, брошюра с очерками о выдающихся русских полководцах, умещавшаяся в полевой сумке… были самым массовым жанром исторических работ тех лет». См.: Дубровский А. М. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории феодальной России в контексте политики и идеологии (1930 – 1950-е гг.). Брянск: Изд-во БГУ, 2005. С. 577.], то есть в книжках небольшого формата, предназначенных для чтения на фронте, упоминались в одном ряду Илья Муромец и «богатырство киевское», князь Игорь и плач Ярославны, Александр Невский и Дмитрий Донской, прочие легендарные, полулегендарные и исторические личности. На обложках этих книг стояли имена А. Н. Толстого, И. Г. Эренбурга, Н. С. Тихонова и других маститых советских литераторов. Помимо обращения к героическим образам и напоминаний о подвигах прошлого авторы порой позволяли себе прямые отсылки к славянскому метасюжету; так, И. Г. Эренбург в одном из военных очерков 1942 года сравнивал Советский Союз с Китежем: «Государство, построенное на возвеличивании труда, – это тот Китеж, который искал народ», а «красный граф» А. Н. Толстой напоминал об «исконном» превосходстве русской культуры над остальными: «Славянин был воин-пахарь, воин-охотник и рыболов, не расстававшийся с мечом и рогатиной ни в поле, ни в лесу. Долгие зимы не усыпляли ум его, – в лесной глуши, в снегах, в курных избах он складывал песни и плел вязью слов волшебные сказки. Ни один народ в мире не создал столь богатой изустной литературы. В ней отражена вся его сложная, богатая, талантливая, мечтательная, пытливая, веселая и вольнолюбивая душа»[227 - Эренбург И. Г. Значение России // Война. Апрель 1942 – март 1943. М.: Военное издательство, 2002. С. 192; Толстой А. Н. Русские воины // Красная звезда. 3 августа 1941 г.]. (Для «прото-массовой», если использовать в качестве отличительного критерия качество аудитории, публицистики А. Н. Толстого вообще характерно стремление максимально «удревнить» историю Российского государства; ср.: «Киев – столь древнее место, какого, пожалуй, еще нет в Европе[228 - Толстой А. Н. Полное собрание сочинений в 15 т. Москва: ГИХЛ, 1946—1953. Т. 14. С. 236.]». ) Не удивительно, что к исходу войны тиражируемые в прессе, в литературе, в графике и живописи, в палехской лаковой миниатюре и т. д. героические образы и сюжеты «славного прошлого», под которым понималось, в том числе, и полумифическое, условно-древнерусское и условно-древнеславянское прошлое советского народа, сделались своего рода этностереотипами отечественной культуры – культуры, прежде всего, русской; как отмечал английский журналист А. Верт, «никакого разграничения между советским и русским больше не существует[229 - Werth A. Moscow «41. London: Hamish Hamilton, 1942. P. 102..]». Эти «этностереотипы» и представления об особом статусе русского народа и его истории в рамках истории человечества после войны были усвоены, обоснованы и окончательно банализированы в советской массовой культуре, а славянский метасюжет получил официальную, пусть и не полную, легитимацию. Окончательное же утверждение этого метасюжета в идеологии и культуре произошло позднее, в 1960-х – 1980-х годах.
Отступление второе. «Было время – и были подвалы, было дело – и цены снижали…[230 - Высоцкий В. С. Баллада о детстве.]», или Когда советская культура стала массовой
Конечно, вопрос, вынесенный в название очерка, требует развернутого, обстоятельного анализа и заслуживает отдельного исследования (как минимум одного; вообще же эта тема – фактически полноценная предметная область для изучения). Ниже излагаются в тезисном виде только соображения общего свойства касательно характеристик позднесоветской культуры.
На предыдущих страницах уже не раз встречались отсылки к персональному книгоиздательскому опыту. Здесь я позволю себе раздвинуть автоэтнографические границы, выйти за рамки профессиональной сферы и обратиться к собственному – более широкому – культурному опыту.
Начало второй половина 1970-х годов. Центр Москвы, окрестности Старой площади. Неприметная дверь в стене столь же неприметного здания. Вывеска у двери – «Специализированная столовая номер такой-то». Внутри две длинные очереди к прилавкам, на которых выложены продукты, практически не попадающие в обычные магазины: тонкие батоны «Докторской», глазированые сырки, черная и красная икра… Наверняка было много чего еще, но запомнилось прежде всего это (вследствие нежного возраста). Еженедельно – или раз в две недели, точно уже не вспомнить – мы с мамой приезжаем сюда за «особыми» продуктами «по блату». После столовой мы обязательно идем к зданию гостиницы «Москва», где в кафетерии первого этажа всегда в продаже печеночный паштет. Если сильно повезет, можно уговорить маму на кафе «Мороженое» на улице Горького, где продают крем-брюле с шоколадом и орехами под названием «Планета»…
Другие, повседневные, так сказать, продукты широко доступны в любом продмаге, включая шоколадное масло… Конечно, придется постоять в очереди, но удовольствие того стоит. Чтобы все это приобрести, ни в коей мере не требуются сверхдоходы – вполне достаточно зарплаты школьного учителя.
Те же годы. Центр Москвы, проезд Художественного театра. Магазин «Подписные издания». Внутри не протолкнуться – все хотят оформить подписку на новые собрания сочинений: Теккерей, Жорж Санд, Чехов, Толстой… Не имеет значения, что энное количество «книголюбов», получивших заветные квиточки, никогда не откроют ни одного тома ни единого собрания сочинений; главное – подписаться, получать тома по мере выхода и любовно выстраивать «ансамбли» на книжных полках.
Эти воспоминания, при всей их отрефлексированной детской ностальгичности, показывают и доказывают, что к 1970-м годам в Советском Союзе – или, во всяком случае, в крупных городах, особенно в столице – сформировалось общество потребления в его классическом понимании, обладающее характерными признаками: достаточное количество предметов потребления по доступным ценам, наличие потребительских ресурсов, урбанизация населения, увеличение расходов на предметы длительного пользования (те же книги, к примеру) и на организацию досуга, возникновение культуры потребления[231 - Об обществе потребления и его характеристиках см.: Бодрийяр Ж. Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика, 2005; Рапай К. Культурный код: как мы живем, что покупаем и почему. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008; Фромм Э. Душа человека. М.: Республика, 1992. О советском обществе потребления см.: Ильин В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская реальность // Мир России. 2005. №2; Зубкова Е. Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. М.: РОССПЭН, 2003. О массовой культуре как культуре общества потребления см. обзор и анализ мнений в книге: Ильин А. Н. Культура общества массового потребления. Омск: Изд-во ОМГПУ, 2014.]. Недавний цикл телепередач «Намедни» Л. Г. Парфенова, посвященный истории СССР и выделяющий в качестве основных моментов каждого года советской истории события и факты, значимые именно для коллективной рецепции, отлично иллюстрирует процесс постепенного качественного изменения жизни граждан Советского Союза: революционно-классово-политические темы, волновавшие общество ранее, уступают место коллективному присвоению «потребительских трендов» повседневности – новые деньги, квартиры-«хрущевки», доступная мебель, массовая мода и ее веяния, автомобилизация страны, распространение телеприемников, новые формы массового досуга, и т. д[232 - См. книжную версию блока телевизионных сюжетов, посвященных 1960-м годам: Парфенов Л. Г. Намедни. Наша эра. 1961 – 1970. М.: КоЛибри, 2009.].
Естественным следствием формирования такого общества, пусть и обладавшего выраженной идеологической спецификой, стало появление массовой культуры («Сталинская культура внедряла и тиражировала художественные произведения высокого жанра… В эклектике 60-х возникла советская массовая культура – гитарные песни, интимные стихи, модная одежда, молодежный жаргон, „Голубые огоньки“, легкая мебель… эстрада[233 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 233.]») – напомню, что в этой книге массовая культура определяется как совокупность процессов производства и потребления символической (ценностной) продукции, наделяющая нематериальные продукты, в том числе художественные приемы, изобретенные и освоенные искусством предыдущих поколений, товарными свойствами. Массовая культура, если коротко, есть культура общества потребления, и если советский социум в указанный период времени достиг «потребительского» уровня, это означает, что только применительно к этим и более поздним годам мы вправе рассуждать о советской массовой культуре. (Д. Бранденбергер в своей работе о национал-большевизме нередко использует дефиницию «советская массовая культура» по отношению к культуре 1940-х, 1930-х и 1920-х годов; в оригинальном английском тексте выражения «mass culture», «popular culture» и «public culture» имеют синонимическое значение. На наш взгляд, это не совсем корректно, даже если учитывать лишь единственный признак массовой культуры – способность коллективного знания воспринимать и тиражировать совокупность социальных идеологий, гуманитарных технологий и культурных ценностей в качестве социальных стереотипов, моделей для воспроизведения «конвенциональных значений». Для этого необходим соответствующий уровень образования[234 - Другая периодизация датирует становление советской массовой культуры 1930-ми годами. См.: Лебедева В. Г. Судьбы массовой культуры в России. Вторая половина XIX – первая треть XX века. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. Как представляется, это не совсем верно – по тем же соображениям, которые высказаны относительно подхода Д. Бранденбергера. Хотя, безусловно, «ростки» массовой культуры обнаруживаются уже в эти годы – например, советская массовая песня. О последней см.: Бочаров А. Г. Советская массовая песня. М.: Советский писатель, 1956; Гюнтер X. Поющая Родина (советская массовая песня как выражение архетипа матери // Вопросы литературы. 1997. №4. С. 46—61; Захаров А. В. Советская модель массового общества // Массовая культура. М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2004. Как таковая массовая культура – в том понимании этого определения, о котором говорилось выше, – начала складываться в России еще в XIX столетии. Безусловно, она во многом отличалась от «магистральной» европейской массовой культуры (это связано прежде всего с технологическим и социальным отставанием России от европейских стран и, как следствие, с «догоняющей модернизацией»), однако в целом в отечественной культуре происходили те же трансформационные процессы, что и в культурах стран Европы, – процессы культурной унификации. Результатом этих трансформаций явилось постепенное смыкание элитарной, низовой городской и традиционной (крестьянской) культур. О становлении массовой культуры в России и о специфике российской массовой культуры на ранних этапах ее развития см.: Рейтблат А. И. Читательская аудитория в начале XX века // От Бовы к Бальмонту и другие работы по исторической социологии русской литературы. С. 277—293; он же: Детективная литература и русский читатель (вторая половина XIX – начало XX века) // Ibid. С. 294—306; Оболенская С. В. Народное чтение и народный читатель в России конца XIX в. // Одиссей. Человек в истории. М.: Прогресс, 1998. С. 204—232; Брукс Дж. Когда Россия научилась читать. Грамотность и народная литература. 1816—1917 гг. // Что мы читаем? Какие мы? СПб., 1993. С.151—171.], а «пропасть» между грамотными и неграмотными, между носителями городской и традиционной крестьянской культур, равно как и между ними обоими и советской интеллигенцией, что бы ни понималось под данным определением[235 - См.: Гаспаров М. Л. Интеллектуалы, интеллигенты, интеллигентность. // Русская интеллигенция: История и судьба. М.: Наука, 1999. С. 5—13; Рудницкая Е. Л. Лики русской интеллигенции. М.: Канон+, 2007; Добрынина М. И. Трактовка понятия интеллигенции в годы Советской власти // Вестник БГУ. 2010. №6. С. 143—147 (там же ссылки на советские источники); Левада Ю. А., Шанин Т. Отцы и дети. Поколенческий анализ современной России. М.: НЛО, 2005.], сохранялась до начала 1960-х годов, когда сложился своего рода унифицированный культурный канон советского человека[236 - См.: Аксютин Ю. В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953 – 1964 гг. М.: РОССПЭН, 2000; Григорьева А. Г. Советская повседневность и уровень жизни населения СССР в 1953—1964 гг.: к постановке проблемы // Теория и практика общественного развития. 2010. №3. С. 216—218; Виниченко И. В. Перемены в повседневной жизни советских людей как результат социально-экономической политики государства в период «оттепели» // Омский научный вестник. 2011. №3 (98). С. 13—16.].)
Разумеется, в официальной советской доктрине ни «общество потребления» (программа КПСС, принятая в 1961 году, ставила задачей построение материально-технической базы коммунизма и «обеспечивала благополучие без стяжательства», когда «отрицание частной собственности превратилось из лозунга в категорический императив[237 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 14.]»), ни «массовая культура» не фигурировали, поскольку не соответствовали государственной идеологии; эти термины служили негативными маркерами «буржуазного строя» и получали соответствующие трактовки в пропагандистских публикациях. Тем не менее, практики повседневности демонстрировали принципиальное расхождение с идеологическими установками. Доказательством того, что это расхождение в известной степени осознавалось и рефлексировалось в социуме, может служить известная кампания против мещанства, развернувшаяся в советских СМИ в годы хрущевской «оттепели». Мещанам, обывателям – не как сословию, но как носителям определенной психологии и выразителям определенных взглядов – приписывались именно те качества и характеристики, которые позволяют увидеть в них представителей общества потребления и, соответственно, «апологетов» массовой культуры; ср., например: «…дело здесь не только во внешнем убранстве квартиры, не только в том, что квартира обильно украшена дешевенькими, аляповатыми картинками, безвкусными пестрыми вышивками или загромождена разностильными предметами и напоминает собою комиссионный магазин… Мещанская мораль уводит людей от активной общественной жизни, тормозит инициативу заботами о своем маленьком счастье, заставляет стоять в стороне при решении общественных и производственных вопросов[238 - Власенко Т. В. Еще раз о мещанстве: к итогам дискуссии // Вологодский комсомолец. 4 сентября 1958 г. О советском мещанстве и «вещизме» как социокультурном явлении см.: Кабо Л. Р. Невесело быть мещанином. М.: Политиздат, 1965; Вайль П., Генис А. Мир советского человека. М.: НЛО, 2001; Гурова О. Ю. От бытового аскетизма к культу вещей: идеология потребления в советском обществе // Люди и вещи в советской и постсоветской культуре. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2005. С. 6 -22; она же: От товарища к товару: предметы потребления в советском и постсоветском обществе // Ibid. С. 35—48. О «корнях» неприятия мещанства в российской / советской культуре и о борьбе с мещанством в СССР до кампании конца 1950-х – середины 1960-х годов см.: Бачинин В. А. Мещанство как социально-нравственная проблема. М.: Знание, 1982; Иваницкая Е. Н. Парадокс о мещанстве (к проблеме этико-эстетических исканий серебряного века русской литературы) // Время Дягилева. Универсалии серебряного века. Третьи Дягилевские чтения. Материалы. Вып. 1. Пермь, 1993. С. 52—58; Колоницкий Б. И. Антибуржуазная пропаганда и «антибуржуйское» сознание // Отечественная история. 1994. №1. С. 17—27.]». Как вспоминали П. Вайль и А. Генис, «с мещанством боролись отчаянно, злобно, неутомимо, тасуя аксессуары (абажур, граммофон, сервант) по фельетонам, стихам, карикатурам… Постепенно мещанство становилось источником всех бед – от невыученных уроков до фашизма… Мещанство разоблачалось быстро, даже если маскировало себя атрибутами новизны…[239 - Вайль П., Генис А. 60-е. Мир советского человека. С. 59, 130.]»
Антимещанский пафос советской культуры, «унаследованный» от А. И. Герцена, доминировал прежде всего в пропагандистском дискурсе[240 - См. об этом: Аккуратов Б. С. Миф о мещанстве в советской историографии // Гуманитарное знание в системах политики и культуры. Казань, 1999. С. 189—191; он же: Антимещанский комплекс российской культуры: Культурно-историческая деконструкция // Историческое знание и интеллектуальная культура. Материалы научной конференции. Москва, 4—6 дек. 2001г. М.: ИВИ РАН, 2001. С. 251—254.], оказывая опосредованное влияние на саморефлексию граждан СССР; тем не менее, эта саморефлексия нисколько не препятствовала гражданам (зарождающемуся «деидеологизированному» среднему классу, в терминологии Д. Белла[241 - Bell D. The End of Ideology: On the Exhaustion of Political Ideas in the Fifties. N.Y.: Free Press, 1965. См. также: Зотов В. В., Спицына А. О. Идеология и доминирующая культура // Теория и практика общественного развития. 2014. №8. С. 17—19.]) «потреблять» повышение качества жизни, пожинать плоды неуклонного – вследствие развития массовых коммуникаций, а первую очередь телевидения, – распространения отвергаемой на уровне государственной идеологии массовой культуры в советском обществе.
Любопытно оценить в исторической перспективе взгляды советской науки на феномены общества потребления и массовой культуры и соотнести эти взгляды с советской же повседневностью. Среди отечественных теоретиков массовой культуры советского периода (Г. К. Ашин, З. И. Герникович, Е. Н. Карцева, В. П. Шестаков и др.) выделяется А. В. Кукаркин, работа которого «Буржуазная массовая культура» выдержала до распада СССР два издания (первое – 1978, второе, дополненное и доработанное – 1985). Именно второе издание этой работы и станет предметом дальнейшего рассмотрения.
Если абстрагироваться от неизбежных для позднесоветской публикации пропагандистских клише, главный водораздел между «буржуазной массовой» и советской культурами, по Кукаркину, определяется объектом конструирования социального воображаемого: советская культура является культурой «нового человека», тогда как массовая обращена к его потребительской ипостаси. «Буржуазные идеологи относят к массовой культуре не только фактически всю культуру капиталистических стран… но и культуру стран социализма, пытаясь затушевать коренное отличие социалистической культуры от буржуазной… Между тем принципиальное отличие этих культур связано уже с тем, что каждая из них является продуктом совершенно различных общественно-экономических формаций. В ходе строительства социалистической культуры не существует объективной материальной и идейной основы для порождения искусства и литературы, апеллирующих к низменным инстинктам людей, для сознательного насаждения низкопробных мещанских стандартов[242 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 71.]». Автор при этом «забывает» о таких культурных артефактах своего времени, как, например, советская эстрада с ее «мещанскими стандартами», когда наряду с революционно-патриотической героикой в исполнении М. М. Магомаева, И. Д. Кобзона, Ю. А. Гуляева, Э. А. Хиля, пользовались широкой популярностью лирические, «деидеологизированные» песни в исполнении Э. С. Пьехи, В. В. Толкуновой, Л. П. Сенчиной[243 - Следует отметить, что некоторым исполнителям «официальных» песен – И. Д. Кобзону, к примеру – разрешалось порой обращаться, как это именовалось на советском бюрократическом новоязе, к «мелкотемью»; можно вспомнить в его исполнении советские «городские романсы» 1930-х – 1940-х гг. («В парке Чаир» и др.).]; в поле литературы под вышеприведенное определение вполне подходят романы-эпопеи[244 - О советском романе-эпопее см.: Пискунов В. М. Советский роман-эпопея. Жанр и его эволюция. М.: Советский писатель, 1976; Лейдерман Н. Л., Липовецкий М. Н. Современная русская литература. 1950-е – 1990-е годы. В 2 т. М.: Академия, 2003. Т. 1. С. 181 -259; т. 2. С. 17—46.] из «народной жизни» поздних классиков социалистического реализма – «Вечный зов» А. С. Иванова (1971—1976), «Судьба» (1973) и «Имя твое» (1978) П. Л. Проскурина и произведения множества других авторов, которые «льстят [публике], способствуя утверждению распространенных вкусов и идей тем, что принимают их за критерий реальности, абсолютизируя статистическое большинство[245 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 62.]».
Дополнительным свидетельством «массовизации» поздней советской культуры можно считать тот факт, что транслятором общих смыслов и ценностей социума все больше выступало телевидение, которое в советских условиях, при огромных расстояниях и слабой инфраструктурной связности страны, препятствовавших функционированию иных каналов распространения, постепенно становилось основным информационным каналом и инструментом внутрикультурного взаимодействия; можно сказать, что именно ТВ, пришедшее со временем в каждый дом благодаря утверждению стандартов общества потребления, создало советскую массовую культуру. В частности, тот же «Вечный зов» стал по-настоящему популярным, превратился в «полноценный» артефакт массовой культуры – который массово тиражировали, обсуждали, цитировали и т. д. – только после выхода на телеэкраны одноименного сериала (1976—1978). Аналогичная судьба ожидала цикл Ю. С. Семенова «Альтернатива» (1975—1978), экранизированный в виде телесериала «Семнадцать мгновений весны» (1973) и ряда полнометражных фильмов[246 - В хронологическом порядке развития сквозного сюжета: «Бриллианты для диктатуры пролетариата» (1975), «Пароль не нужен» (1967), «Испанский вариант» (1980), «Майор Вихрь» (1967), «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» (1976, по роману «Бомба для председателя»).], и детективный роман «Повесть об уголовном розыске» А. П. Нагорного и Г. Т. Рябова, экранизированный в виде телесериала в 1974 – 1977 годах. Телевизионные трансляции – фильмов, сериалов, «Международной панорамы», музыкальной программы «Утренняя почта», поединков КВН или популяризаторской передачи «Очевидное – невероятное» П. Л. Капицы – создавали и воспроизводили общее культурное поле, в том числе – «… через их пассивное потребление и придание творчеству характера бизнеса[247 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 12.]», поскольку ТВ в позднесоветский период превратилось в основную форму досуга[248 - См.: Борецкий Р. А. Телевидение на перепутье. М.: НИАНО, 1998; Голядкин Н. А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: Аспект-Пресс, 2011; Парфенов Л. Г., Чекалина Е. Л. Нам возвращают наш портрет: заметки о телевидении. М.: Искусство, 1990.], а скудость выбора (как правило, телеприемники позволяли смотреть 2 общегосударственных канала и 1 местный) способствовала коллективному усвоению / тиражированию смыслов – все смотрели и обсуждали одно и то же, образы и цитаты из фильмов расходились «в народе», использовались в СМИ с расчетом на мгновенную узнаваемость, превращались в объекты вторичного культурного производства – например, пародийно переосмыслялись в анекдотах – и тем самым формировали советскую массовую культуру.
Ссылаясь на Д. Белла, А. В. Кукаркин рассуждает о «культурном авитаминозе», свойственном обществу потребления: «Применительно к искусству культурный авитаминоз проявляется в игнорировании или фальсификации происходящего социально-политического процесса с его противоборством классов… в неправомерном наделении ведущими функциями чисто развлекательных жанров, будь то мелодрама, детектив или эстрадная музыка[249 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 9.]». Такое искусство, используя дефиницию Н. А. Добролюбова, можно назвать «теневым», или «ложным», поскольку оно лишь «сопутствует» высокому искусству, преимущественно реалистическому по своему характеру.
Показательным выглядит игнорирование автором изобилия развлекательных, «сопутствующих» жанров советского искусства – начиная от цирка и заканчивая, опять-таки, литературой, в которой успели «освоиться» и «обжиться» к моменту публикации работы А. В. Кукаркина такие формулы массовой культуры, как детектив (произведения А. Г. Адамова, П. Ф. Нилина, С. А. Высоцкого и др.), мелодрама (повести Г. Н. Щербаковой, пьесы А. Н. Арбузова и А. М. Володина и др., а также сценарии многочисленных фильмов и телефильмов, составивших «золотой фонд» советского кинематографа – говоря о советской массовой культуре, эти образцы массового искусства ни в коем случае нельзя не упомянуть) и даже фантастика, научная и не слишком (произведения И. А. Ефремова, братьев Стругацких, В. С. Шефнера, Г. С. Альтова и др.). По всей видимости, развлекательный «элемент» в этих формулах для А. В. Кукаркина нивелировался «гуманистическим пафосом» (тоже расхожее клише тех лет) советской литературы, хотя, скажем, к произведениям В. С. Шефнера вполне применим упрек в «ложном романтическом эскапизме», который Кукаркин предъявляет массовой культуре: «Представляется, что к кругу явлений современной буржуазной массовой культуры могут быть отнесены прежде всего те произведения псевдодокументальных, спекулятивно-политических, уголовно-детективных, приключенческих, мелодраматических, комедийных и других жанров, а также эстрадной и опереточной музыки, изобразительных искусств, которые отмечены печатью реакционной идеологии, конформизма, утилитарного потребительского прагматизма или ложного эскапистского романтизма…» Особенно двусмысленным кажется – на нынешний взгляд – обвинение буржуазных СМИ в тенденциозности, которой лишена советская пресса: «Кроме того, к массовой культуре Запада следует отнести значительную часть продукции средств массовой информации… Основной отличительной чертой… выступает… искажение функциональной сущности: информация теряет присущий ей объективный характер, обретает коммерческую или тенденциозную идейно-пропагандистскую окраску…[250 - Кукаркин А. В. Op. cit. С. 79—80. О «масс-культурности» советской прессы 1960-х – 1980-х годов см.: Никонова С. И. СМИ в идеологической системе последних десятилетий советской власти // Фундаментальные исследования. 2014. №6—2. С. 390—393.]»
Массовая культура в секуляризованном западном обществе, по мнению Кукаркина, заменяет собой религию: «Являясь не стилем… а новым типом функционирования механизма и идейного наполнения традиционной буржуазной культуры, возникшим в эпоху империализма… буржуазная массовая культура… имеет своего «прафеномена» в лице религии. Общность их характеризуется целым рядом моментов. К ним относятся:
– мифологизация сознания…
– слияние эскапистских и идеологических функций…
– насаждение духа конформизма…