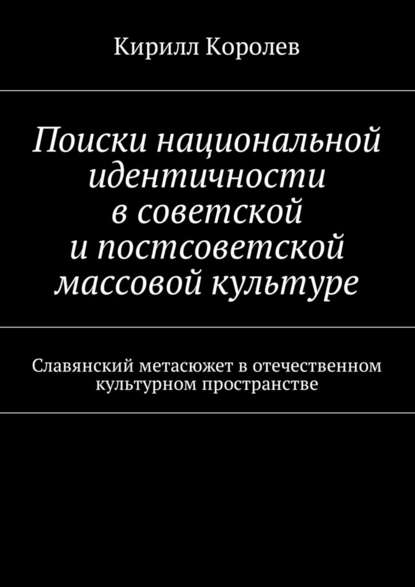По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
В советской массовой культуре (подробнее об этом явлении, его хронологических границах и специфике см. далее) пользовался чрезвычайной популярностью – во многом навязанной, вследствие выраженной идеологической ангажированности советского культурного пространства – образ В. И. Ленина. Ленинский культ, сложившийся к середине 1920-х годов и с тех пор неуклонно поддерживаемый и подпитываемый, находил свое выражение во множестве материальных и символических форм: имя Ленина носили многочисленные организации – от детского пионерского движения до взрослых производственных коллективов, портреты «Ильича» тиражировались во всех видах, от изображений юного Володи Ульянова на октябрятских значках до парадных портретов в государственных кабинетах, статуи Ленина – ставшие в постсоветский период одиозным олицетворением советской монументальной пропаганды – устанавливались на центральных площадях больших и малых городов, ежегодно выходили или переиздавались документальные и художественные книги о Ленине, регулярно появлялись на экранах «ленинские» фильмы, писались картины, ставились театральные постановки, звучали эстрадные песни, посвященные Ленину или содержавшие упоминание его имени («И Ленин такой молодой, / И юный Октябрь впереди»), любое академическое или публицистическое исследование обязательно ссылалось на ленинские работы, коллекционеры почтовых марок, открыток и нагрудных знаков собирали и экспонировали «ленинские» коллекции, «в народе» ходили анекдоты, главным героем или персонажем которых был Ленин, и т. д. Иными словами, в советской культуре существовало особое, самостоятельное «полижанровое» направление, связанное с репрезентацией, фикциональной, документальной и обыденной, образа Ленина. Используя предложенную выше терминологию, можно было бы назвать это направление культурной формулой, однако, учитывая масштабы ленинского культа в СССР[132 - О культе Ленина в СССР см.: Тумаркин Н. Ленин жив! Культ Ленина в советской России; СПб.: Академический проект, 1997; Великанова О. В. Образ Ленина в массовом сознании // Отечественная история. 1994. №2. С. 175—193; Шалаева Н. В. Проблема культа личности В. И. Ленина (историографический анализ) // Власть. 2013. №5. С. 104—108; она же: Механизм формирования образа власти в советской культуре 1920-х годов (к вопросу о культе В. Ленина) // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. №5. С. 196—200.] и упомянутую «полижанровость» представления образа, корректнее прибегнуть к термину «метасюжет», поскольку здесь – в метасюжете так называемой ленинианы – налицо совокупность «историй», если выражаться языком нарратологии, или сюжетов, так или иначе относящихся к жизни и деятельности Ленина, окружающих его жизнь и деятельность, свидетельствующих о восприятии этих жизни и деятельности социумом.
Насколько оправданно такое расширительное толкование понятий «сюжет» и «метасюжет», такой отход от сугубо литературоведческих интерпретаций этих терминов? Если опираться на постструктуралистскую / семиотическую трактовку текста как любого знакового образования в пространстве человеческой жизнедеятельности, прежде всего в культуре, оно представляется вполне логичным: «прочитываемые» как тексты, все культурные события обладают некими сюжетами; можно говорить о сюжетах «живописного полотна, рисунка, скульптурной композиции, архитектурного здания, фильма… музыкального сочинения», ибо все они «функционируют как непрерывные единства»[133 - Иванов В. В. О взаимоотношении динамического исследования эволюции языка, текста и культуры // Избранные труды по семиотике и истории культуры. Т. 3. Сравнительное литературоведение. Всемирная литература. Стиховедение. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 123.]. Отталкиваясь от подобного понимания сюжета, мы вправе постулировать и существование культурных метасюжетов, формируемых сходными по тематике сюжетами культуры, пусть и представленными в различных ее жанрах. (Кстати, эта «полижанровость» метасюжетов позволяет охарактеризовать культуру как интертекстуальную систему, в которой происходит активное взаимодействие вербальных и невербальных текстов: «интертекстуальность… создается не только совокупностью конкретных предшествующих текстов, понимаемых в широком семиотическом смысле, но и набором общих кодов и смысловых систем. Вновь созданный текст и предшествующие текстопорождающие компоненты образуют интертекстуальное пространство [культуру – К. К.], вбирающее в себя весь культурно-исторический опыт…[134 - Петрова Н. В., Кулакова О. К. Различные подходы к определению интертекстуальности // Вестник Иркутского ГУ. 2011. №2. С. 135 (со ссылкой на Р. Барта и Ю. Кристеву).]»)
Итак, под «метасюжетом культуры» понимается комплекс артикулируемых литературно / кинематографически / музыкально и в прочих формах сюжетов того или иного жанрово-тематического направления, объединенных аксиологической семантикой. То есть это обобщенная форма социальной коммуникации, социально-идеологический контекст, в рамках которого формулируются, описываются, артикулируются, принимаются и развиваются некоторые ценностные, мировоззренческие установки, характерные для определенной социальной группы или страты. В терминах культурного производства метасюжет представляет собой взаимодополняющую комбинацию спроса и предложения, когда общественные настроения, складывающиеся в результате возникновения конкретной социально-культурной ситуации, стимулируют появление художественных (и нехудожественных – к примеру, научных и паранаучных) произведений, эту ситуацию отражающих и изображающих, – и когда, в свою очередь, культурная продукция коммерциализирует и творчески эксплуатирует существующие общественные настроения, далее их подогревая и обеспечивая тем самым собственную материальную и символическую прибыльность. В этом смысле культурный метасюжет выступает как продукт социального конструирования, итог интерпретации реальности и институализации представлений общества (какой-либо его части) о своих потребностях.
Неизбежно возникает вопрос, в чем разница между метасюжетом в таком понимании и нарративом как понятием, широко распространенным в современных гуманитарных науках. Ведь нарратив сегодня трактуется как своего рода «инструкция» по конструированию и конституированию некоей онтологически артикулированной реальности[135 - См.: Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии. 2000. №3. С. 29—42.]. Впрочем, это лишь одно из многих толкований термина «нарратив», и введение термина «метасюжет» в интересующем нас контексте позволяет уйти от указанной терминологической многозначности. Кроме того, в изложенных выше определениях «нарратив» как повествование все-таки ближе к «сюжету», чем к «метасюжету»; возможно, следовало бы рассуждать о «нарративах» и «метанарративе» (нарратив православия в таком контексте, к примеру, выступает как составная часть христианского метанарратива), но, как представляется, это могло бы затруднить восприятие книги читателем, с учетом неопределенности значения самого термина «нарратив»[136 - См.: Тамарченко Н. Д. Вступительное слово к публикации сборника материалов научной конференции «Поэтика русской литературы: проблемы сюжетологии» // Новый филологический вестник. 2006. №3. С. 187—188; Шейгал Е. И. Многоликий нарратив // Политическая лингвистика. 2007. №22. С. 86—93; Лобанова Г. А. Справочник по нарратологии: широта взглядов или потеря предмета изучения? // Новый филологический вестник. 2010. №2. Т. 13. С. 160—162; Теребков А. С. К вопросу о трактовке феномена нарратива в современном гуманитарном знании. Сущность и истоки // Омский научный вестник. 2012. №3 (109). С. 114—117.]. Аналогичные соображения применимы и к понятию «дискурса» как «средства, при помощи которого можно говорить и писать о мирах, воздействовать на них, средством, которое конструирует и конструируется социальными практиками, существующими в пределах этих миров»[137 - Candlin C. N. Editor’s Preface // The Construction of Professional Discourse. London: Longman, 1997. Цит. по: Вахтин Н. Б., Головко Е. В. Социолингвистика и социология языка. СПб.: ИЦ «Гуманитарная академия»; Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2004. С. 254.]. Разве что «дискурс» еще более терминологически многозначен, чем «нарратив», а выделение в дискурсе структурных единиц, сопоставимых с сюжетами в метасюжете, видится труднореализуемым ввиду принципиальной нечленимости дискурса как «целостного текста»[138 - Герасимов В. И. На пути к когнитивной модели языка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. Когнитивные аспекты языка. М.: Прогресс, 1998. С. 34.]. Пожалуй, ближе всего к предлагаемому пониманию метасюжета постструктуралистская концепция текста как знаковой манифестации какого-либо специфического символического феномена (как правило, локализованного географически; ср.: «Петербургский текст русской культуры», «Итальянский текст в прозе Л. Андреева» и т. п.). При этом, на наш взгляд, использование термина «текст» в значении «некоего синтетического сверхтекста, с которым связываются высшие смыслы и цели» (формулировка В. Н. Топорова), порождает тавтологичность (текст конкретного художественного произведения vs. «текст культуры»[139 - О «текстах культуры» и многозначности термина «текст» см.: Симбирцева Н. А. «Текст культуры»: обозначение дискурса // Европейский журнал социальных наук. 2011. №3. С. 66—74.]), требует подробных пояснений и дополнительного фундирования и представляет собой отдельную исследовательскую задачу, реализация которой выходит за рамки данной книги.
Перечисленные соображения побуждают сделать выбор в пользу термина «метасюжет», и в дальнейшем на страницах книги будет использоваться именно этот термин, в социокультурном значении, тем паче что его операциональное применение обеспечивает своего рода преемственность по отношению к сюжетно-тематической классификации культурной продукции, по нашему мнению, оптимальной для современной массовой культуры.
Метасюжеты обнаруживаются в любой национальной культуре. В качестве примеров культурных метасюжетов недавнего прошлого и настоящего можно привести следующие:
– «антидискриминационный» (борьба за гражданские права и современный феминизм, США).
– «американская мечта»;
– сохранение верности традициям «старой доброй Англии»[140 - Примечательно, что в отечественной «экстралингвистической» этнопоэтике, наряду с изучением «русскости», самое пристальное внимание уделяется анализу «английскости» как наиболее характерного этнопоэтического феномена. См.: Кирчанов М. В. Imagining England: национализм, идентичность, память. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008; Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002; он же: Аксиологическая лингвистика: лингвокультурные типажи. Волгоград: Парадигма, 2005; Филиппова М. М. Английский национальный характер. М.: Астрель, 2007.];
– метасюжет рыцарской чести (в поступательном развитии этого понятия, вплоть до мачизма) в культуре Испании и стран Латинской Америки;
– «монструозная гигантомания» (сюжет о Годзилле и пр.) японской культуры.
Культурные метасюжеты по своему содержанию могут быть «узкими» / «короткими» хронологически и являться составными элементами более крупных, «широких» метасюжетов (так, «олимпийский» метасюжет поздней советской культуры, связанный с проведением Олимпийских игр 1980 г. в Москве, имеет ограниченную длительность и очевидно входит сразу в два крупных метасюжета – спортивный и патриотический), но чаще в различных культурах выделяются именно длительные и «широкие» метасюжеты, подразумевающие массовую по охвату социальную семантизацию «общих» культурных полей и охватывающие периоды времени в несколько столетий – как видно, в том числе, и из приведенных выше примеров. К подобным «широким» метасюжетам относится и «национальный» (националистический, или славянский) метасюжет русской культуры.
Специфика славянского метасюжета
Если нация понимается как воображаемое сообщество, конструируемое в рамках общей, «разделяемой» (shared) культуры, тогда национализм представляет собой процесс самоидентификации членов этого сообщества – протяженный по времени процесс отождествления себя с данным сообществом, выявления, популяризации и всемерной глорификации преимуществ принадлежности к данному сообществу, определения культурных, символических границ «своего» и «чужого» для последующей ценностной дифференциации от последнего. «Нормативно-бытовая исключительность» (формулировка А. В. Гордона), осознание которой свойственно для локального традиционалистского социума, распространяется в ходе этого процесса на воображаемое целое, и в общей культуре постепенно складывается «национальный» метасюжет.
Применительно к России этот метасюжет начинает формироваться приблизительно в середине XVIII столетия, в правление Екатерины Второй, когда былое Московитское царство окончательно превращается в империю[141 - Замечание американского историка Г. Кеймена, что «не Испания как национальное государство создала империю, а империя создала Испанию», применимо, безусловно, и к России. См.: Кеймен Г. Испания. Дорога к империи. М.: АСТ; СПб.: Мидгард, 2008. С. 6 и далее.]: «Увековечившая надписью под Медным всадником преемственность двух эпох русского Просвещения Catharina Secunda… стала личной посредницей между классиками Просвещения и русским (высшим) обществом, при ее поддержке просвещенные русские люди сделались частью европейского культурного сообщества, в ее правление культурные связи с Западной Европой стали органической потребностью русского общества. И вместе с тем именно в екатерининский век был серьезно и широко поставлен вопрос о российский самобытности; сама правительница была инициатором отыскания древних корней Российского государства и активно включилась в процесс актуализации культурной традиции[142 - Гордон А. В. О национальном мифе // Русская культура как исследовательская проблема. Альманах «Одиссей. Человек в истории». Вып. 10. М.: Наука, 2001. С. 27.]».
Конечно, у поисков культурной самобытности была своя предыстория – прежде всего вспоминаются «неодолимая антипатия к Европе» (В. О. Ключевский), присущая Московскому царству[143 - О восприятии европейцев подданными русского царя см.: Казакова Н. А. Западная Европа в русской письменности XV – XVI веков. Л.: Наука, 1980; Ключевский В. О. Сказания иностранцев о Московском государстве. СПб.: Университетская типография, 1866.], декларирование духовной связи с Византией и культурно-религиозной преемственности с византийскими канонами, политико-религиозные идеологемы «Москва – третий Рим» и «Святая Русь», оформившиеся в XVI столетии, подчеркивавшие мессианское предназначение[144 - Как первый «проповедник» избранности России-Руси нередко называется митрополит Киевский Иларион (XI в.), автор «Слова о законе и благодати», во фразе которого о «земле Русской», о «коей знают и слышат во всех четырех концах земли», и в уподоблении князя Владимира императору Константину видят предвосхищение идеологемы «третьего Рима». См.: Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы; Сагатовский В. Н. Русская идея: продолжим ли прерванный путь? СПб.: Петрополис, 1994; Янов А. Русская идея и 2000 год. Нью-Йорк: Liberty Publishing, 1988. О мессианстве русской культуры см.: Duncan P. Russian Messianism: Third Rome, revolution, Communism and After. NY: Routledge, 2002; Davidson P. The Validation of the Writer’s Prophetic Status in Russian Literary Tradition // The Russian Review. Vol. 62. No. 4 (October 2003). P. 508—536.] и «великую цивилизационную миссию» России (Н. Я. Данилевский), «унаследованную» через религию и язык[145 - Ср. рассуждения на эту тему М. В. Ломоносова, А. С. Шишкова и др. Подробнее: Альтшуллер М. Г. Предтечи славянофильства в русской литературе. Нью-Йорк: Ann Arbor, 1984; он же: Беседа любителей русского слова: У истоков русского славянофильства. М.: НЛО, 2007.] от Византии, – но это были все-таки разрозненные, если можно так выразиться, внесистемные культурные события, а собственно националистический метасюжет, комплексное представление об «особом пути» страны и народа, начал складываться в указанный хронологический период.
Первоначально данный метасюжет существовал в форме «кабинетных дискуссий» и академической полемики (в частности, одной из ранних его манифестаций является знаменитый спор между М. В. Ломоносовым и Г. Ф. Миллером «о происхождении русского народа»[146 - См.: Клейн Л. С. Спор о варягах. История противостояния и аргументы сторон. С. 15—23.]), однако по мере распространения грамотности, приобщения все более широкой публики к философским учениям и складывания в России массовой культуры он приобретал устойчивую популярность, будучи вдобавок периодически подпитываемым государственной пропагандой (антизападной в годы Крымской войны, антитурецкой и панславянской в последнюю русско-турецкую войну, антияпонской в начале XX столетия, снова антизападной в годы Первой мировой – и неизменно руссоцентристской, если воспользоваться формулировкой Д. Бранденбергера[147 - Бранденбергер Д. Национал-большевизм. Сталинская массовая культура и формирование русского национального самосознания (1931—1956). СПб.: ДНК, 2009.]). К концу XIX столетия «русская идея», как назвал этот метасюжет Ф. М. Достоевский, сделалась – усилиями государственной власти, зафиксированными в коллективной памяти прежде всего в уваровской триаде «православие – самодержавие – народность»[148 - Идеологически уваровской триаде предшествует «прото-славянофильская» концепция А. С. Шишкова, который полагал основами создания и укрепления патриотизма «православную веру, [национальное] воспитание и язык русский»; подробнее см.: Минаков А. Ю. А. С. Шишков как идеолог и практик русского консерватизма // Научные ведомости БелГУ. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2009. №7. С.143—150. Об идеях С. С. Уварова, их распространении и интерпретации см.: Миллер А. И. Триада графа Уварова // О русском национализме. С. 5—29; Зорин А. Л. Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII – первой трети XIX века. М.: НЛО, 2004. С. 337—373.], и таких общественных движений, как, перечисляя лишь основные, славянофилы, западники, почвенники, панслависты, народники, приверженцы идеологемы «народа-богоносца» в ее философской и вульгаризованной формах, позднее черносотенцы и евразийцы – лейтмотивом отечественного культурного (и не только) национализма.
Пожалуй, наиболее выраженной и устойчивой репрезентацией этого факта стала «самоориентализация», перефразируя предложенное Э. Саидом определение этого явления, российского воображаемого сообщества[149 - О «самоориентализме» в русской культуре см.: Бассин М. Россия между Европой и Азией: идеологическое конструирование географического пространства // Российская империя в зарубежной историографии. М.: Новое издательство, 2005. С. 277—310, а также статьи А. Халида «Российская история и спор об ориентализме» (с. 311—323) и М. Тодоровой «Есть ли русская душа у русского ориентализма» (с. 345—359) в указанном сборнике.], эссенциализация понятий «Россия», «Русь», «Европа» и «Запад» в русской культуре и «цивилизационного» противостояния России и «Запада», равно как и промежуточного, «своеобычного» географического, геополитического и идеологического положения России между Европой и Азией; во многом эссенциалистский подход, к слову, сохраняется по сей день, о чем свидетельствуют, в том числе, продолжающиеся попытки выявить и обосновать «органическую цельность отечественной культуры на протяжении десяти столетий[150 - Юрганов А. Л. Русская культура в сравнительно-историческом освещении // Русская культура как исследовательская проблема. Альманах «Одиссей. Человек в истории». Вып. 10. М.: Наука, 2001. С. 5—8. См. также дискуссию по основным тезисам этого доклада на с. 9—64. Другим примером эссенциалистского подхода могут служить достаточно популярные рассуждения об «архетипичности» русского национального характера; ср.: «У русских национальная идентичность всегда присутствует на архетипическом уровне, и потому нам не нужно восстанавливать ее каким-то искусственным способом». См.: Урютова Ю. А. Русская национальная идентичность: апелляция к прошлому для создания будущего // Общество: политика, экономика, право. 2012. №2. С. 12.]», а также отмечаемые многими исследователями стереотипы современного коллективного знания и «национально» -мифологическая структуризация «славного прошлого» с позиций «укорененности» в настоящем[151 - См., например: Левада Ю. А. Исторические рамки «будущего» в общественном мнении // Социологические очерки: 2000 – 2005. М.: Издатель Карпов В. Е., 2011. С. 172—180, 189—194; Дубин Б. В. Россия нулевых: политическая культура – историческая память – повседневная жизнь. М.: РОССПЭН, 2011; Kagarlitsky B. Back in the USSR. Chicago: The University of Chicago Press, 2009.]. Следует упомянуть и расцвет историографии – как признак «помнящей культуры», в терминологии Я. Ассманна[152 - «Помнящая культура основывается… на формах обращенности к прошлому. Прошлое же… вообще возникает лишь в силу того, что к нему обращаются… То, что о мертвых помнят, есть следствие эмоциональной привязанности, культурной работы и сознательного, преодолевающего разрыв, обращения к прошлому. Эти же элементы образуют то, что мы называем помнящей культурой». См.: Ассманн Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры, 2004. С. 35.], как симптом сохранения культурной памяти и как одну из манифестаций славянского метасюжета, доступную публично, за пределами академического контекста, а также появление многочисленных художественных, литературных и музыкальных произведений на условно-славянскую тему.
В первые годы советской власти руссоцентризм отступил, оттесненный пролетарским интернационализмом, но уже с конца 1920-х годов в государственной пропаганде и в новой культуре[153 - См.: Богданов К. А. Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры; Добренко Е. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен: Verlag Otto Sagner, 1993.] начал понемногу восстанавливаться в правах (подробнее об этом см. далее), и такое положение дел сохранялось – отчасти прерванное Великой Отечественной войной – вплоть до распада СССР. Утрата советской идентичности привела к росту националистических настроений в бывших союзных республиках – но не в Российской Федерации, большая часть населения которой, согласно результатам этносоциологических исследований середины 1991 г., считала своей родиной не Россию, а Советский Союз[154 - Русские (этносоциологические очерки) М.,1992. С. 415.]. И только ближе к середине 1990-х годов происходит осознание новой «старой» идентичности[155 - См.: Паин Э. А. Становление государственной независимости и национальная консолидация России в конце XX века: проблемы, тенденции, альтернативы // Мир России. 1995. №1. С. 58—90.], одним из следствий которого явилось возрождение русского культурного национализма и «возвращение» в русскую культуру славянского метасюжета.
Важно отметить, что это «возвращение» происходило на фоне активного проникновения в отечественную культуру категорически подцензурной в советский период западной массовой культуры. Космополитичность культурной продукции последней во всем многообразии ее форм очевидна, однако эта культура обладает высокими адаптивными свойствами, которые способствуют появлению многочисленных локальных форм, учитывающих историческую и национальную специфику: «Массовая культура… в определенном социальном и культурном контексте приобретает ярко выраженные особенности и образует весьма специфичные национальные варианты…»[156 - Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. С. 100.] К числу таких «специфичных» вариантов, по нашему мнению, принадлежит и националистический дискурс отечественной массовой культуры (культурный национализм), в рамках которого в коллективном знании и массовом искусстве заново сформировался и получил развитие славянский метасюжет.
Специфика российского националистического дискурса в преломлении массовой культуры заключается, с одной стороны, в героизации и сакрализации прошлого как средства обретения или восстановления национально-культурной идентичности, а с другой – в стремлении переосмыслить это прошлое с позиций приоритета культурных достижений русского народа в мировой истории (своего рода «протестная героизация»). В первом случае прошлое трактуется коллективным знанием как историческое, то есть документально зафиксированное и научно подтвержденное; во втором случае оно воспринимается как антиисторическое, недостоверное и даже «конспирологическое», «оболганное» официальной наукой и фальсифицированное псевдоисторическими документами, то есть как прошлое, которого не было и которое скрывает «подлинную» историю. Несмотря на полярность указанных воззрений, они мирно сосуществуют в современной российской массовой культуре, оказывая непосредственное влияние на массовое искусство. При очевидном взаимоотрицании, у этих точек зрения есть нечто общее, а именно – использование образа прошлого для конструирования желаемого будущего – будущего, в котором Россия предстает великой и могучей державой[157 - См.: Шнирельман В. А. Президенты и археология, или Что ищут политики в древности: далекое прошлое и его политическая роль в СССР и в постсоветское время // Империя и нация в зеркале исторической памяти. Сборник статей. М.: Новое издательство, 2011. С. 357—405.].
Принципиально важно отметить не имманентность, а конструируемость, произвольность образа прошлого в массовой культуре. Этому обстоятельству уделил немало места в своих исследованиях Э. Хобсбаум. В частности, он выявил следующую закономерность: чаще всего традиция (образ прошлого. – К. К.) «изобреталась в ходе радикального преобразования общества, когда быстро разрушались социальные формы, под которые подстраивались старые традиции, а взамен возникали такие формы, а которым эти традиции уже невозможно было приложить»[158 - Хобсбаум Э. Изобретение традиций. С. 51.]. Именно это произошло в начале 1990-х годов в России: прежний образ прошлого оказался отвергнутым в результате социальной трансформации, и вместо него сложился (был сконструирован) новый образ, в рамках которого, в частности, получил легитимацию в массовом искусстве славянский метасюжет.
В современном российском националистическом (патриотическом) дискурсе образ прошлого имеет синкретический характер – он одновременно историчен и антиисторичен. Причем его историчность находит выражение сразу в двух хронотопах, которые подвергаются героизации и сакрализации, – в хронотопе недавнего прошлого (прежде всего, периода Великой Отечественной войны) и в хронотопе отдаленного прошлого (времена Киевской Руси и противостояния Степи и вторжениям с Запада). Именно здесь, кстати, исторический образ прошлого пересекается с антиисторическим (напомню, что последний утверждает «альтернативную» историю России, намного более древнюю и, если можно так выразиться, содержательную): эпоха Киевской Руси – «переосмысленная» сегодняшней массовой культурой – и во втором случае представляется золотым веком, образцом для воспроизведения и подражания.
Возможно, именно благодаря своей синкретичности данный образ прошлого приобрел такую популярность в современном коллективном знании и в массовом искусстве. История, «которой не было», представляется еще более героической, чем официальная, предлагает еще больше примеров патриотизма[159 - Ср.: «Героизация и сакрализация важного исторического события, которое фиксируется как элемент модели исторического прошлого, пропагандируемой официальным дискурсом… делает невозможной репрезентацию другого прочтения прошлого или попытку его рационального переосмысления». См.: Щербинина Н. Г. Героический миф в конструировании политической реальности России. М., 2008.] и поводов гордиться своей национальной принадлежностью; то есть, сконструированный образ прошлого выступает как «важный символический ресурс, открывающий путь к господству и власти. Он культурно окрашен и предполагает наличие особых стоящих за ним интересов. Эти интересы не всегда осознаются, зато всегда находят эмоциональное выражение»[160 - Шнирельман В. А. Нет истории в своем отечестве. Лекция в Политехническом музее 7 декабря 2012 г. // Общественно-политический портал Openspace, http://www.openspace.ru/article/680 (http://www.openspace.ru/article/680). Дата доступа 30 августа 2017 г.]. И одним из таких «эмоциональных выражений» образа прошлого, «растянутого» в пространстве и времени, в российской массовой культуре является славянский метасюжет.
Содержание националистического метасюжета русской культуры составляет общий культурно-идеологический контекст, в котором доминируют интерес к славянской (преимущественно русской) древности, истории, мифологии и фольклору, попытки установить преемственность между древнеславянской и современной российской культурой, всемерная, пусть и разнонаправленная идеологически, актуализация образов «славного прошлого», стремление обособить культуру славянских народов от других культурных традиций и даже противопоставить последним, нередко подчеркивая мировой приоритет славян в достижениях материальной и художественной культуры.
Возможно, корректнее было бы использовать в дефиниции определение «русский», однако, учитывая, во-первых, отчетливый панславянизм этого метасюжета (во всяком случае, он включает в себя конструирование единой восточнославянской общности[161 - См.: Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. С. 147—170; он же: История понятия «нация» в России. С. 280—300. Разумеется, таким панславянским конструированием активно занимается и паранаука; см., например: Серяков М. Л. Великий закон славян. М.: Вече, 2012; Асов А. Русь колыбельная. Северная прародина славян. М.: АСТ, 2001, и др.]), а, во-вторых, сложившуюся в последние десятилетия практику словоупотребления, в том числе в литературоведческих текстах, данный метасюжет – по аналогии со славянским фэнтези – оправданно характеризовать как «славянский» (или «условно-славянский»).
Повторюсь: славянский метасюжет в отечественной культуре имеет долгую историю, но рассмотрением и изучением этого сюжета в его целокупности никто пока, насколько нам известно, не занимался. Настоящая книга ни в коей мере не претендует на полноту освещения данного предмета, представляет собой лишь первый шаг в указанном направлении, но тема выглядит чрезвычайно содержательной и стимулирует исследовательский интерес.
В завершение придется снова затронуть вопросы терминологии. В последние годы в отечественном литературоведении довольно широко используется термин «национальный миф» – в сугубо литературоведческом значении. Предложившая этот термин Т. Н. Бреева указывает, что большинство литературоведческих концепций национального в той или иной степени ориентированы на примордиалистскую теорию, и полагает, что в сегодняшнем литературоведении «путь самоописания национального Мы начинает сближаться с мифопоэтической реконструкцией национальных смыслов[162 - Бреева Т. Н., Хабибуллина Л. Ф. Национальный миф в русской и английской литературе. Казань: Школа, 2009. С. 7.]». Это позволяет постулировать – со ссылкой на Э. Смита и его теорию наций как воображаемых сообществ, «реконструируемых» через переосмысление «этногенетических мифов»[163 - Смит Э. Национализм и модернизм: критический обзор современных теорий наций и национализма. М.: Праксис, 2004; Smith A. Ethno-symbolism and Nationalism: A Cultural Approach. NY: Routledge, 2009.] – бытование «национального мифа», который включает в себя различные аспекты существования национального образа мира в художественном тексте национальной культуры. Этот миф – само понятие «миф» трактуется по Р. Барту как коммуникационная система, «один из способов означивания» – «вырабатывает и транслирует национальную концептосферу», предполагает обязательное наличие исторического измерения («воображаемое прошлое»), имеет культурную природу и «протяженность» (динамичен, в отличие от статичного национального образа мира[164 - Ф. Шенк противопоставляет динамичный миф статичному стереотипу; последний «по природе консервативен», тогда как миф «меняется в зависимости от времени и идеологической потребности общества». См.: Шенк Ф. Б. Политический миф и коллективная идентичность. Миф Александра Невского в российской истории // Ab Imperio. 2001. №1/2. С. 141—164; он же: Александр Невский в русской культурной памяти. Святой, правитель, национальный герой. М.: НЛО, 2007.]) и репрезентируется в идеологических и художественных моделях.
Во многом термин «национальный миф» в таком значении видится синонимичным предлагаемому термину «национальный метасюжет». Как представляется, использование термина «миф» в данном контексте неудачно – в частности, вследствие чрезмерной семантической «нагруженности» этой лексемы, избыточности ее значений и их интерпретаций; иначе говоря, лексема «миф» обладает выраженной идеологичностью, и ее употребление фактически провоцирует реакцию адресата, лишает последнего возможности беспристрастной оценки всего комплекса идеологем и репрезентаций, скрывающихся за этим понятием. Кроме того, теория этносимволизма Э. Смита, сторонникам которой свойственно использовать словосочетание «национальный миф», рассматривает такой миф как символическое свидетельство только происхождения нации[165 - См., например: Smith A. Myths and Memories of the Nation. Oxford: Oxford University Press, 1999; Гудков Д. Б. Лингвистический миф в национальной мифологии // Вестник ЦМО МГУ. Филология. Культурология. Педагогика. Методика. №1. С. 79—85; Шнирельман В. А. Национальные символы, этноисторические мифы и этнополитика // Теоретические проблемы исторических исследований. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1999. Вып. 2. С. 118—147.], а не как символическое отражение «национального чувства» в развитии, что заметно сужает поле исследования. Наконец термин «национальный миф» – пусть те, кто применяет его в литературоведении, декларируют приверженность современным научным методам анализа, – побуждает вспомнить этнопоэтические категории наподобие «национального характера» и «национальной души» и ведет к неоправданной «психологизации» литературоведения; ср.: «Феминная природа России в русской литературе первых десятилетий ХХ века характеризуется замещением материнского архетипа архетипом Девы или более сложными вариантами их взаимодействия… Сложность взаимодополнения феминного и маскулинного в структуре национального мифа регулируется идеей игерогамии – священного брака правителя и страны. Художественной реализацией идеи иерогамии становится востребованность сюжета расколдовывания и освобождения Спящей Царевны…[166 - Бреева Т. Н. Концептуализация национального в русском историософском романе ситуации рубежности. Екатеринбург, 2010.]».
Нисколько не притязая на абсолютную истину, смею надеяться, что использование термина «метасюжет» в указанном контексте – и применительно к изучению культуры в целом – позволяет избежать перечисленных семиологических затруднений.
Рубежом в эволюции славянского метасюжета в отечественной культуре стало второе десятилетие XX века – как по причине революции, «отменившей» национализм[167 - О культурном национализме в царской России см.: Holmgren B. Rewriting Capitalism: Literature and the Market in Late Tsarist Russia and the Kingdom of Poland. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1998; Jahn H. F. Patriotic Culture in Russia during World War I. Ithaca: Cornell University Press, 1995; Clowes E., Kassow S., West J., eds., Between Tsar and People: Educated Society and the Quest for Public Identity in Late Imperial Russia. Princeton: Princeton University Press, 1991.] и провозгласившей торжество интернационализма, так и благодаря постреволюционному формированию в России новой культуры – общей, «прото-массовой». (Второй подобный «разрыв» пришелся на 1990-е годы.) Поскольку в настоящей книге рассматривается бытование славянского метасюжета именно в массовой культуре, логично было бы, вероятно, ограничить хронологические рамки исследования второй половиной XX и первым десятилетием XXI века. Но многие факторы, в совокупности формирующие текущее состояние славянского метасюжета в российской массовой культуре, являются современными социокультурными манифестациями процессов и тенденций, свойственных советской культуре, особенно ее позднего периода (1960-е – 1980-е годы). Поэтому далее будут относительно подробно проанализированы этапы развития интересующего нас метасюжета в советский период, а также будет затронут вопрос о правомерности использования термина «массовая культура» в отношении культуры СССР.
Часть 2. Славянский метасюжет в русской культуре нового и новейшего времени
«На дне души гудит подводный Китеж…[168 - Волошин М. А. Китеж.]»: славянский метасюжет в советской культуре эпохи Ленина – Сталина (1920-е – 1950-е годы)
В воспоминаниях поэта и будущего эмигранта Г. В. Иванова, который проживал в Петербурге с 1907 по 1922 год и, следовательно, был свидетелем и очевидцем всех социокультурных потрясений этого периода, рассказывается, как под заботливой опекой «символиста-фольклориста» С. М. Городецкого начинающие поэты проникались «страстью к лубочному русскому духу…». В числе таких поэтов («соблазненных мужичков») Иванов называет С. А. Есенина, Н. А. Клюева, С. А. Клычкова и описывает «типовой» дореволюционный поэтический вечер, устроенный Городецким: «Выходит Есенин. На нем косоворотка – розовая, шелковая. Золотой? кушак, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. В руках – о, Господи! – пук васильков – бумажных… Лады, Лели, гусли-самогуды, струны-самозвоны… Вряд ли раньше Есенин и слыхал об этих самогудах и Ладах… Выходит наряженный? коробейником из хора Клычков. Читает нараспев – как оперные слепцы. Те же Лады и гусли, только более деревянно, менее находчиво, чем у Есенина…» А в 1920-м «Городецкий, встряхнув кудрями и окинув аудиторию милыми, добрыми серыми глазами, читал стихи о Третьем Интернационале»[169 - Иванов Г. В. Петербургские зимы / Собрание сочинений. В 3 т. М.: Согласие, 1994. Т. 3. С. 65—71.].
Этот маленький эпизод культурной жизни пред- и постреволюционного Петербурга-Петрограда – далеко не единичный – наглядно демонстрирует выпадение славянского метасюжета из поля, перефразируя А. Л. Уайта, символически артикулируемой культуры[170 - См.: Уайт Л. Избранное: наука о культуре. М.: РОССПЭН, 2004.]. Новая власть, утвердившаяся в ходе революции, «распрощалась с концепцией коллективной идентичности старого порядка», опиравшейся, в том числе, на великорусский шовинизм, как неоднократно характеризовал «состояние умозрения» в царской России В. И. Ленин; вместо имперского культурного национализма, в контексте которого развивался и репрезентировался славянский метасюжет, теперь предлагались «идеи интернационализма и советского федерализма[171 - Шенк Ф. Александр Невский в русской культурной памяти. С. 250—256.]».
Большевики отвергали любые формы прежнего «буржуазно-эксплуататорского» национализма; впрочем, политическая ситуация вынудила их уже с 1918 г. допустить «хороший» национализм – как отличительную черту локальной идеологии и локальной политической деятельности угнетенных, колонизированных народов: такой национализм стал рассматриваться как необходимый этап в развитии нации, как инструмент строительства национального государства: «необходимо отличать национализм нации угнетающей и национализм нации угнетенной, национализм нации большой и национализм нации маленькой. По отношению ко второму национализму почти всегда в исторической практике мы, националы больших наций, оказываемся виноватыми в бесконечном количестве насилия[172 - Ленин В. И. К вопросу о национальностях или об «автономизации» (1922) // ПСС. М., 1975—1977. Т. 45. С. 359.]». Национализм же «плохой» трактовался как признак титульной (в империи), колониальной нации и подлежал на этом основании искоренению; отсюда множество упоминаний в большевистской публицистике о России как тюрьме народов и рассуждений об опасностях великорусского / великодержавного шовинизма, впоследствии частично вошедших в учебную программу советской школы и в немалой степени повлиявших на мировоззрение позднего советского и постсоветского социумов. Такая позиция, согласно которой местный национализм признавался «правильным», тогда как русскому национализму, то есть даже рефлексии коллективной идентичности, отказывалось в праве на существование в любой форме (дискуссия на XII съезде ВКП (б) в 1923 г. завершилась призывом к полному уничтожению остатков великорусского шовинизма как «первейшей задачи партии в национальном вопросе[173 - Двенадцатый съезд РКП (б). 15—17 апреля 1923 г. Стенографический отчет. М.: Изд-во политической литературы, 1968. С. 612. Ср. замечание Ленина: «Великорусский шовинист… сидит во многих из нас» (VIII съезд РКП (б). М., 1933. С. 108). Примером такого «шовинизма» может служить «красный патриотизм», как выразился большевик В. П. Затонский: «Тот факт, что Россия стала первой на путь революции… этот факт наполнил гордостью сердца всех тех, кто был связан с этой русской революцией, и создался своего рода русский красный патриотизм. И сейчас мы можем наблюдать, как наши товарищи с гордостью… считают себя русскими, а иногда даже смотрят на себя прежде всего как на русских…» (X съезд РКП (б). Март 1921 г. Стенографический отчет. М.: Политиздат, 1963. С. 203).]»), воплотилась в итоге в политике коренизации. Эта «позитивная национальная политика», по выражению Т. Мартина[174 - См.: Мартин Т. Империя «положительной деятельности». Нации и национализм в СССР, 1923 – 1939. М.: РОССПЭН, 2011; он же: Империя положительной деятельности: Советский Союз как высшая форма империализма // Государство наций. Империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина. М.: РОССПЭН, 2011. С. 88—116.], подразумевавшая дискриминацию титульной нации бывшей империи в пользу былых «угнетаемых» народов, последовательно реализовывалась в первое десятилетие советской власти во всех сферах общественной жизни; данное обстоятельство позволило Ф. Шенку сделать эмоциональный, но логичный вывод: «…новой власти было ненавистно все то, что ранее свидетельствовало о величии русской культуры и истории… это касалось и персонажей, ранее почитавшихся русскими национальными героями… а также идеи „самостоятельной“ русской истории[175 - В 1929 г. глава советской исторической школы академик М. Н. Покровский объявил «контрреволюционным» само представление о русской истории. См.: Hosler J. Die Russische Revolution in der sowjetischen Historiographie // Geschichte Russland und der Sowjetunion. Studienbrief der Fernuniversitaet Hagen, 1999. KE 6. S. 21.] или кириллического алфавита…[176 - Шенк Ф. Александр Невский в русской культурной памяти. С. 255]»
Здесь можно вспомнить и цензурные гонения русской народной сказки в 1920-х годах – одним из оснований для гонений послужил, как указывает К. А. Богданов, именно «национализм» этих сказок, противоречивший, по мнению советской цензуры и постреволюционной педагогики, воспитанию в ребенке чувства интернационализма[177 - Богданов К. А. О сказке // Богданов К. А. Vox Populi. Фольклорные жанры советской культуры. С. 80. См. в этой же работе библиографические ссылки на первоисточники.]. Впрочем, к концу 1920-х годов русские народные сказки начали возвращаться на полки библиотек, да и сама фольклористика именно в этот период начала оформляться как отдельная научная дисциплина – как наука о «массовом народном искусстве»; ее формирование сопровождалось научными и общественными дискуссиями о природе «единого народного» языка, об эпосе как проявлении «стихийного народного творчества», о необходимости для «мастеров культуры» развивать народную культуру и находить и проводить параллели между героикой древнерусских эпических сказаний и советскими трудовыми буднями[178 - Богданов К. А. О классике фольклора и задачах фольклористики // Op. cit. С. 105—107. О пертурбациях в истории советской фольклористики этих лет см.: Миллер Ф. Сталинский фольклор. М.: Академпроект. 2006; Иванова Т. Г. О фольклорной и псевдофольклорной природе советского эпоса // Рукописи, которых не было: Подделки в области славянского фольклора. М.: Ладомир. 2001. С. 403—432.].
Славянскому метасюжету в новой интернациональной классовой культуре – как писала Н. К. Крупская, суть пролетарской культуры состоит «в создании новых форм общественной жизни, которые помогли бы… распространить свое влияние на все население… когда изменится психология людей[179 - Крупская Н. К. О пролетарской культуре (1918) // Об искусстве и литературе. Статьи. Письма. Высказывания. М., Л.: Искусство, 1963. С. 81.]» – попросту не было места; во-первых, любые художественные и социальные репрезентации этого метасюжета трактовались идеологией новой власти как проявления упомянутого великорусского шовинизма, подлежащие «безжалостному выкорчевыванию», а во-вторых, сама условно-славянская тематика в постреволюционном социокультурном нарративе воспринималась как архаическая. Единственными, кто позволял себе актуализировать в позитивном ключе образы и топосы славянского метасюжета, оставались поэты – представители «поколения Серебряного века», в особенности символисты. Так, М. А. Волошин в цикле «Пути России» (1917—1921) вновь и вновь использует «националистические» семемы, «укоренившиеся» в культуре, – это и «Китеж»[180 - Об образе града Китежа в отечественной литературе см.: Комарович В. Л. Китежская легенда (Опыт изучения местных легенд). М. – Л.: Изд-во АН СССР, 1936; Шешунова С. В. Град Китеж в русской литературе: парадоксы и тенденции // Известия РАН. Серия литературы и языка. 2005. №7—8.; она же: Легенда о граде Китеже в контексте национального образа мира // Нижегородский текст русской словесности: Межвузовский сборник научных статей. Нижний Новгород: НГПУ, 2007. С. 359—362; Брагинская Н. В. Затонувший город: стратегема или мифологема? // Поэтика. История литературы. Лингвистика: Сборник к 70-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. М.: ОГИ, 1999. С. 25—37.] (о котором подробнее чуть ниже), и «Святая [Киевская] Русь», и «третий Рим», и «Дикое Поле», и «Славия» (в разнообразии интерпретаций: «славянством затаенный огонь», «Славия есть слава», «распутье сказочных дорог» и пр.); в «Заклятье о русской земле» из цикла «Возношения» (1923) образность славянского метасюжета подкрепляется имитацией фольклорной стилистики:
Встану я помолясь,
Пойду перекрестясь,
Из дверей в двери,
Из ворот в ворота —
Утренними тропами,
Огненными стопами,
Во чисто поле
На бел-горюч камень.
Стану я на восток лицом,
На запад хребтом,
Оглянусь на все четыре стороны:
На семь морей,
На три океана,
На семьдесят семь племен,
На тридцать три царства —
На всю землю Свято-Русскую…[181 - Волошин М. А. Собрание сочинений в 7 т. М.: Эллис Лак, 2001. Т. 1. С. 364.]
В текстах Н. А. Клюева присутствуют Сирин («на шестке сидит с крылом подбитым») и «ярый» Вольга, «ветер-Алконост» и Сивка-бурка, «Кащеево яйцо» и «избяной рай» Китежа; у Э. Г. Багрицкого довольно неожиданно встречаются «богатырская воля родная» и Микула, который «тащит сам по раздольям соху»; Сивку же, Хорса и Перуна призывает В. В. Хлебников, прославляя – в стихах это еще какое-то время допускается – «русских мальчиков».
Но достаточно быстро «русскость» нивелируется и в поэзии, замещаясь «советскостью», новой коллективной идентичностью, к формированию которой, если ограничиться сугубо полем литературы, были причастны как выразители новой государственной идеологии и теоретики Пролеткульта[182 - О Пролеткульте, его идеологии и деятельности см.: Добренко Е. Формовка советского читателя. М.: Академический проект, 1997; Карпов А. В. Русский Пролеткульт: идеология, эстетика, практика. СПБ.: СПбГУП, 2009; Николаева Л. С. Теория и практика Пролеткульта, 1917—1932 гг. М., 1997.] (цитируя А. К. Гастева, «мы объявим методический, но бешеный марш и начнем творить историю, которой у нас не было… Современная культура, та, которую нам надо для переделки нашей страны, это прежде всего сноровка, способность обрабатывать, приспосабливать, подбирать одно к другому, приплочивать, припасовывать, способность монтировать, мастерски собирать рассыпанное и нестройное в механизмы, активные вещи[183 - Гастев А. К. Снаряжайтесь, монтеры! // Юность, иди! М.: ВЦСПС, 1923. Цит. по: Гастев А. К. Поэзия рабочего удара. М.: Художественная литература, 1971. С. 42.]»), так и футуристы-ЛЕФовцы, ратовавшие за литературу факта. «Пролетарская поэзия, окончательно разрывая с традицией и культурной почвой, обрела свою новую цельность»[184 - Добренко Е. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. С. 24. О деятельности Пролеткульта и влиянии футуристов см. с. 6—30.]. Своего рода промежуточный итог этой эволюции космогонического акта Октября (Ф. Шенк) подвел бывший «серапионовец» Н. С. Тихонов в стихотворении из сборника «Брага» (1922):
Не бабьей издевке, не бороде патриаршей,