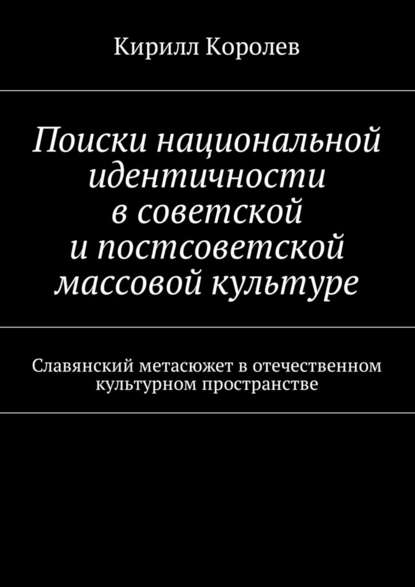По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Последний социолект, который необходимо рассмотреть для корректного описания грамматической ситуации слова «фэнтези» в русском языке, – академический. Поиск по базе диссертаций Российской государственной библиотеки[81 - Поисковый запрос «фэнтези»; результаты: http://sigla.rsl.ru/table.jsp?f=1016&t=3&v0=%D1%84%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&tr=Cyr-Common&cc=c3&s=2&ce=........................................................................6. Дата доступа 30 августа 2017 г.] позволяет выявить два варианта грамматической валентности слова «фэнтези» в социолекте отечественной науки: женский род («герой русской фэнтези», эта валентность преобладает) и аналитическое прилагательное («жанр фэнтези в русской литературе»); кроме того, отмечено единственное употребление слова «фэнтези» во множественном числе – «Славянские фэнтези в современном литературном процессе» (в единственном числе эта дефиниция имеет средний род). Поиск по базе статей научной библиотеки «Киберленинка»[82 - Поисковый запрос «фэнтези»; результаты: http://cyberleninka.ru/search?q=%D1%84%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B (http://cyberleninka.ru/search?q=%D1%84%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%25B). Дата доступа 30 августа 2017 г.] дает схожие результаты, только вместо женского рода в названиях статей гораздо чаще используется средний род («славянское фэнтези»); возможно, это следствие работы редакторов и корректоров, стремящихся соблюдать лексикографическую норму, на этапе предпечатной подготовки статей. Что касается монографий, посвященных или хотя бы затрагивающих фэнтези, их по-прежнему нет, за исключением интертекстуальных исследований Е. М. Неелова, который предпочитает говорить о фэнтези в женском роде («фэнтези популярна…» и т. д.), и фантастоведческих работ Е. Н. Ковтун (о них подробнее далее), которая тоже отдает предпочтение женскому роду («Я предпочитаю женский род по аналогии с фантастикой»[83 - Валеев А. Какого рода слово «фэнтези»? Интервью с Еленой Ковтун // Челябинский рабочий. 24 мая 2008 г. (Сетевая версия: http://mediazavod.ru/articles/37702 (http://mediazavod.ru/articles/37702). Дата доступа 30 августа 2017 г.).]).
Разнообразие артикуляций среди носителей языка в данном случае очевидно отражает многообразие социальных практик, связанных с употреблением слова «фэнтези», и даже позволяет выявить у этого слова собственный дискурс, «пределы» которого расширяются по мере освоения (рецепции) лексемы «фэнтези» русским языком. Полемика вокруг грамматических валентностей может быть истолкована как свидетельство «неустойчивой» референции фэнтези, причем референции не только лингвистической, но и культурной.
Массовая беллетристика как формульная литература
Массовую беллетристику в литературоведческих исследованиях и в публицистике нередко определяют как «формульную литературу», вкладывая в это определение уничижительный смысл, вновь заставляющий вспомнить казалось бы отмирающее противопоставление «высокой» и «низкой» литератур. «Обычные оценки… определяют массовую (она же – низовая, тривиальная, банальная, макулатурная, развлекательная, популярная, китчевая и т. д.) литературу как стандартизованную, формульную, клишированную, подчеркивая тем самым примитивность ее конструктивных принципов и экспрессивной техники. Однако внимательный анализ обнаруживает чисто идеологический характер подобных групповых оценок… Очевидно, что имеет место чисто оценочный и идеологический перенос содержательного, тематического момента на систему конструктивных принципов[84 - Гудков Л. Д., Дубин Б. В. Литература как социальный институт. Статьи по социологии литературы. М.: НЛО, 1995. С. 70.]». В частности, именно такое понимание дефиниции «формульная литература» свойственно работе С. В. Чупринина «Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям»[85 - См. статьи «Вкус литературный», «Криминальная проза», «Лавбургер», «Массовая литература», «Миддл-литература» // Чупринин С. В. Русская литература сегодня. Жизнь по понятиям. М.: Время, 2007.], позиционируемой как терминологический словарь и как учебное пособие. Одним из следствий подобной трактовки является, о чем говорилось выше, распространенное в академических кругах и среди представителей нормативной литературной культуры отношение к массовой беллетристике в частности и к массовой культуре в целом как к предмету, недостойному «серьезных» исследований.
Впрочем, все шире словосочетание «формульная литература» используется не как оценочный параметр, а как литературоведческий термин (подобно «банализации» в работах П. Бурдье), обозначающий особый тип беллетристики, характерный для массовой культуры. Этому типу беллетристики присуще, как следует из самого определения, использование формул, то есть конвенциональных структур сюжетов и образов, лежащих в основе однотипных произведений. Данный термин был предложен Дж. Кавелти[86 - Кавелти Д. Изучение литературных формул // Новое литературное обозрение. 1996. №22. С. 33—64.], и сегодня он применяется не только к литературе (массовой беллетристике), но и к другим видам массового искусства, прежде всего к кинематографу. Сам Кавелти позднее использовал термин «формульное повествование»[87 - Cawelty J. Mystery, Violence, and Popular Culture. Chicago: Popular Press, 2004.], однако это определение в значительной степени тавтологично («совокупно-повествовательное повествование»), поэтому логичнее рассуждать именно о формульной литературе.
Формульный элемент, по Кавелти, создает идеальный мир, в котором отсутствуют беспорядок, двусмысленность, неопределенность и ограниченность реального мира. Более того, «давнее знакомство читателей с формулой дает им представление о том, чего следует ожидать от нового произведения, тем самым повышает возможность понять и оценить в деталях новое сочинение». При этом «…формульный образец существует длительный период времени, прежде чем его создатели и читающая публика начинают осмысливать его как жанр» (перекличка с упоминавшейся выше теорией ключевых текстов). Формульная литература делает «акцент на действии и сюжете», в ней выражена «эскапистская особенность (уход от реальности)», она представляет собой «попытку интенсивного возбуждения, вовлечения в мир опасностей и переживаний»; при этом создаваемые формульной литературой фикциональные миры – это моральные фантазии (moral fantasy), которые помогают читателю испытать множество разнообразных сильных чувств без тех опасностей и трудностей, которые обычно сопровождают их в реальности. Значимость и особенность этих фантазий в том, что они позволяют читателям исследовать и испытывать границу между разрешенным и запрещенным, в том числе – запрещенным физическими законами реального мира.
Очевидно, что фэнтези отвечает всем перечисленным признакам формульной литературы. Однако определение Кавелти, на наш взгляд, нуждается в уточнении и расширении. Как представляется, понимание под формулами основных тематических направлений массового искусства (детектив, любовный роман и пр.) не совсем корректно – в первую очередь, из-за размытости «жанровых границ», многообразия вариаций конкретной формулы и невозможности однозначно дифференцировать художественные произведения по содержательному признаку. Вследствие этого предлагается характеризовать основные виды современной массовой беллетристики и массового искусства в целом именно как направления (фэнтези, триллер, «бондиана» и пр.), а понятие формулы применять для описания разновидностей указанных направлений. К примеру, когда имеется ряд произведений разных авторов, где художественно переосмысливаются последствии проникновения сверхъестественных сил в повседневную городскую жизнь, мы вправе говорить о «городской» формуле фэнтези. А когда в другом ряде произведений рассказывается о магических трансформациях известной реальности, мы можем постулировать наличие «альтернативной» формулы.
Опираясь на такое понимание формулы и на сюжетно-тематический принцип классификации фэнтези, можно, к примеру, выделить в современном фэнтези следующие литературные/культурные формулы:
– героико-эпическая (или «высокое» фэнтези, или «меч и магия»[88 - С. Алексеев предлагает различать героическую и эпическую фэнтези на том основании, что эпическая фэнтези строит «вторичные миры» и потому мифологична, а героическая сосредоточена на поступках индивида, чьи действия никак не влияют на миропорядок. См.: Алексеев С. Гомеры нового времени. // Если, 2006. №9, с. 281. На мой взгляд, это разграничение было правомерно «до Толкина»: в современной героико-эпической фэнтези индивид и мир, как правило, неразделимы.]);
– готическая (хоррор и вампирская тематика);
– «темная» («низкое» фэнтези, героико-эпическое фэнтези «наоборот»);
– городская (вторжение потустороннего в современную урбанизированную жизнь);
– детективная (детективные сюжеты в фэнтезийных мирах);
– альтернативная (изменение хода истории в реальном мире под воздействием магии);
– историческая (художественное изложений событий истории вымышленного мира, с минимальным внимание к проявлениям иррационального в этой истории).
Данные формулы характерны, по нашему мнению, именно для современного состояния фэнтези; в истории этого явления можно выделить и другие формулы, но сегодня они, как представляется, не являются актуальными – так, авантюрно-приключенческая формула, свойственная первому этапу развития фэнтези («прото-фэнтези», 1920-е – 1940-е годы), эволюционировала в нынешнюю героико-эпическую, и аналогичная эволюция зафиксирована для других ранних формул (подробнее об этом см. Приложение 3)[89 - Об эволюции фэнтези см.: Magill Frank N., ed. Survey of Modern Fantasy Literature. 5 vols. Englewood Cliffs, NJ: Salem Press, 1983; Moretti F. Graphs, Maps and Trees: Abstract Models for a Literary History. London, New York: Verso, 2005.].
Построение классификации фэнтези на основе формул позволяет формализовать указанную классификацию по сюжетно-тематическому принципу, причем такой классификатор обеспечивает широкий контекст для каждой категории. Кроме того, классификация с использованием формул обладает достаточно гибкостью, чтобы учитывать дальнейшую эволюцию фэнтези как литературного и социально-культурного явления.
Отталкиваясь от данного выше определения фэнтези и от классификации литературных/культурных формул, мы значительно сужаем историческое пространство эволюции этого жанрово-тематического направления. Безусловно, фэнтези имеет богатую предысторию (как уже упоминалось, некоторые исследователи прослеживают традицию фэнтези до эпоса о Гильгамеше и Гомера[90 - Так, английский исследователь Д. Прингл среди «источников» фэнтези перечисляет героический эпос, народную сказку, «древний религиозный элемент», мифологические мотивы и т. д. и завершает свое рассуждение следующим выводом: «Если считать от самого начала, фэнтези развивалась во множестве форм вместе с мировой литературой. Она присутствует в культуре с момента изобретения письменности, то есть 5000 лет». См.: Pringle D. Fulfilling the Heart’s Desire. // The Ultimate Encyclopedia of Fantasy. P. 9.]), однако как способ массового приобщения к чудесному данное явление оформилось лишь в XX столетии.
Космополитизм массовой культуры и ее национальная составляющая
«Феномен Гарри Поттера», о котором неоднократно упоминалось выше, представляет собой показательный пример такой характеристики массовой культуры как глобальность, космополитичность: некое культурное (масс-культурное) событие, имевшее место в конкретной стране и конкретной национальной культуре, благодаря как целенаправленной деятельности культурных агентов (издателей, литагентов, кинопрокатчиков, антрепренеров, СМИ), так и «потребительской моде», формирующейся в системе массовых коммуникаций и сетевого пространства, практически моментально «выплескивается» за национальные границы и становится общим культурным событием – во всяком случае, общим в пределах той сферы распространения, которая находится под влиянием современной массовой культуры. В этом смысле вполне справедливо утверждение, что массовая культура не имеет национальных границ и является космополитичной, «всеобщей»: прежние ценности, составлявшие ядро той или иной национальной культуры, видоизменяются под воздействием комплекса общих «транснациональных» ценностей, «обезличиваются», утрачивая национальное своеобразие, или даже вытесняются, приобретая черты маргинальности (ср., например, эволюцию института брака от патриархального уклада к многообразию нынешних форм).
Именно вследствие такой глобальности массовой культуры получают широкое признание новые жанры массового искусства (телесериал, «коммерческая» литература, музыкальные альбомы и др.) и усваиваются новые для локальной национальной культуры литературные / кинематографические и прочие, если коротко – культурные, формулы (расширение содержания термина, предложенного Дж. Кавелти для литературы, на всю совокупность продукции массовой культуры видится адекватным и обоснованным). В результате конкретная национальная культура приобретает унифицирующие признаки и обнаруживает стимулы к развитию уже в едином контексте глобальной массовой культуры.
Указанный процесс воздействия глобальной массовой культуры на «традиционную», то есть до определенного времени по тем или иным причинам остававшуюся вне сферы ее влияния, ни в коей мере не является односторонним, чего не желают признавать критики глобализации культуры, рассуждающие об «агрессивной аккультурации»[91 - См., например, многочисленные работы А. Г. Дугина, в частности, «Обществоведение для граждан Новой России» (М.: Евразийское движение, 2007).] и ставящие знак равенства между глобализацией в широком смысле и вестернизацией[92 - «Вестернизация есть явление универсальное по своему временному характеру и географическому охвату… Модель технологического общества со всеми его атрибутами – от массового потребления до либеральной демократии – в принципе легко воспроизводима и в силу этого является всеобщей». См.: Latouche S. The Westernization of the World. Cambridge: Polity Press, 1996. P. 50—51. О различии между глобализацией и вестернизацией см.: Иноземцев В. Л. Вестернизация как глобализация и глобализация как «американизация» // Вопросы философии. 2004. №4. С. 58—69.], или «американизацией» (в отечественной традиции такие критики в значительной мере воспроизводят штампы советской идеологии, видевшей в массовой культуре проявление «культурного империализма»[93 - Шестаков В. П. Мифология XX века. С. 201—218.]). Глобальная массовая культура и ее локальные национальные формы взаимно насыщают друг друга; различные культурные коды при пересечении порождают новые символические структуры, которые развиваются и распространяются в общекультурной «ризоме»[94 - О понятии ризомы см.: Николаева Е. В. От ризомы и складки к фракталу // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2014. №2. С. 114—119; Шакирова Е. Ю. Общее представление о строении и динамике современного социокультурного пространства. Ч. 2 // Власть. 2014. №2. С. 143—146.]. Применительно к массовой беллетристике это отражается в появлении и «банализации», в том числе транснациональной, целого ряда национальных литературных формул, а применительно к массовому искусству в целом – в возникновении конкурирующих, но не стесняющихся заимствовать друг у друга локусов культурного производства, например, Голливуда и индийского Болливуда[95 - См.: Sarkar B. The Melodramas of Globalization // Cultural Dynamics. 2008. №20. P. 31—51.] (или европейского и американского ТВ – в последнее десятилетие многие европейские телесериалы, прежде всего британские и скандинавские, получившие признание «на родине», повторно тиражируются в США в «адаптированном» виде, когда основная сюжетная линия сохраняется, но в сценарий вносятся изменения – локации становятся американскими и герои получают американское «гражданство»[96 - Из телесериалов последних лет следует упомянуть прежде всего шведско-датский проект «Мост» (Broen, 2011), который, после успеха на скандинавском ТВ, получил сразу две иностранные адаптации – американскую и франко-британскую.]).
В национальных литературах, которые подвергаются воздействию глобальной массовой культуры, наблюдается, как можно судить по ситуации в отечественной литературе, двунаправленный процесс: во-первых, происходит заимствование и освоение новых для данной литературы жанров, направлений и формул – именно так в современном литературном пространстве России появились детектив, триллер, фэнтези и другие жанры массовой беллетристики; во-вторых, «ассимиляция» этих жанров вкупе со сформированными и формирующимися читательскими ожиданиями, на которые реагирует рынок литературного производства, порождает «локализованные» версии масс-культурных жанров: в поле детектива, к примеру, достаточно быстро оформилось такое направление, как отечественный дамский иронический детектив (Д. Донцова, Д. А. Калинина, Т. В. Устинова и др.), в поле любовного романа возникла формула «глянцевой литературы», или «книг о новых русских» (О. Робски, Н. Г. Медведева, С. С. Минаев), а в поле фантастики сложились славянское фэнтези и «компенсирующая беллетристика».
Следует отметить, что для возникновения и оформления подобных «локализованных» культурных формул принципиально важна роль «образцового читателя» (У. Эко), то есть заинтересованной читательской аудитории. История развития массовой культуры в целом представляет собой историю тиражирования художественных приемов как ответа на рецепцию этих приемов массовым читателем / зрителем / слушателем, а национальные культурные формулы в этом отношении являются квинтэссенцией выражения потребительских ожиданий и предпочтений – «горизонта ожидания», если воспользоваться терминологией рецептивной эстетики. В данных формулах ярче всего выражается символический, ценностный спрос конкретной локальной аудитории, формирующий предложение; указанный спрос с точки зрения автора тождественен моде – «после Семеновой все бросились сочинять тексты про славянских богов и разных кикимор, а потом как отрезало[97 - Замечание писателя Э. В. Геворкяна (из личной беседы, 2004 г.).]» – и характеризуется свойственной моде как таковой динамике взлетов и падений, тогда как аудиторию отличает «эстетический консерватизм», способствующий последовательному выделению из общей массы поклонников того или иного направления массовой культуры ядра приверженцев отдельной культурной формулы и отдельного автора / исполнителя.
Безусловно, национальные культурные формулы ни в коей мере не являются сугубо российским продуктом – так, в Великобритании выделяют американскую научную фантастику и противопоставляют ей английскую «просто фантастику»[98 - См.: Johnston D. The BBC versus Science Fiction! The collision of transnational genre and national identity in British television in the early 1950s // British Science Fiction Film and Television: Critical Essays. Jefferson, NC: McFarland, 2011. P. 40—49.]. Но наша книга посвящена анализу ситуации в современной русской литературе, следовательно, в рамках предмета исследования интерес представляют те национальные формулы, которые вычленяют в общем литературном потоке отечественные потребители массовой культуры. Если проанализировать отечественный литературный рынок (сознательно избегаю определения «книжный», поскольку термин «книжный рынок» охватывает почти исключительно сферу производства и дистрибуции, деятельность издателей и книготорговцев, и практически игнорирует сферу потребления, читательскую / авторскую рецепцию смыслов и тенденций), мы обнаружим наличие целого ряда подобных формул в восприятии СМИ, критики и аудитории. В частности, это классический английский детектив, от У. Коллинза до Р. Гэлбрейта (псевдоним, под которым публикуются детективные романы Дж. Роулинг); американский комикс о супергероях; французский водевиль, прежде всего кинематографический, но также и литературный (драматургический), и французский же «экзистенциальный роман», от А. Камю до Ф. Бегбедера; латиноамериканскую школу магического реализма, от Г. Гарсия Маркеса до П. Коэльо; скандинавский полицейский детектив, от М. Шевалль и П. Вале до Ю Несбе, и так далее. Эта типология национальных формул едва ли не имплицитно присуща современному коллективному читательскому знанию, судя по материалам СМИ (цитирую по случайной выборке: «пьеса в духе французского водевиля», «мэтр классического английского детектива», «типичный американский комикс»); во всяком случае, данная типология активно используется в литературных и «окололитературных» дискуссиях на страницах прессы, и ею широко оперируют на сетевых ресурсах: предполагается по умолчанию, что любой участник дискуссии, вообще любой реципиент текста, в котором присутствуют подобные формулировки, понимает их содержание и способен более или менее адекватно формализовать, хотя бы интуитивно, отличительные признаки каждой формулы.
При этом для отечественной рецептивной парадигмы характерна определенная символическая иерархия: «наша» литература, классическая и массовая, в целом противопоставляется «не нашей», зарубежной, а внутри последней дополнительно вычленяются, как упоминалось выше, различные национальные формулы, которые, в свою очередь, обретают сугубо российских конкурентов и оппонентов. Эта символическая иерархия без труда прослеживается на примере трех наиболее популярных у читателей жанров массовой литературы – детектива, любовного романа и фантастики.
Первоначально каждый из этих жанров имел зарубежный «облик», то есть существовал в форме переводов художественных произведений с иностранных языков; затем – здесь я опираюсь на собственный издательский опыт (со второй половины 1980-х по 2010 год) – в читательской среде сформировался спрос на тексты о «наших людях», помещенных в сюжетный контекст массовой литературы, а далее началась эстетическая дифференциация жанров по темам и авторам, сопровождавшаяся возникновением уникальных (отсутствующих или не получивших широкого распространения в иных литературных традициях массовой беллетристики) национальных формул, к числу которых относится и славянское фэнтези. (Для фантастики, кроме того, можно выделить дополнительный уровень символической иерархии: российская – зарубежная, англо-американская – остальная зарубежная, наконец сугубо российская. Вдобавок имеется и оппозиция «российская – советская», чего не наблюдается в других жанрах массовой литературы; единственный жанр, который составляет конкуренцию фантастике по наличию советской «родословной», – исторический роман[99 - О советском историческом романе см.: Кожинов В. В. Статьи о современной литературе. М.: Современник, 1982; Петров С. М. Русский советский исторический роман. М. Современник, 1980; Филатова А. И. Советский исторический роман. Итоги его изучения и перспективы. Обзор литературы за 1950-70-е годы. //Русская литература. 1973. №1. С. 187—202; Добренко Е. Соцреализм в поисках «исторического прошлого» // Вопросы литературы. 1997. №1. С. 26—57.], но в этом поле налицо прямая преемственность моделей, сюжетов и художественных приемов, тогда как современная российская фантастика может считаться преемственницей советской почти исключительно хронологически, но не качественно – поскольку она использует преимущественно модели и приемы фантастики «в целом», которыми, по идеологическим соображениям, не могла оперировать в советский период.)
Как представляется, появление и развитие этих формул в отечественной литературе стало отражением поисков идентичности в современном российском социуме. Дезинтеграционные процессы, которые в публицистике и академических исследованиях принято обозначать как «распад / развал СССР», привели к краху социалистической государственной идеологии: былая идентичность советского «воображаемого сообщества» (Б. Андерсон) оказалась разрушенной, возник мировоззренческий вакуум, в котором растворился и официальный патриотизм[100 - «Дешевый казенный патриотизм» – по определению А. Н. Стругацкого. См.: Стругацкий Б. Н. Комментарии к пройденному. СПб.: Амфора, 2003. С. 37. О советском патриотизме см.: Тишков В. А. Этничность, национализм и государство в посткоммунистическом обществе. // Вопросы социологии. 1993. №12. С. 3—38; Ачкасов В. А. Россия: поиск национальной идентичности // Вестник СПб. ун-та. Сер. 6. СПб., 1998. Вып. 2. С. 31—36; Chulos C. J., Piirainen T., eds. The Fall of an Empire, the Birth of a Nation. Helsinki: Ashgate, 2000.], и массовый патриотический / националистический дискурс: конструкты «советский» и «русский» фактически утратили означаемое – во всяком случае, лишились для коллективного знания символической ценности. (Вероятно, стоит указать, что и в советское время идентичность не была единой – в коллективном знании советских людей уживались любовь к родной стране и негативное отношение к «этому государству»[101 - Попова О. В. Особенности политической идентичности в России и странах Европы // Политические исследования. 2009. №1. С. 17—20.]; любопытно, что подобное раздвоение социокультурной идентичности наблюдается и сегодня.) В известном смысле можно сказать, что произошло «обнуление» массового патриотизма; патриотический контекст на уровне массовой культуры был замещен контекстом глобалистским, прежде всего – в его англо-американском варианте: интенсивное заимствование английских лексических единиц русским языком, пропаганда, явная и скрытая, западных масс-культурных идеологем и ценностей, американское кино, американская и английская поп- и рок-музыка[102 - Музыкальная «интервенция» началась несколько ранее, в конце 1970-х гг., с распространением среди населения СССР сначала катушечных, а затем и кассетных магнитофонов и появлением в крупных городах многочисленных «студий звукозаписи», продававших кассеты с музыкальными записями, что позволило массово, пусть и не вполне легально, тиражировать популярную зарубежную музыку. Приблизительно этими же годами датируется «джинсомания» в СССР, тоже пример проникновения западной массовой культуры через «железный занавес». См.: Федулов А. Н. Неофициальная культура в СССР во второй половине 60-х – 80-х годах XX века. Элиста, 2010; Самушенок Д. В. Роль неофициальной музыкально-песенной культуры в формировании социально-политических ориентаций советской молодежи 1960-х-1980-х годов. Тверь, 2004; Sullivan J. Jeans: A Cultural History of an American Icon. New York: Penguin Putnam, 2007.], настоящий бум переводной литературы (в первую очередь переводов с английского языка – см. далее статистику книгоиздания в России за этот период). Впрочем, «фазис замещения» оказался достаточно коротким: уже после 1991 года в России начала заново формироваться обновленная русская идентичность[103 - О датировке см., например: Барулин B. C. Российский человек в XX веке. Потери и обретения себя. СПб: Алетейя, 2000.].
В пространстве массовой культуры это явление нашло свое выражение во внезапном – для стороннего наблюдателя – всплеске читательского и зрительского интереса к отечественной литературной и кинематографической продукции (в музыкальной культуре это произошло несколько ранее – молодежная субкультура преодолела присущее предыдущему поколению увлечение западной поп- и рок-музыкой и переориентировалась на отечественную музыку, точнее, на локализованные формулы западной музыки в формате, например, русского рока, от «Кино» и «Аквариума» до «Бригады С», а также на сугубо постсоветское музыкальное направление – «русский шансон»[104 - См.: Давыдов Д. М. Рок и / или шансон: пограничные явления // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Вып. 3. Тверь, 2000; Растимешина Т. В. Культурное наследие и подданическая политическая культура российского общества // Власть. 2012. №2. С. 18—21; Свиридов С. В. Что такое блатная песня // Слово.ру: балтийский акцент. 2011. №1—2. С. 139—144.]). Следует отметить, что указанное «спонтанное» стремление к обретению идентичности реализовывалось в том числе и при поддержке государственной пропаганды: можно вспомнить дискуссию в Государственной думе относительно нового гимна РФ в начале 1990-х годов, президентское поручение августа 1996 г. «разработать за год национальную идею»[105 - Подробнее см.: Татарченко О. С кого начинается родина? // Коммерсант, 8 августа 1997 г. С. 1; Сатаров Г. А. Россия в поисках идеи. М.: ИНДЕМ, 1997; Овсеенко Ю. С. Национальная идея современной России: инновационный фактор // Историческая и социально-образовательная мысль. 2010. №1. Т. 3. С. 19—24.] и другие шаги власти; кроме того, на формирование новой идентичности оказывали несомненное влияние различные общественные движения и инициативы – в частности, необходимо упомянуть такие организации, как Национально-патриотический фронт «Память», движение «Русское национальное единство» и другие ультраправые и шовинистические по идеологии объединения, а также распространение в социуме неоязыческих «родноверских» воззрений (подробнее о них см. ниже). Вдобавок в поисках «символических якорей» новой идентичности наметилась тенденция к актуализации образа «славного прошлого», следствием которой явились, с одной стороны, массовые переиздания российской исторической беллетристики, от М. Н. Загоскина до Д. М. Балашова, и трудов классиков отечественной исторической науки (Н. М. Карамзин, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, С. М. Соловьев), с другой – тиражирование многочисленных псевдоисторических, паранаучных «теорий» о глубокой древности и «первородности» славянской культуры и «праславянской цивилизации», а с третьей – «канонизация» в государственной культурной политике преемственности новой России по отношению к «руссоцентричной» (Д. Бранденбергер) идеологии позднесоветского периода и к культуре дореволюционной России / Руси, в том числе через восстановление авторитета Русской православной церкви и через официальную поддержку православия.
Также немаловажную роль играли и продолжают играть такие «анти-позитивные» интегрирующие стимулы, как объединение на основе «негативной идентичности» (распространения в коллективном знании идеологемы «врага» – когда социальная группа объединяется по признаку «мы против кого-то» или «кто-то против нас»[106 - О негативной идентичности в постсоветском обществе см.: Гудков Л. Д. Идеологема «врага». «Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции // Образ врага. М.: ОГИ, 2003. С. 7—79. Автор статьи справедливо указывает, что видеть в идеологеме «врага» только результат влияния пропаганды, то есть манипулирования коллективным знанием, будет сильным упрощением: «Никакая пропаганда не может быть действенной, если она не опирается на определенные ожидания и запросы коллективного знания, если она не адекватна уже имеющимся представлениям, легендам, стереотипам понимания происходящего… Рост значимости представлений о враге всегда является производным усилий и движений с двух сторон – заинтересованных и относительно рационализированных интерпретаций господствующих элит и аморфных, разнородных массовых взглядов…» (с. 11).]) и на основе «патриотизма отчаяния» (термин С. А. Ушакина, который полагает травму, психологический опыт потери, идентификатором различных форм сообществ постсоветского социума[107 - Oushakine S. The patriotism of despair: nation, war, and loss in Russia. Ithaca: Cornell Unniv. Press, 2009; Ушакин С. Жизненные силы русской трагедии: о постсоветских теориях этноса // Ab Imperio. 2005. №4. С. 233—277; Роджерс Д. Рецензия на книгу С. Ушакина «Патриотизм отчаяния» // Вестник Пермского ГУ. Вып. 1 (13). 2010. С. 84—85.]); в массовом искусстве, прежде всего в литературе и в сетевой культуре, эти стимулы нашли свое выражение в возникновении и развитии направления «компенсирующей беллетристики» и «компенсирующей публицистики».
В совокупности эти факторы способствовали началу формирования новой социокультурной идентичности современного русского; данный процесс далек от заверения – насколько вообще возможна фиксация столь динамичного концепта как осознание идентичности, – однако его активная «банализация» в современной российской массовой культуре является свидетельством постепенной кодификации признаков новой идентичности.
Подчеркнем, что речь идет именно о социокультурной идентичности. В отличие от так называемых традиционных – или очевидных, в терминологии П. Бергера и Т. Лукмана[108 - Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. Очевидные идентичности свойственны минимально дифференцированным обществам, идентичность целиком представляет ту объективную реальность, в которую она помещена.] – идентичностей (этнической, гендерной, гражданской, профессиональной и пр.) эта идентичность подразумевает существование общего семиотического пространства принадлежности к конкретной культуре – причем в широком понимании последней, от классических образцов «высокого искусства» до откровенно китчевых продуктов «низового» масс-культа, причем в это пространство включаются не только результаты собственного «духовного» производства, но и плоды иных культурных идентичностей, усвоенные, ассимилированные данной культурой и ставшие ее артефактами. Социокультурная идентичность охватывает комплекс представлений – ценности, традиции, веру, язык, систему социальных институтов, искусство и т. д. Метафизически и метафорически такая культурная принадлежность рефлексируется как «национальный дух», а в массовой культуре репрезентируется «национальными» формулами массового искусства. Чем шире «зона притяжения» этой идентичности, чем активнее рационализируются механизмы соответствующей идентификации, тем больше оснований говорить о рождении / возрождении в социуме культурного национализма.
В декабре 2014 года в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге прошла панельная дискуссия «Геополитическое значение литературы и ее распространения в мире». Сама постановка вопроса, понимание литературы как одного из элементов «мягкой силы», рассуждения о русском национальном характере и традиционных русских ценностях, отражаемых литературой, как классической, так и массовой[109 - Концепцию «мягкой силы» сформулировал американский политолог Дж. Най, который видит в ней «способность получать желаемое при помощи привлекательности». См.: Nye J. The Powers to Lead. NY: Oxford University Press, 2008. О геополитическом значении русской литературы см. выступление на указанном форуме К. И. Косачева, бывшего главы Россотрудничества – ведомства, в задачу которого входит «улучшение образа России за рубежом», – на официальном сайте этой государственной структуры: http://rs.gov.ru/about/document/4053.] – все это показывает, что культурный национализм укрепляет свои позиции в современном российском обществе.
Сразу оговорюсь, что в данной книге термины «национализм» и «националистический» используются вне какого бы то ни было оценочного контекста – вопреки сложившейся в отечественной традиции практике словоупотребления, восходящей к советскому периоду[110 - В «Современном толковом словаре русского языка» под ред. С. А. Кузнецова (2001) национализм толкуется сугубо отрицательно, как «идеология и политика, исходящая из национального превосходства и противопоставления своей нации другим». О советской семантике слова «национализм» см.: Тишков В. А. Очерки теории и политики этничности в России. М.: Русский мир, 1997.] (исторически негативная трактовка национализма восходит к работам В. С. Соловьева, который утверждал, что «национализм… есть полное извращение национальной идеи»[111 - Об усвоении национализма русской культурой см.: Миллер А. И. История понятия «нация» в России // Понятие о России: к исторической семантике имперского периода. В 2 т. М.: НЛО, 2012. Т. 2. С. 7—49.]). Национализм, равно как и патриотизм, трактуются в книге как квалитативно нейтральные дефиниции; эти и родственные им понятия суть социально-идеологические конструкты, характеризующие признаки наций как «воображаемых сообществ», «культурные артефакты»[112 - Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. С. 7.], создаваемые из субъективных представлений о реальном мире и служащие пропагандистским и мобилизационным целям. Именно в подобном нейтральном, конструкционистском значении нужно толковать и выражение «русский культурный национализм», которое будет довольно часто встречаться в тексте книги. Это идеология во многих отношениях сохраняет актуальность для русской культуры в целом вот уже третье столетие, получая многочисленные манифестации в искусстве; кратко ее можно определить как совокупность идеологических и социально-культурных практик, постулирующих и пропагандирующих приоритет русской культуры – по самым разным параметрам – перед другими культурами.
Единой теории национализма не существует – и не может существовать, поскольку, как убедительно доказал Дж. Холл[113 - Hall J. Nationalism: Classified and Explained // Daedalus. 1993. Summer. P. 1—28.], термином «национализм» обозначают целый ряд явлений и процессов, которые принципиально различаются между собой по обстоятельствам места и времени. Ситуационный подход требует изучения различных форм социального / социокультурного взаимодействия с учетом «всех вовлеченных в это взаимодействие акторов», понимания логики, «в том числе субъективной мотивации их [акторов] поведения», учета «особенностей обстоятельств, в которых это взаимодействие происходит»[114 - Миллер А. И. Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. М.: НЛО, 2008. С. 55.]. Культурный национализм, таким образом, выступает как одна из разновидностей национализма «вообще», оформляющаяся в конкретном социуме на определенном этапе исторического и социально-культурного развития.
Представление об исключительности собственной культуры по отношению к культурам «других» – то есть культурный национализм – прослеживается в человеческой истории со времен античности: знаменитое противопоставление «эллинов» «варварам», обнаруживаемое уже у Гомера (карийцы названы barbarophonoi – «говорящими на варварском наречии»[115 - Подробнее о частотности употребления слова «варвар» античными авторами и понимании этого слова см.: Маринович Л. П. Возникновение и эволюция доктрины превосходства греков над варварами // Античная цивилизация и варвары. М.: Наука, 2006. С. 5—29.]) и широко популяризированное, во всяком случае, для последующих поколений, в пьесах Эсхила и Аристофана, в «Истории» Геродота, в диалогах Платона и сочинениях Аристотеля является первым (конечно, если исключить из рассмотрения «Ригведу» и Ветхий Завет) письменно зафиксированным проявлением и свидетельством культурного национализма. Причем именно «культурного»; для Геродота варвар – Другой, но еще во многом ровня греку, способный творить «великие и удивления достойные деяния», а Исократ, к примеру, утверждал, что варвары неспособны к культурным актам, что «самое имя эллина становится обозначением не происхождения, но культуры», что «эллинами чаще называют получивших одинаковое с нами образование, чем людей одного и того же происхождения[116 - Исократ. Панегирик. 50. Цит. по: Маринович Л. П. Возникновение и эволюция доктрины превосходства греков над варварами. С. 10.]».
По справедливому замечанию А. И. Миллера, применительно к ситуации в современной России налицо «разумное понимание „русскости“ как культурной идентификации»[117 - Миллер А. И. Дебаты о нации в современной России // О русском национализме. Лекции, статьи, диалоги. Компендиум материалов сайта «Полит.ру». М., 2013. С. 70.]; для коллективного знания это обеспечивает единую семиотику социокультурного пространства – и одновременно позволяет выстраивать оппозицию «свой—чужой» по признаку включенности в это пространство. Массовая культура, будучи «слепком» коллективного знания, воспроизводит и тиражирует указанные ценностные установки, способствуя популяризации культурно-националистического дискурса.
В основе культурного национализма лежит представление о национальном образе мира. Автор «философского бестселлера» (из издательской аннотации) «Ментальности народов мира» Г. Д. Гачев расширяет примордиалистские концепции И. Г. Гердера и Ф. Шеллинга[118 - Во многом современные трактовки национального духа, национального образа мира и т. д. «наследуют» романтическим концепциям, и потому их можно охарактеризовать как своего рода «инерцию романтизма» в современном мировоззрении, как научном, так и массовом; кроме того, в отечественной традиции на эволюцию этих представлений оказала сильное влияние русская религиозная философия конца XIX – начала XX веков. См. об этом: Федотова Л. В. Народная культура как основание поисков романтизмом национальной идентичности. М.: Альтаир, 2011; Шпагин С. А. Романтизм и русская политическая мысль в первой половине XIX века // Вестник ТГУ. 2005. №287. С. 157—162; Кошарный В. П. Национальная философия и национальная ментальность (к вопросу об особенностях русской философии) // Актуальные проблемы науки и образования: труды Международного юбилейного симпозиума. В 2 т. Пенза: ИИЦ ПГУ, 2003. Т. 1.; Гулыга А. В. Русская идея и ее творцы. М.: Эксмо, 2003.] о природе национального до «космических» масштабов: «Нас интересует не национальный характер, а национальное воззрение на мир… национальная логика, склад мышления: какой „сеткой координат“ данный народ улавливает мир, и, соответственно, какой космос… выстраивается перед его очами и реализуется в его стиле существования, отражается в созданиях искусства и теориях науки. Это особый поворот, в котором предстает бытие данному народу, и составляет национальный образ мира»[119 - Гачев Г. Д. Ментальности народов мира. М.: Эксмо, 2008. С. 16.]. Согласно этой точке зрения, каждый народ – или группа родственных народов – обладает собственной, «национальной» картиной мира, которая получает воплощение в структуре мышления, в поведении, в общих ценностях, в религии, идеологии, искусстве и, как следствие, в массовой культуре. Тем самым фактически постулируется необходимость культурного национализма как способа культурной самоидентификации.
Привычные для литературоведения рассуждения о национальном своеобразии той или иной литературы приобретают в рамках этой концепции значительно более широкий контекст: «Становление нации неотрывно от дискурсивных процессов – от наррации, истории или историй, не важно, вымышленных или претендующих на достоверность, которые тиражируются посредством общедоступного печатного слова, закрепляясь таким образом в общественном сознании»[120 - Венедиктова Т. Д., Макеев М. С. Общение как учение. Международная летняя школа МГУ: опыт педагогической саморефлексии // Русский журнал. 25 января 2002 г. Сетевая версия: http://old.russ.ru/ist_sovr/sumerki/20020125_III.html. Дата доступа 30 августа 2017 г. См. также: Нация как наррация. Опыт американской и русской культуры: Материалы IV Летней Фулбрайтовской гуманитарной школы в МГУ им. М. В. Ломоносова. М.: ООО «Аванти», 2002.]. Выявление в литературе этностереотипов («общих мест» национальной культуры) позволяет делать далеко идущие выводы, которые обосновывают «особость» конкретной культуры и подчеркивают специфические черты, отличающие ее – как правило, выгодно – от прочих; ср.: «Россия – мать-сыра земля, то есть „водо-земля“ по составу стихий. И она – бесконечный простор… Россия – огромная белоснежная баба, расползающаяся вширь… Очевидно, что по составу стихий ее должны восполнить воздух и огонь, аморфность должна быть восполнена формой… по пространству должно врубиться работать время (ритмы истории) … Это и призвано осуществлять мужское начало здесь. Россия-мать рождает себе сына – русский народ, что ей и мужем становится… Второго мужа России понадобилось завести… который бы ее… крепко обнял-обхватил обручем с боков, чтобы она не расползалась… И этот мужик – чужеземец… Недаром в русском романе при [женщине] два героя. При Татьяне – Онегин… и генерал. При Анне – солдат Вронский… и министр Каренин. При Ольге – Обломов… и немец Штольц…»[121 - Гачев Г. Д. Ментальности народов мира. С. 207—208.]
Художественная литература признается «зеркалом», в котором отражается национальная картина мира, а эта картина постулируется как результат «работы» национальной ментальности; последняя же есть «некая многогранная призма… сквозь которую общность и составляющие ее индивиды рассматривают и оценивают действительность, в результате чего создают свою картину мира»[122 - Попова М. К. Национальная ментальность, национальная картина мира, художественная литература// Языковое образование в России: прошлое, настоящее, будущее.: Материалы научно-практической конференции. Сетевая версия: http://www.isuct.ru/konf/hum2005/lang_edu_rus_2005.htm#Nats_Mentalnost_Popova (http://www.isuct.ru/konf/hum2005/lang_edu_rus_2005.htm#Nats_Mentalnost_Popova). Дата доступа 30 августа 2017 г.].
Изучением различных манифестаций национального духа в литературных произведениях занимается современная научная (точнее, паранаучная) дисциплина, получившая название «этнопоэтика». Следует отметить, что само возникновение этой дисциплины в современном научном дискурсе и ее относительную популярность[123 - Более 170 результатов в поисковой выдаче по запросу «этнопоэтика» в базе диссертаций DisserCat, около 40 публикаций по базе научных статей «КиберЛенинка» за последние 4 года. Дата доступа 30 августа 2017 г.] можно трактовать как свидетельства русского культурного национализма. Свое «происхождение» этнопоэтика ведет от лингвистики – точнее, от лингвокультурологии, которая переосмыслила гумбольдтианскую идею о языке как живом организме, конституирующем представления индивида о внешнем мире, через гипотезу лингвистической относительности Э. Сепира и Б. Уорфа и концепцию содержательной грамматики Л. Вайсбергера. По замечанию М. В. Безродного, «в лингвистике российской гипотеза лингвистической относительности в постсоветское время становится весьма влиятельной доктриной, о чем свидетельствует, помимо прочего, заметный, особенно с середины 2000-х гг., рост числа публикаций, в которых соответствующие термины и ссылки выполняют исключительно декоративную функцию»[124 - Безродный М. В., Павлова А. В. Хитрушки и единорог: из истории лингвонарциссизма // Политическая лингвистика. 2011. №4 (38). С. 14.]. Главным направлением деятельности этой ветви лингвистики является поиск и анализ «концептов», или «ключевых слов», которые «объявляются конститутивными» для «русской ментальности», она же «русская картина мира». Идея «концептов», предложенная в свое время А. Вежбицкой, оказалась востребованной в российской науке и в современной российской массовой культуре, как можно судить по публикациям СМИ, и неозападниками, и неославянофилами (примеры см. в указанной статье М. В. Безродного). Учитывая «междисциплинарный» характер понятий «концепт» и «картина мира», их появление в понятийном аппарате «смежных» с лингвистикой гуманитарных дисциплин было лишь вопросом времени.
В 2008 году была опубликована программная для данного направления статья В. Н. Захарова «Православные корни русской классической литературы», где утверждается, что «всем многообразием процессов, обуславливающих возникновение национальных особенностей той или иной литературы» должна заниматься целая дисциплина – этнопоэтика, и что «из прочтения большинства русских классических текстов следует, что всем им, даже атеистическому меньшинству, присуще: 1) употребление христианских мотивов, образов, интерпретация легенд, библейских сюжетов и жанров; 2) использование христианского календаря, 3) использование говорящих имен героев»[125 - Захаров В. Н. Православные корни русской классической литературы // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». 2008. №4 – Культурология. URL: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/4/Zakharov/. Дата доступа 30 августа 2017 г. Данную тему В. Н. Захаров разрабатывает с середины 1990-х годов (см., например: Русская литература и христианство // Евангельский текст в русской литературе XVIII – XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 3. Петрозаводск: ПетрГУ, 1994. С. 5—12; Православные аспекты этнопоэтики русской литературы. Евангельский текст в русской литературе XVIII – XX веков. Цитата, реминисценция, мотив, сюжет, жанр. Вып. 5. Петрозаводск: ПетрГУ, 1998. С. 5—30). Отмечу также работу У. Б. Далгат «Этнопоэтика в русской прозе 20-х – 90-х годов XX века» (М.: ИМЛИ РАН, 2004).]. Оставляя в стороне о православных корнях (которые автор статьи раскрывает исключительно на беглом и пристрастном анализе «Бесов» Ф. М. Достоевского, что не мешает ему распространить свой вывод на всю русскую классическую литературу), отметим, что национальные особенности литературы в понимании автора суть та сама языковая картина мира, репрезентируемая в художественных произведениях. Продолжая эту линию рассуждений, З. П. Табакова утверждает, что «этнопоэтика помогает вскрыть эмоциональную, гуманную, эстетическую, интеллектуальную сферу чувств; выявить особенности поэтики, ее основных проблем, духовных и эстетических ценностей», поскольку «органическая связь языка с культурой и обществом делает его важнейшим компонентом национального духа», а этнопоэтическое изучение литературы содействует выявлению «ключевых констант национальной картины мира»[126 - Табакова З. П. Этнопоэтика: предмет исследования и этнопоэтический анализ // Вестник Челябинского ГУ. 2014. №7 (336). Филология. Искусствоведение. Вып. 89. С. 205.].
В пространстве современной российской массовой культуры этнопоэтические / лингвокультурологические идеи «ключевых слов», образов и «констант» используются чрезвычайно широко (чем, вероятно, и спровоцировано отчасти рождение этнопоэтики как (пара) научной дисциплины), вследствие обозначенного выше националистического дискурса этой массовой культуры, причем во множестве вариантов, от намеренной стилизации авторского текста и речи персонажей под «исконный стих», вплоть до почти анекдотических форм, заставляющих вспомнить хрестоматийного старика Ромуальдыча из «Золотого теленка», и до выстраивания новых культурных жанров, объединенных наличием в повествовании разнообразных «национальных» (псевдо-национальных; подробнее см. ниже) элементов и / или наличием общих для конкретного жанра и без труда опознаваемых потребителем культурной продукции типажей, мотивов и сюжетных ходов. Вполне в духе этнопоэтики (почти наверняка о том не подозревая) под эти жанры и формулы пытаются подвести идеологический «фундамент», позволяющий характеризовать локальные формы массовой культуры как цивилизационные отличия.
Так, публицист К. А. Крылов утверждает, что западное фэнтези представляет собой литературную репрезентацию так называемого «артурианского мифа», который якобы определяет развитие западной культуры / цивилизации: «Это позднее средневековье – то есть мир разобщенный, разделенный на маленькие части, и у каждого клочка земли, у каждой скалы есть свой хозяин и насельник, не подчиняющийся никому и ничему, кроме грубой физической силы, и ведущий бесконечные войны с соседями. Единственное, что хоть как-то объединяет этот мир – это сложившийся за века усобиц „рыцарский кодекс“, то есть определенные понятия о чести и достоинстве… Прежде всего, сам король Артур, волею Божией… и велением Судьбы… правитель… Он олицетворяет собой Порядок, Меру и Строй, которые он должен дать разобщенному миру… Он олицетворяет собой идею Всеобщего Закона, перед которым все равны, и Высокой Цивилизации, вкусить благ которой достойны наилучшие. Цель его правления – не удержание власти ради власти, а нечто большее: просвещение мира, распространение законов рыцарства на… весь обитаемый мир… Круглый Стол – это не столько деталь интерьера, сколько символ нового общества, общества Сильных и Равных, общества Автономных Индивидуальностей, подчиненных Закону и Порядку, чьи претензии на превосходство и власть ограничиваются только Правилами Чести… Противники тоже известны. Это Зло, отождествляемое с Дикостью, Коварством и Беззаконием, мир древнего нечистого колдовства и черной магии… Вдохновляющая легенда превращается в быль. Царство Закона и Прогресса всё-таки создано, и это царство – Западная Европа. Таким образом, легендаристика артурианского цикла – это Европейский Миф, который еще можно назвать Мифом о Прогрессе».
В масштабах мировой культуры / геополитики «артурианскому» мифу противостоят различные «антизападные» идеологии, прежде всего «восточный миф», под которым публицист понимает «продажу восточной экзотики в западной упаковке», своего рода саидовский «ориентализм», сменивший вектор: «Это не та ситуация, когда Порядок борется с Хаосом, а ситуация, когда один Порядок пытается сохраниться перед лицом другого Порядка, на первый взгляд – более прогрессивного, а на самом деле – всего лишь более сильного». Проблема же «русского фэнтези», по мнению Крылова, состоит в том, что это направление не имеет собственной идеологии: «Пустота и скука [отечественного] фэнтези связана прежде всего с отсутствием основного мифа, в рамках которого можно наворачивать приключения на приключения так, чтобы все это не казалось полной бессмыслицей. Дело в том, что артурианский Миф о Прогрессе на отечественном материале смотрится крайне нелепо. Как, впрочем, и восточный Миф о Самобытной Древности». Как суррогат подобного мифа могли бы использоваться былины «богатырского цикла», но сразу встает вопрос, «вокруг чего должны вертеться все эти истории… Какой высокий смысл в существовании Владимирова двора? Что такого ценного защищают богатыри русские, окромя живота своего? Где тот Грааль, вокруг которого и ради которого все?»
(В художественной форме полемику об артурианском мифе и отсутствии такового в русской культуре изложил, со свойственной ему язвительностью, М. Г. Успенский в одном из своих последних романов, «Богатыристика Кости Жихарева» (2013): «Если сказать честно, то король Артур – личность не более реальная, чем наш русский Царь Горох. Но о короле Артуре и его рыцарях написаны тысячи книг, сложены сотни баллад, сняты десятки фильмов и сериалов, создано множество живописных и музыкальных произведений. А про Царя Гороха рассказывает только одна книга, да и ту сочинили академики Платонов и Невтонов. Называется она „Царь Горох – потомок инопланетных пришельцев“… В конце концов „Смерть Артура“ стала настольной книгой всякого британского патриота. И не только британского. Любой образованный (и даже не очень) европеец (француз, немец, итальянец, бельгиец) прекрасно знал, кто имеет право взять в руки Святой Грааль, почему королевский меч надо вытаскивать из камня, куда феи увезли смертельно раненного Артура и на кого забрасывает свои сети Король-рыбак… Но на Руси так и не нашелся человек, который мог бы, подобно сэру Томасу Мэлори, свести воедино все былины – не важно, в стихах или в прозе. Хотя все необходимые условия для этого великого деяния, казалось бы, созданы: суровые законы, немилостивые судьи, огромные сроки, крепкие тюрьмы… А на выходе – то „Колымские рассказы“, то „Архипелаг ГУЛАГ“, а то вообще „Наследник из Калькутты“. Ментальность, видимо, не та…»)
Завершается статья Крылова рассуждениями об «исконном» цивилизационном противостоянии России Западу и призывами «ввести в оборот малоизвестную часть славянской мифологии» и разворачивать собственную культурную экспансию, «демонстративно отождествляя себя с теми, кого Запад ненавидит и считает злодеями». Поскольку «литература (как, впрочем, и любой другой род искусства) – это средство, позволяющее инвестировать внимание и время (оно же – деньги) читателей в определенные объекты», следует активно экспортировать свой символический капитал, наращивая привлекательность (очевидная отсылка к концепции Дж. Ная) «русского мифа», в том числе для носителей русской культуры, ибо посредством такого экспорта заметно увеличиваются «симпатии к себе»[127 - Крылов К. А. Рассуждение о русской фэнтези // Статья в сетевой энциклопедии «Традиция». 2010. URL: http://traditio-ru.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2:%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8#cite_ref-3. Орфография первоисточника сохранена. Дата доступа 30 августа 2017 г.].
Родновер и автор ряда произведений «родноверского» фэнтези (см. часть 3) Озар Ворон (Л. Р. Прозоров) полемизирует с Крыловым, упрекая того в чрезмерном увлечении геополитической конспирологией. На взгляд Прозорова, главная беда отечественного фэнтези и отечественной массовой культуры вообще – не «козни Запада», рассуждения о которых всего лишь «уводят в дебри» цивилизационной теории, а привитое еще советским сказочным кино насмешливое, ироническое отношение к собственной мифологии: «Что знает обыватель про русские сказки? Да то, что показало ему телевидение, не более. Подойдите к нему, спросите про Крошечку-Хаврошечку, про Ивана Быковича. Эти сказки есть чуть ли не в любом сборнике – да кто ж их читал?! Представления о более известных сказочных персонажах целиком сформированы советскими фильмами. Про языческую древность я вообще молчу. Слово „Перун“ сподвигнет разве что на неприличное созвучие. Имени „Велес“ он вообще не слыхал. Лада – это марка авто или кличка собаки. Про менее „засвеченных“ божеств умолчим из милосердия»[128 - О влиянии советского кинематографа на стереотипные представления о славянской древности в массовом сознании см. ниже.]. Необходимо восстанавливать / развивать уважение к русской культуре, «поднимать пласты» забытой мифологии, актуализировать «славное прошлое» в его «неискаженном» облике: «Да здравствует фэнтези Яги, Кощея и Змея Горыныча – сверхновое, агрессивное славянское фэнтези!»[129 - Озар Ворон. О фэнтези славянском и западном // Портал «Советник». URL: http://www.1-sovetnik.com/articles/article-535.html (http://www.1-sovetnik.com/articles/article-535.html). Дата доступа 30 августа 2017 г.]
Несмотря на расхождение во мнениях относительно семантических валентностей национальных формул в контексте массовой культуры, оба публициста, равно как и сторонники обеих точек зрения[130 - См. обсуждение статьи Озара Ворона на форуме «Альтернатива»: http://alternatiwa.org.ru/_6.04.08/1-20-640-00000753-000-0-0.html. Дата доступа 30 августа 2017 г.], согласны, что национальные формулы глобальной массовой культуры способны – и должны – развиваться и далее. К сожалению, при анализе, пусть даже публицистическом, локальных культурных формул, как правило, упускаются из вида либо неоправданно сужаются[131 - Примеры сужения контекста для другого направления массовой культуры – детектива: Белозерова И. В. Жанр детектива как отражение национальной ментальности // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2006. №2. С. 316—317; Беляевская Е. Г. Когнитивные критерии выделения литературного жанра // С любовью к языку: сборник научных трудов. Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. С. 384—392; Мельник В. В. Познавательно-эвристическое значение художественной литературы детективного жанра // Психологический журнал. 1992. Т. 13. №3. С. 94—101; Сошкин Е. Детективный сериал и серийный убийца (жанр как дилемма) // Новое литературное обозрение. 2011. №108 (2). С. 184—213.] широкие социокультурные рамки, в которых складываются и воспроизводятся соответствующие сюжетные комплексы. Хотя, разумеется, эти новые национальные формулы, новые культурные жанры не возникают из ниоткуда; все они представляют собой очередные стадии развития культурного национализма и в качестве таковых подлежат изучению в контексте хронологических сюжетно-тематических синтагм культуры, для которых предлагается определение «метасюжет».
Метасюжеты массовой культуры