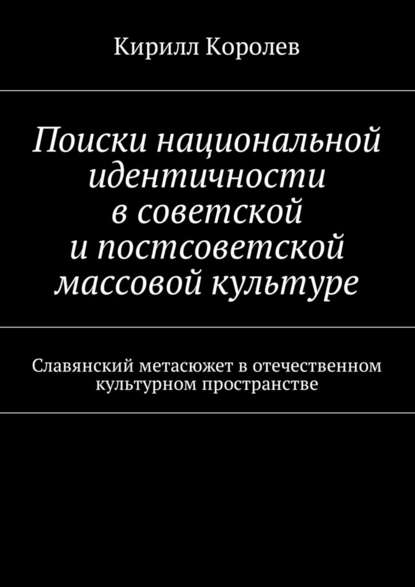По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Поиски национальной идентичности в советской и постсоветской массовой культуре
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Зарубежные фантастика и фэнтези господствовали на российском книжном рынке примерно до середины 1990-х годов – а затем картина почти мгновенно изменилась. Сразу несколько издательств, верно оценив тенденции развития и рыночный потенциал «своей» массовой литературы, приступили к выпуску книжных серий, составленных из произведений отечественных авторов; многие из этих авторов работали в русле традиционной НФ или писали социальную фантастику, ориентируясь преимущественно на творчество братьев Стругацких, но появились и первые фэнтези-тексты – «Ветры Империи» Сергея Иванова, «Лабиринты Ехо» Макса Фрая, «Многорукий бог далайна» Святослава Логинова. А внутри общего потока исподволь формировалось самостоятельное направление, исследованию которого посвящена отдельная часть настоящей книги, – славянское фэнтези[3 - Учитывая тенденции развития русского языка, который стремится привести к среднему роду все заимствованные несклоняемые существительные, логично предположить, что окончательная адаптация «чуждого» слова «фэнтези» будет означать однозначное присвоение ему категории среднего рода. И потому на страницах этой книги слово «фэнтези» употребляется исключительно в среднем роде.]: прецедентные тексты последнего («Волкодав» Марии Семеновой и «Там, где нас нет» Михаила Успенского) были опубликованы одновременно – независимо друг от друга – в 1995 году.
Хорошо помню длинную читательскую очередь за автографами к М. Семеновой на «ярмарке писателей» в петербургском ДК им. Крупской в рамках Конгресса фантастов России в 1996 году – и недоумение своего коллеги-издателя, который продолжал сомневаться в стабильности спроса на отечественную массовую литературу и в конкурентоспособности этой литературы относительно западных аналогов; впрочем, сомнения не помешали ему сформировать сразу несколько собственных серий современной российской фантастики, и почти все эти серии впоследствии оставили заметный след на рынке. Читательский ажиотаж вокруг «Волкодава» и продолжений этого романа побудил петербургское издательство «Азбука» продолжить публикацию произведений условно-славянской тематики в составе серии «Русское fantasy»; другие издательства отдельных серий подобной тематики не создавали, однако также публиковали авторские тексты, имевшие прямое или опосредованное отношение к славянскому фэнтези. Далеко не все эти тексты удостаивались теплого приема у публики, далеко не все получали ту рецепцию, которая позволяла бы рассуждать о коммерческой и идеологической успешности славянского фэнтези как направления в целом, но в издательской среде, а также в фэндоме – неформальном сообществе любителей фантастики – утвердилось мнение, что это «самобытное» фэнтези следует воспринимать и оценивать по особым меркам, неприменимым к культурному жанру как таковому (а еще постепенно становилось понятным, что это культурное явление – очередная манифестация славянского метасюжета в отечественной культуре; подробнее об этом далее). Для причисления конкретного текста к славянскому фэнтези определяющим был не сюжет, а наличие в произведении национальных маркеров – условно-славянских «декораций», от лингвистической стилизации, топонимики и ономастики до присутствия среди действующих лиц знакомых с детства и по школьной программе, равно как и по советскому сказочному кинематографу, сказочных, былинных, исторических и псевдоисторических персонажей; такие маркеры однозначно позиционировали художественные произведения в глазах издателей, читателей, критиков и публицистов как «славянские», их присутствие во многих фэнтезийных текстах и обеспечило, собственно, возникновение широко распространенного представления о существовании отдельного тематического суб-поля российской массовой литературы[4 - То же самое можно сказать о многих других тематических направлениях фантастики – например, о «космической» НФ: звездолеты, другие планеты и галактики, путешествия в космосе, встречи с инопланетянами и т. д. – несомненные маркеры данного суб-поля. Но «космические» маркеры являются, как правило, сюжетообразующими, тогда как маркеры славянского фэнтези нередко сугубо условны и призваны лишь «создавать атмосферу» (см. примеры далее в тексте).].
«Золотой век» славянского фэнтези длился недолго – приблизительно его можно вместить в десятилетие с 1995 по 2006—2007 годы; в дальнейшем произведения подобного рода продолжали публиковаться, но уже вне общего тренда, и совокупную читательскую рецепцию, которую они получали, никак не назовешь благожелательной. Тем не менее, для ряда авторов и для определенной части аудитории это направление сохраняет свою актуальность, пусть сегодня оно заметно модифицировалось под воздействием других полей и жанров массовой культуры. Кроме того, продолжают переиздаваться – то есть пользоваться спросом – тексты «золотого века», в первую очередь «Волкодав». Такая «глубинная устойчивость» славянского фэнтези стимулирует исследовательский интерес и побуждает к анализу этого культурного феномена – в рамках современной массовой культуры и в широком контексте русской культуры как таковой.
Хочу поблагодарить Александра Боброва, Константина Богданова и Александра Панченко, без поддержки, советов, критики и оброненных мимоходом замечаний которых эта книга вряд ли была бы написана. Отдельная благодарность коллегам-авторам, фантастам и не только, личные беседы и переписка с которыми в немалой степени помогли оценить авторскую точку зрения на славянское фэнтези, прежде всего – Эдуарду Геворкяну, Андрею Лазарчуку, Андрею Столярову и Михаилу Успенскому (светлая память). Также огромное спасибо всем коллегам-издателям, с которыми мне довелось работать: вместе мы сворачивали горы и никогда не пасовали перед трудностями – а оных было в избытке.
Часть 1. Культура современного общества: жанры, формулы, метасюжеты
Массовая культура как исследовательская проблема
Должны быть сказки посильней, чем «Фауст» Гете»…
Т. Шаов. Сказки нашего времени
Ближе к концу 1980-х годов книгоиздательская политика СССР коренным образом изменилась: многочисленные частные издательства, возникшие с началом перестройки, заполнили прилавки книжных магазинов и лотки множеством изданий в красочных, нередко аляповатых обложках. Во многих случаях (если даже не в большинстве) иллюстрации на обложках не имели никакого отношения к содержанию конкретной книги; эти иллюстрации работали как рекламные сообщения – заставляли обращать внимание, провоцировали интерес к текстам под обложками, «цепляли» потенциального покупателя книги своей визуальной броскостью, которая разительно отличалась от строгого советского канона иллюстративного оформления книжной продукции[5 - О создании позднесоветского канона оформления книжных обложек см.: Говоров А. А., Куприянова Т. Г. История книги. М.: Светотон, 2001. С. 320 и далее.]. Не будет преувеличением сказать, что именно благодаря этим обложкам состоялось первое знакомство отечественного читателя с современной западной массовой культурой, еще совсем недавно недоступной по идеологическим (цензурным) причинам. (Подчеркну, что речь идет сугубо о читателе – с другими формами западной массовой культуры, например, с рок- и поп-музыкой, знакомство состоялось значительно ранее, пусть и оставалось во многом «неофициальным», также подпадавшим под упомянутые идеологические запреты.)
Результатом этого «столкновения культур» – советская культура, особенно периода 1960-х – 1980-х годов, также была массовой, однако характеризовалась определенным своеобразием, вынуждающим позиционировать ее как особую форму культуры; подробнее о причинах и следствиях этого своеобразия будет сказано ниже – стало, в частности, появление ряда масс-культурных жанров, прежде отечественной культуре практически неведомых, но популярных на Западе: детектива, любовного романа (и киноромана), триллера и фэнтези. Данное утверждение может показаться спорным, но, если ограничиться только литературными примерами, до перестроечного книжного бума и связанной с ним эволюции культуры в отечественной литературе обнаруживаются лишь отдельные образцы упомянутых масс-культурных жанров («милицейские» романы Н. И Леонова и А. Г. Адамова, переводы нескольких романов С. Кинга и романов об Анжелике А. и С. Голон, «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, произведение, «тяготеющее» к фэнтези и распространявшееся в машинописных перепечатках, поскольку книжное издание 1973 г. вышло тиражом всего 30 000 экз., и «Альтист Данилов» В. В. Орлова); из истории советского кино вспоминаются фильмы В. В. Меньшова «Москва слезам не верит» и А. Н. Митты «Экипаж», однако эти литературные и кинематографические события ни в коей мере не могли считаться типичными фактами культурного производства. Массовое искусство и массовая культура, понимаемые как глобальный культурный феномен, утвердились на российской почве уже в постсоветскую эпоху.
Фэнтези и прочие перечисленные жанры представляют собой типовые продукты массовой культуры; вне рамок последней таких жанрово-тематических направлений и таких социокультурных явлений попросту не могло возникнуть – указанное обстоятельство нередко упускается из вида авторами разнообразных дефиниций – например, фэнтези, зачастую пытаются толковать per se, по сути, эссенциалистски. Между тем направления массовой беллетристики и «сопутствующие» им социокультурные явления создаются не столько адресантами, сколько адресатами творческой коммуникации, не авторами, а потребителями культурной продукции; упрощая, читатель хочет «еще как у Толкина» – коммерческий издатель улавливает этот читательский спрос и делает соответствующий заказ писателям – писатели выполняют заказ, получают вознаграждение, конкурируют друг с другом за наибольшее внимание аудитории – читатель «голосует» своими деньгами за дальнейшее продолжение темы, что осознает издатель, и т. д. Так формируется культурная индустрия[6 - См.: Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения. М.: Медиум, 1997. С. 55, 131.], охватывающая не только литературу, но и другие виды массового искусства.
О сугубой принадлежности фэнтези и других перечисленных жанров массовой культуре речь пойдет ниже; прежде следует, как представляется, охарактеризовать само поле культурного производства и потребления, в котором бытуют эти жанры, то есть определить понятие массовой культуры.
Термин «массовая культура» сегодня употребляется настолько широко, что превратился по существу в семиотическое клише: регулярность использования этого клише – в СМИ, публицистике, академических исследованиях – подразумевает общеизвестность и конвенциональную природу означаемого данного знака. Тем не менее, даже беглый анализ энциклопедических дефиниций[7 - Ср. определения термина в таких словарях, как «Новейший философский словарь» (1999), «Культурология. XX век» (1998), «Словарь культуры XX века» (1999), «Лексикон нонклассики» (2003), «Современная энциклопедия» (2000), «Энциклопедия социологии» (2009) и др., а также определения в монографии М. А Черняк «Массовая литература XX века» (2013).] показывает, что общеизвестность означаемого в этом случае – фикция: массовая культура трактуется весьма разнообразно – как «культурная продукция, ориентированная на среднего потребителя», как «канал трансляции социально значимой информации», как «семиотический образ реальности», как «производство воспринимаемых без напряжения художественных образов с целью получения максимальной прибыли» и т. д.
Безусловно, у всех этих дефиниций можно выделить некое общее ядро, но универсального определения массовой культуры не существует, и едва ли не каждый исследователь вкладывает в это понятие собственный смысл, причем то или иное понимание термина диктуется как идеологическими установками, так и конкретными исследовательскими задачами. Вдобавок нередко встречается термин «популярная культура» («поп-культура»), выступающий как синоним термина «массовая культура», а попытки дифференцировать означаемые применительно к упомянутым терминам лишь добавляют путаницы (например, вводится такой отличительный признак, как «естественная популярность» в противовес «искусственной»[8 - Костина А. В. Популярная культура // Знание. Понимание. Умение. 2005, №3, с. 214—215.]). Поэтому, для верификации нашего понимания термина и обоснованности дальнейших рассуждений, необходимо кратко изложить историю вопроса и различные точки зрения на предмет обсуждения.
В целом, следуя Дж. Стори[9 - Storey J. Cultural Theory and Popular Culture. Harlow: Pearson Education, 2006 (6
ed.). P. 5—17.], можно выделить минимум шесть различных толкований термина «массовая культура». Первое толкование признает массовой ту культуру, которая широко распространена и нравится широкому кругу людей; подобную оценку еще называют квантитативной, поскольку она выводится из анализа количества проданных книг, компакт-дисков, билетов в кинотеатры и на концерты, также по результатам маркетинговых и социологических исследований, позволяющих выявить вкусовые предпочтения, например, телевизионной аудитории. По справедливому замечанию Дж. Стори, проблема в том, что здесь чрезвычайно сложно определить «пороговое значение» и сказать – «Вот с этой цифры начинается массовая культура, а если цифра ниже – это просто культура». К примеру, современные реалии российского книжного рынка таковы, что для дебютной книги в жанре фэнтези очень неплохим считается тираж 2000 – 3000 экз. (и даже ниже); средний же тираж для авторов «второй руки», то есть не самых популярных, не самых «раскрученных», не превышает 10 000 экз.[10 - См. статистику продаж художественной литературы в России на аналитическом портале Pro-Books.ru.]; при этом жанрово-тематическая принадлежность произведений к фэнтези, а, следовательно, и к массовой культуре, не вызывает сомнений. Кроме того, квантитативный подход не является корректным в том отношении, поскольку неминуемо заставляет относить к массовой и значительную часть «высокой» культуры, прежде всего классику, которая, если говорить о книгах, переиздается ежегодно существенными тиражами.
Второе толкование противопоставляет массовую культуру элитарной: если мы определим, какова последняя, то все, что останется в культурном поле после ее отсечения, будет принадлежать культуре массовой. Иначе, массовая культура – та, которая не соответствует заданным нормам и стандартам культурной продукции; массовая культура есть коммерческое культурное производство, тогда как подлинная культура представляете собой индивидуальный акт творчества. Данное толкование совершенно очевидно перекликается с концепцией литературной (и культурной) легитимности: в пространстве культуры, как сформулировал П. Бурдье, «агенты и институты сражаются за монопольное право на авторитетное определение круга лиц, имеющих право называть себя писателями, или высказывать суждения о том, является кто-либо писателем»[11 - Бурдье П. Поле литературы // Социальное пространство: поля и практики. СПб.: Алетейя, 2005. С. 379. Приведу пример такого «сражения» из российской действительности, не называя имен: в середине 1990-х годов один отечественный автор, публиковавшийся преимущественно в литературных журналах, отказывал другому автору, имевшему в «багаже» ряд книжных публикаций, в праве называться писателем – поскольку этот второй в упомянутых журналах никогда не печатался.]. Элитарная культура в этом контексте не является культурой элиты в противовес традиционной, народной – она конструируется вне сословного деления своими выразителями («агентами и институтами»), которые устанавливают отличительные признаки «элитарности», скажем, нарочитую усложненность письма, и на основании этих признаков навязывают социуму при поддержке СМИ (то есть через инструмент массовой культуры) разделение на элитарное и массовое. Показательно, что признание элитарности достигается за счет средств массовой коммуникации, то есть давний спор об «искусстве ради искусства» фактически помещается в рамки отвергаемой «элитаристами» массовой культуры, иначе об элитарном никто не узнает и оно не станет модным, не приобретет символической ценности вне первоначального узкого круга – и не войдет в культуру. Более того, современный этап развития культуры характеризуется плотным взаимодействием «высокого» и «низкого» (оперные арии в джазовых и поп-аранжировках, «голливудский» пафос в так называемом авторском кино, классические образы и цитаты в рекламе и т. п.). Именно поэтому, как отмечает С. Ю. Неклюдов, определение и описание массовой культуры через оппозицию культуре элитарной сегодня представляется малоэффективным[12 - Неклюдов С. Ю. После фольклора // Живая старина. 1995. №1. С. 2—4. Американский социолог М. Шадсон в предисловии к сборнику «Переосмысливая массовую культуру», подчеркивает, что различие между «высоким» и «низким» в культуре существует не в эстетическом и интеллектуальном, а исключительно в политическом плане. См.: Schudson M. (ed.). Rethinking Popular Culture: Contemporary Perspectives in Cultural Studies. Berkeley: University of California Press, 1991. P. 4—7.].
Третье толкование термина «массовая культура» можно назвать социально-психологическим: оно восходит к работам Г. Лебона и Х. Ортеги-и-Гассета, получившим развитие в исследованиях Франкфуртской школы о культуре как инструменте идеологических манипуляций и «массовом бессмысленном большинстве» (Г. Маркузе). Согласно такому толкованию, массовая культура – это идеологически навязанное обеднение аутентичной культуры конкретного общества, замещение национальных ценностей усредненными глобальными моделями (в некоторых работах прямо говорится об «американизации» национальных культур[13 - См., например: Maltby R. Dreams for Sale: Popular Culture in the 20
Century. London: Harrap, 1989. P. 11 и далее; Тангян С. Неолиберальная глобализация. Кризис капитализма или американизация планеты. М.: Изд-во современной экономики и права, 2004.]), в результате которого под угрозой оказываются либо традиционные ценности местной высокой культуры, либо традиционный образ жизни «искушаемого» рабочего класса (точка зрения зависит от того, к какому политическому крылу – правому или левому – принадлежит исследователь). Алармистская трактовка влияния массовой культуры на национальное своеобразие характерна для российского пропагандистского дискурса последних десятилетий – фактически, о «губительном» влиянии массовой культуры, «чуждой» русскому самосознанию, заговорили сразу после упоминавшегося выше первого контакта двух культур: «Опасность американизации русской национальной культуры, формирования рыночной личности, готовой быть тем, на что имеется спрос (предателем, проституткой, мафиози, исполнителем заказного убийства и т. д.), плохо сознается российской общественностью и сознательно игнорируется противниками русской национальной культуры»[14 - Попов Е. В. (ред.). Введение в культурологию. Учебное пособие для вузов. М.: Просвещение, 1995. С. 327.]. Такая трактовка во многом наследует пониманию массовой культуры, бытовавшему в СССР, – пониманию массовой культуры как явления, совершенно не свойственного советскому обществу и угрожающего советской культуре своей «бездуховностью»[15 - Среди советских исследований «враждебной» массовой культуры отмечу как наиболее обстоятельные и содержательные следующие: Шестаков В. П. Мифология XX века. Критика теории и практики буржуазной массовой культуры. М.: Искусство, 1998; Кукаркин А. В. Буржуазная массовая культура. М.: Политиздат, 1985.].
Одним из главных обвинений, предъявляемых массовой культуре как «пособнице идеологического угнетения» (А. В. Кукаркин), является обвинение в эскапизме, то есть в намеренном, сознательном уходе от действительности. Жанр фэнтези (и фантастика в целом) в этом отношении выступает как олицетворение наихудших сторон эскапизма – если в детективе и мелодраме, к примеру, без труда обнаруживается социальная составляющая, то фэнтези оказывается полноценным уходом от действительности, поскольку для эскапистского сознания характерно создание новых миров: «Понятие „мир“ в данном случае не является всеобъемлющим, эскапизм не требует полного отказа от существующей реальности, часто бывает достаточно небольшой ее трансформации, привнесения в реальность новых смыслов, дополнения реальности. Однако в ряде ситуаций происходит почти полное психическое замещение реальности». Вдобавок «воображаемые миры обладают определенной степенью или иллюзией самостоятельности. Это является, в частности, залогом того, что несколько разных людей могут разделять представления о едином воображаемом мире, т.е. эскапизм будет коллективным[16 - Труфанова Е. О. Эскапизм и эскапистское сознание: к определению понятий // Философия и культура. №3. 2012, С. 99.]». Отчасти подобные обвинения в адрес фэнтези справедливы – но лишь в той степени, в какой вообще можно рассуждать об искусстве как вторичной моделирующей системе: просто фэнтези моделирует действительность при помощи чудесного как постоянно воспроизводимого художественного приема, допуская наличие сверхъестественного как системообразующего элемента воображаемых миров.
Четвертое толкование термина «массовая культура» подразумевает, что это «народная» культура, производимая «народом» и им же потребляемая – своего рода аутентичная культура конкретного народа (или конкретного общественного класса), находящегося на том или ином этапе социально-культурного развития. Понятие «народ» весьма многозначное и тяжело кодифицируется; цитируя Дж. Стори, «как установить, кто заслуживает быть включенным в состав народа?»[17 - Storey J. Cultural Theory and Popular Culture. P. 11.] Кроме того, это определение весьма узкое и, по сути, обезличивающее культуру; если следовать такой логике, к массовой культуре следует причислять только ходящие «в народе» анекдоты и расползающиеся по городам анонимные граффити – литературным произведениям и продуктам других видов искусства, однозначно авторским, в подобной культуре места нет. Также немаловажно, что это определение игнорирует коммерческую составляющую массовой культуры.
Пятое толкование связано с концепцией культурной гегемонии, предложенной итальянским марксистом А. Грамши. По Грамши, «можно зафиксировать два крупных надстроечных плана: тот, что можно назвать „гражданским обществом“, то есть совокупностью организмов, обычно называемых „частными“, и тот, который является „политическим обществом“, или государством. Им соответствует функция „гегемонии“, которую доминирующая группа осуществляет во всем обществе, и функция „прямого господства“, или командования, которая выражается в государстве, в „юридическом“ правительстве»[18 - Грамши А. Собрание сочинений в 3 томах. Т. 3. Тюремные тетради. М.: Издательство иностранной литературы, 1959. С. 457—545.]. Культурная гегемония проявляется в способах, какими доминирующая группа добивается согласия подчиненных групп, через «интеллектуальное и моральное превосходство». Массовая культура, в рамках грамшианской концепции, является ареной борьбы между угнетаемыми подчиненными группами и теми, кто действует в интересах доминирующей группы. Это не «навязанная» культура, как предполагала Франкфуртская школа, и не автономно развивающаяся «народная» культура; «в пространстве массовой культуры правящий класс предпринимает попытки добиться гегемонии и регулярно сталкивается с оппозицией своим усилиям… Это территория взаимодействия, на которой – через различные формы массовой культуры – доминирующие, подчиненные и оппозиционные культурные и идеологические ценности смешиваются в различных пропорциях»[19 - Bennet T. Popular Culture and the Turn to Gramsci // Cultural Theory and Popular Culture: A Reader. Harlow: Pearson Education, 2009. P. 96.]. Грамши употреблял выражение «компромисс равновесия», подчеркивая стремление противодействовать «гомогенизирующей силе» доминирующей культуры. Очевидно, что это толкование массовой культуры перекликается с концепциями Франкфуртской школы и с рассуждениями об опасности глобализированной (американизированной) общей культуры.
Наконец шестое толкование термина «массовая культура» связано с концепцией постмодернизма и жизни в эпоху постмодерна. Для последней характерен резкий рост культурного и социального многообразия, что применительно к культуре означает, в том числе, исчезновение границы между «высокой» и «остальной» культурой. Тем самым постулируется, что вся культура современного общества, во всем ее многообразии, является массовой (за неимением лучшего обозначения), все ее виды и формы равноправны и обладают одинаковой символической ценностью, поскольку общепринятых идеальных ориентиров и образцов попросту не существует; жанры более не подлежат оценке с позиций художественной эстетики, и фэнтези как жанрово-тематическое направление, к примеру, ничем не хуже (и не лучше) романа воспитания или эпической поэзии. Поэтому смешны причитания тех, кто оплакивает окончательную победу коммерции над культурой (Ф. Ливис, Т. Адорно, А. Свинджвуд и др.[20 - Подробнее см.: Strinati D. An Introduction to Theories of Mass Culture. London: Routledge, 1995, а также указанные работы Дж. Стори.]), и бессмысленны восторги тех, кто радуется постепенному отмиранию «культурной иерархии»: культура есть «культурное бессознательное», из которого каждый черпает то, что считает нужным. Благодаря такому «нивелированию» современная культура, к слову, ускоряет процесс конструирования идентичностей, не только предлагая индивиду набор образцов поведения и стилей жизни, но и постоянно обновляя этот набор, побуждая «примерять» все новые идентичности, конструировать «подходящую» реальность. В некоторой степени «постмодернистское» толкование массовой культуры перекликается с теорией «глобальной деревни» М. Маклюэна: все наблюдаемые образцы, типы и формы культуры суть проявления свободы слова, в рамках которой любой человек получает возможность реализовать себя в культурном пространстве; поп-культура демократизирует прежнюю культуру элит и «приобщает» к последней носителей былой традиционной культуры[21 - См.: Маклюэн М. Война и мир в глобальной деревне (совместно с К. Фиоре). М.: АСТ; СПб.: Мидгард, 2012; он же: Галактика Гутенберга. Сотворение человека печатной культуры. Киев: Ника-центр, 2004; он же: Понимание медиа. Внешние расширения человека. М.: Кучково поле, 2003.].
В завершение обзора необходимо указать общую характеристику массовой культуры, которую единодушно отмечают сторонники всех перечисленных точек зрения: это – культура, которая сложилась в процессе индустриализации и урбанизации, это культура индустриального социума, пришедшая на смену традиционным культурам и культурам элит.
В нашем понимании массовая культура есть совокупность процессов производства и потребления символической (ценностной) продукции, окончательно сложившаяся к середине XX столетия и наделяющая нематериальные продукты, в том числе художественные приемы, изобретенные и освоенные искусством предыдущих поколений, товарными свойствами; это социальная универсалия, характерная для индустриального и постиндустриального общества, когда технические средства устранили сначала локальные, а затем региональные и национальные барьеры распространения информации и обеспечили внедрение массового образования на уровне, хотя бы минимально необходимом для потребления этой информации; это совокупность социальных идеологий, гуманитарных технологий и культурных ценностей, воспринятых и тиражируемых коллективным знанием[22 - О коллективном знании см.: Грушин Б. А. Массовое сознание: Опыт определения и проблемы исследования. М.: Политиздат, 1987; Туманов С. В. Современная Россия: Массовое сознание и массовое поведение: Опыт интегративного анализа. М.: Изд-во МГУ, 2000.] в качестве социальных стереотипов, моделей для воспроизведения «конвенциональных значений»[23 - Гудков Л. Д. Массовая литература как проблема. Для кого? // НЛО. №22. 1996. С. 95.]. При таком понимании массовая культура проявляет себя как «гибкий механизм определения, какие ценности и в какой степени действительно распространены в обществе»[24 - Гудков Л. Д. Op. cit. С. 93.].
В данной дефиниции несложно усмотреть влияние грамшианской концепции культурной гегемонии – «пропущенной» через пост-марксистские «фильтры» бирмингемской школы[25 - См.: Storey J. Inventing Popular Culture: From Folklore to Globalization. Oxford: Blackwell, 2003. Pp. 48—74, 107—120.]. Массовая культура выступает как «способ прояснения значений и ценностей» (Р. Уильямс), как совокупность процессов производства, распространения и потребления значений. Причем этот способ и эта совокупность не подразумевают в идеальной модели ни горизонтальной (например, по национальному признаку), ни вертикальной (социальное деление на «элиту» и «плебс») стратификации: современная культура производится и потребляется вне этих рамок и уровней, вследствие чего она и является массовой. Вообще, повторюсь, в современных условиях, при столь широком проникновении целого ряда общих значений в различные общества, противопоставление массовой и элитарной культур становится бессмысленным: налицо «просто культура», в которой каждый отдельный производитель / потребитель культурной продукции в конкретный момент времени выбирает «под настроение» тот или иной «социолект» – разделяя ценности и значения того или иного коллектива, «толкуя мир образом, значимым для некоей группы и узнаваемым».
Принципиально важным является положение бирмингемской школы о конструируемости мира через культуру: пусть все материальные объекты в мире и сам мир существуют вне «антропологического фактора», лишь культура наделяет эти объекты и этот мир значениями. Как отмечает Дж. Стори, «культура конструирует мир, который, как считается, она лишь описывает»[26 - Storey J. Cultural Theory and Popular Culture. P. 84.]. На это положение следует обратить внимание с учетом того, насколько системообразующим оно является для фантастики как направления в массовом искусстве в целом – и для фэнтези в частности; с долей преувеличения можно сказать, что фэнтези как социокультурное явление «родилось на свет» именно благодаря осознанию данного обстоятельства – точнее, благодаря поначалу интуитивному «озарению» («хочу еще как у Толкина»), а затем уже действительному осознанию и тиражированию.
В известной степени массовая культура является идеологической преемницей культуры традиционной; различие между ними состоит в том, что вторая определяется исследователями как культура бесписьменного общества, тогда как первая подразумевает, о чем сказано выше, определенный уровень массовой грамотности. (Применительно к российской ситуации, кстати, это уточнение позволяет задать примерные хронологические рамки возникновения отечественной массовой культуры – процесс начался во второй половине XIX столетия и в целом завершился к 1930-м годам, именно по показателю массовой грамотности[27 - См.: Рейтблат А. И. От Бовы к Бальмонту. Очерки по истории чтения в России во второй половине XIX века // От Бовы к Бальмонту. М.: НЛО, 2009. С. 11—250; Чтение в дореволюционной России. М.: Изд-во библиотеки им. Ленина, 1991; Brooks J. When Russia Learned to Read. Literacy and Popular Literature, 1861—1917. Princeton: Princeton University Press, 1985.]; по другим показателям сложившаяся культура обладала особыми характеристиками, о которых будет сказано позже.) Подобно традиционной культуре, массовая культура – не фиксированное социальное образование с четко идентифицируемыми детерминантами, а состояние культуры, обусловленное конкретными социальными факторами.
В дальнейшем речь пойдет, среди всего разнообразия жанров и направлений массовой культуры, преимущественно о фэнтези, но следует иметь в виду, что общие теоретические положения, разумеется, с поправками на жанрово-тематическую: «содержательную» составляющую, равно применимы к детективам, триллерам, любовным романам и т. д. Итак, фэнтези складывается и развивается в парадигме этого «постиндустриального фольклора»[28 - «В современном обществе… народная культура естественным образом утрачивает свое значение, ее формы, приемы и механизмы функционирования имитирует массовая культура, выступающая своеобразным „постиндустриальным фольклором“» (Костина А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: УРСС, 2008. С. 88).] как тиражирование авторского художественного приема «соприкосновения с фантастическим», как коммерческое воспроизведение «эскапистского» авторского самовыражения, одобряемое и поощряемое – стимулируемое – «мистически настроенным» читателем / зрителем. В поле массовой литературы, нацеленном прежде всего на развлечение публики и на неявную трансформацию действительности (переопределение социально-культурного пространства по правилам общества потребления), популярность фэнтези обусловлена в первую очередь тем, что в читательской среде существует устойчивый спрос на тексты о «магии и сверхъестественном», вызванный, как представляется, не находящей утоления жаждой чуда (можно сказать, что в известном смысле фэнтези в современном мире отчасти подменила собой для широкой публики религию, которая ранее утоляла массовый спрос на чудеса).
Каковы отличительные признаки продукта массовой культуры и насколько фэнтези и другие современные культурные жанры отвечают этим признакам? Как пишет В. П. Руднев, массовая культура «оперирует предельно простой, отработанной предшествующей культурой техникой… [она] традиционна и консервативна.. Она ориентирована на среднюю языковую семиотическую норму, на простую прагматику, поскольку она обращена к огромной читательской, зрительской и слушательской аудитории…» При этом необходимым свойством продукции массовой культуры выступает занимательность, «чтобы она имела коммерческий успех, чтобы ее покупали и деньги, затраченные на нее, давали прибыль». Занимательность же в данном случае, по мнению Руднева, задается «жесткими структурными условиями текста», и в «своей примитивности [эта продукция] должна быть совершенной», иначе читательский и коммерческий успех невозможен. Направления массовой культуры обладают «жестким синтаксисом»; подобная жесткая структурная схема позволяет читателю / зрителю / потребителю мгновенно опознавать конкретное направление массовой культуры в образцах продукции, причем опираясь не на жанрово-тематические различия, а на насаждаемые этой культурой «ненарушаемые» семиотические коды.
Для фэнтези как типичного направления массовой культуры свойственны все перечисленные признаки: повторяемость (тиражируемость) предшествующей техники, обращение к самой широкой аудитории, занимательность и т. д. Именно поэтому фэнтези, будучи проявлением и воплощением массовой культуры, фактически неопределимо само по себе, вне пространства и контекста массовой культуры[29 - См.: Руднев В. П. Массовая культура. / Словарь культуры XX века. М.: Аграф, 1997. С. 157—158.].
К числу характеристик массовой культуры – впрочем, если вдуматься, эти характеристики применимы и к культуре в целом, культуре как таковой, а их рефлексирующее «выпячивание» применительно к массовой культуре заставляет вспомнить противопоставление массовой культуры культуре элитарной – относятся «опора на эмоциональное, иррациональное, коллективное, бессознательное; эскапизм; ориентированность на гомогенную аудиторию; занимательность»; последнее свойство, на наш взгляд, точнее обозначать как «развлекательный нарратив» (термин Е. В. Козлова)[30 - См.: Козлов Е. В. Развлекательная повествовательность в контексте массовой культуры. Волгоград: ВАГС, 2008.]. Все эти характеристики используются и в попытках определения фэнтези per se, что опять-таки доказывает невозможность описания этого явления вне пространства и контекста массовой культуры.
Массовой культуре в целом и массовой беллетристике как одной из ее манифестаций свойственна ориентированность на воспроизведение, тиражирование неких «исходных», инвариантных текстов (и приемов), получивших признание публики (символическую ценность) и добившихся коммерческого успеха; именно это тиражирование ведет к вычленению и оформлению внутрижанровых направлений массовой культуры[31 - Отчасти эта внутрижанровая стратификация, безусловно, имеет маркетинговый характер – всякий товар, в том числе символический, должен иметь свою «этикетку», по которой потребитель сможет отличить его от других. Отсюда доминирующее среди потребителей различение сюжетно-тематических направлений по «эмпирическому» принципу: если в произведении фигурируют роботы – это научная фантастика, если волшебники – это фэнтези, если зомби – это хоррор, если полиция – это детектив, и т. д. Во многом подобный «конвенциональный маркетинг» является определяющим для дифференциации тематических направлений массовой культуры.].
Как отмечал П. Бурдье, в подобной ситуации начинает действовать механизм банализации: «Самые новаторские произведения имеют тенденцию производить, с течением времени, свою собственную публику, навязывая, благодаря эффекту привыкания, присущие им структуры в качестве легитимных категорий восприятия любого произведения… По мере того как культурные продукты завоевывают признание, они теряют свою отличительную редкость и, следовательно, „дешевеют“. Канонизация неизбежно приводит к банализации, которая, в свою очередь, способствует все более широкому распространению продукта»[32 - Бурдье П. Поле литературы. С. 424—425. Ср. также замечание М. А. Черняк: «В какой-то степени массовая литература выполняет функцию транслятора культурных символов от специализированной культуры к обыденному сознанию, при этом основная ее функция – упрощение и стандартизация передаваемой информации. Она оперирует предельно простой, отработанной предшествующей культурой техникой, что обнаруживается в штампах и схемах создания разных жанров. Каноническое начало, эстетические шаблоны построения лежат в основе всех жанрово-тематических разновидностей массовой литературы… именно они формируют „жанровое ожидание“ читателя и „серийность“ издательских проектов» (Черняк М. А. Взгляд на развлекательную литературу глазами библиотекаря. Нева. №2. 2009. С. 202.)]. Применительно к культурным жанрам и конкретно к фэнтези это означает, что инвариантные, «ключевые» тексты (например, «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина) используют чудесное и иррациональное как художественный прием в рамках базового литературного процесса, а воспроизведение этого приема в последующих текстах формирует фэнтези как тематическое единство в поле массовой литературы.
Пожалуй, первым среди отечественных исследователей на это обстоятельство обратил внимание литературный критик С. Б. Переслегин, автор многочисленных работ по современной российской фантастике. В своем докладе «Обязана ли фэнтези быть глупой?», впервые прочитанном на заседании Петербургского клуба фантастики Б. Н. Стругацкого весной 1998 г., он предпринял попытку выявить характеристики фэнтези как тематического единства и показать, в чем разница между «ключевыми» произведениями и основной массой фэнтезийных романов. Главные характеристики литературного направления фэнтези, по Переслегину, следующие:
– средневековая картина мира в пространстве и во времени;
– средневековая структура «тонкого» мира (наличие чудесного / иррационального);
– средневековое / посттехнологическое взаимодействие объектного и «тонкого» миров (магия / техномагия);
– эстетика романтизма.
В этой формализованной модели не учитывается влияние семиотических кодов массовой культуры, однако далее Переслегин рассуждает об «упрощении современного мировоззрения», то есть именно о влиянии массовой культуры: «Аляповатые декорации можно спасти великолепной актерской игрой, но, низводя до своего уровня великолепный средневековый образ мира, автор, как правило, упрощает и сюжетообразующее противоречие, и собственно героев: дуалистичность превращается в простое расслоение мира „на своих и врагов“… Подчиняясь индуктивной процедуре упрощения… авторы с неизбежностью приходили к тому, что называют „типовым набором для создания произведений в жанре фэнтэзи“. И в рамках этого набора была создана не одна массовая серия произведений…[33 - Переслегин С. Б. Обязана ли фэнтези быть глупой? Доклад на заседании ПКФ Б. Н. Стругацкого, апрель 1998 г. http://www.igstab.ru/materials/Pereslegin/Per_FoolFantasy.htm. Дата доступа 30 августа 2017 г. Любопытно, что один из ведущих российских фантастов Н. Д. Перумов на том же заседании попытался ответить на вынесенный в название доклада вопрос, но его возражения Переслегину фактически свелись к апологии фэнтези как направления, доказавшего свою легитимность коммерческим успехом (из личных наблюдений); по мнению Перумова, кстати, фэнтези есть «литературная форма, которая отражает тоску читателя по свободному миру» (интервью газете «Книжное обозрение», №40, 8 октября 1996 г.).]»
Обращает на себя внимание многократное употребленное Переслегиным (но не раскрытое аналитически) определение «средневековый». Для большинства произведений фэнтези это определение и в самом деле является принципиально важным: геополитическое устройство мира в фэнтезийных текстах (империи, королевства, княжества и пр.), социальная организация (сюзерены и вассалы) и система социальных отношений (знать – жрецы/маги – купцы – ремесленники – крестьяне), организация пространства (замки – города за крепостными стенами – деревни – тракты с постоялыми дворами и т.д.), наконец само искусство магии, как оно преподносится читателю, – все это явные признаки именно средневекового мироустройства, причем средневекового по-европейски.
В чем причина подобного интереса к средневековью? Критики, исследователи и читатели выдвигают различные версии[34 - Подробнее см.: Schlobin R. C. The Aesthetics of Fantasy Literature and Art. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1982.], от вполне обоснованных до, если позволительно так выразиться, приземленно-эмпирических («Толкин и Льюис писали о средневековом, а все остальные им подражают» – из дискуссии на интернет-форуме[35 - Почему все фэнтези в средневековье? // Вопросы и ответы Google. http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=3c5ea1429b85fda8 (http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=3c5ea1429b85fda8). Дата доступа 30 августа 2017 г.]).
Среди российских версий ответа на этот вопрос отмечу следующие. Критик В. Л. Гончаров видит в «средневековости» фэнтези «стремление к возвышенной романтике прошлого»[36 - Гончаров В. Л. Русская фэнтези – выбор пути. // Если, 1998. №9. С.218.]. Исследовательница А. Б. Ройфе полагает, что ориентация на средневековье связана с тем обстоятельством, что для Средних веков был характерен «малый интерес к развитию науки и техники», место которых занимала магия: «Фэнтези XX века возникает как протест и попытка уйти от технократической реальности. XVI – XX века – времена развития научной мысли и установления в коллекивном знании научной картины мира. Но техника и наука неприемлемы в фэнтези, поэтому именно на средневековую нетехнологическую культуру ориентируются авторы фэнтези, создавая свои произведения»[37 - Ройфе (Косарева) А. Б. Фэнтези и средневековье. Тезисы к семинару. // Уральский следопыт, 2000. №8. С. 52.]. Подобная ретроспекция, на наш взгляд, не слишком корректна – постулат о малом интересе Средних веков к науке и технике представляется по меньшей мере спорным и не подкреплен вдобавок никакими доказательствами. Во-вторых, в данном объяснении, опять-таки, игнорируются масс-культурный статус фэнтези, читательская рецепция произведений этого направления: для авторов «ключевых» текстов, прежде всего для Дж. Р. Р. Толкина, фэнтези и вправду было формой эскапизма (ср. ниже рассуждения Толкина о волшебной сказке), но в массовой литературе произошла «банализация» этого приема; что касается рецепции, авторы сколько угодно могут ориентироваться «на средневековую нетехнологическую культуру», – гораздо важнее, что читатель не просто принимает эту ориентацию, но в целом зачастую ждет от фэнтези именно средневековых декораций.
Писатель и критик Б. Олдисс считал, что появление и тиражирование образа средневекового в фэнтези вызвано «неудовлетворенностью определенных слоев общества сложившимися в современном мире экономическими отношениями». Фэнтези, по Олдиссу, пытается воссоздать «мечты… нашего капиталистического общества. Привлекательность общества, где никакие деньги не имеют хождения, очевидна»[38 - Aldiss В. W. Trillion Year Spree: The History of Science Fiction. New York: Atheneum, 1986. P. 280—281.]. Возможно, этот аргумент был справедлив для «прото-фэнтези», однако «посттолкиновское» увлечение конструированием миров (см. Приложение 3) привело к тому, что фэнтезийные миры обрели не только собственную мифологию и историю, но и собственную экономику (в качестве примеров «экономизации» вымышленных миров в современной беллетристике можно привести цикл «Колесо времени» американского автора Р. Джордана, а в отечественной литературе – цикл Г. Ю. Орловского «Ричард Длинные Руки»). Поэтому стремление «вернуться в мир без денег» вряд ли можно признать конституирующим для образа средневекового в фэнтези.
По нашему мнению, условно-средневековая стилизация мира в большинстве произведений фэнтези объясняется совокупностью причин, среди которых выделю такие: воспроизведение и тиражирование художественной образности «ключевых» текстов; соответствие читательским ожиданиям, сформировавшимся под влиянием «ключевых» текстов и превратившимся в своего рода культурный стереотип; наконец «специфическое отношение средневековья к области сверхъестественного и к знаковым формам, в которые оно облекается в искусстве»[39 - Гусарова А. Д. Жанр фэнтези в русской литературе 90-х гг. двадцатого века: проблемы поэтики. Петрозаводск, ПГУ, 2009. С. 43.]: донаучная средневековая картина мироздания как нельзя лучше, с точки зрения авторов и читателей, подходит для привнесения иррационального в возможный вымышленный мир. А это иррациональное влечет за собой и другие «средневековые» декорации, в которых разворачивается действие произведений фэнтези.
Вдобавок средневековые европейские представления о мире, формы организации общества, социальные функции и быт достаточно хорошо документированы и изучены, в том числе в научно-популярной литературе, благодаря чему многие факты и явления этого периода закрепились в коллективном знании и делают «средневековые» миры фэнтези узнаваемыми для читательской аудитории, – чего нельзя сказать, к примеру, о периоде античности.
Конечно, средневековье в художественных текстах фэнтези не является историческим. Это, как было сформулировано выше, не более чем узнаваемый масс-культурный образ, скомбинированный из ряда культурно-исторических клише (замки и рыцари, менестрели и алхимики, крепостное право и т.п.). Поэтому применительно к мирам фэнтези следует говорить не о средневековом, а об условно-средневековом (псевдо- или квазисредневековом) конституирующем элементе.
Исходя из соображений, изложенных выше, предложу дефиницию фэнтези, которая опирается прежде всего на признание масс-культурного статуса этого явления, а также на анализ литературного своеобразия фэнтези в работах других исследователей. С нашей точки зрения, основными отличительными признаками фэнтези как жанрово-тематического единства в рамках массовой культуры выступают следующие:
– условно-средневековая пространственно-временная картина возможного мира;
– квази-феодальная организация социума;