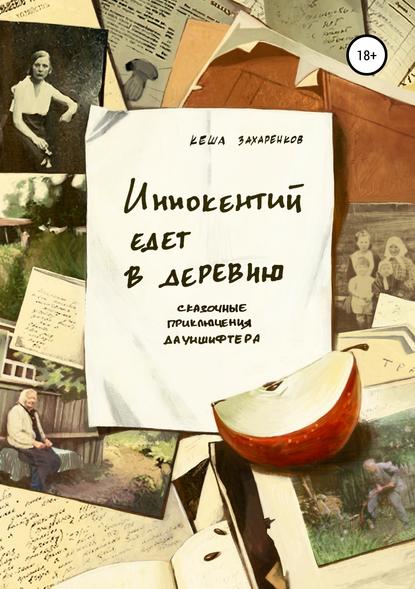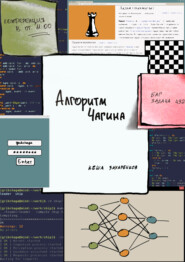По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Иннокентий едет в деревню
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Письмо начиналось без обращения, без приветствия. Как если бы его писала Алиса.
Но письмо было от Лизетт. Крупный детский почерк вместо мелкого и резкого.
«Я на него смотрела, и что-то в выражении его лица было такое милое и симпатичное. И сам он, добрый и нежный. И тут я поняла, что его лицо слишком близко к моему. Нет-нет-нет! Мне нельзя в него влюбляться. Стоп. Стоп. Стоять».
Я отложил бутерброд.
«Что же я делаю?! У него любимая девушка, а я… Ведь можем же мы быть просто друзьями. Но у меня не получается. И он желанием не горит. Он обо мне совсем не думает. Он меня совсем не любит».
Я отхлебнул чай и опять закашлялся.
«А я чувствую себя такой беспомощной. Когда он говорит со мной, смотрит на меня. Зачем он смотрит?! Ох, совсем не то говорю. Надо просто верить друг другу. Просто верить и все. А я вижу, что он любит другую, и мне грустно. Мне больно. И я боюсь ему сказать, что на душе».
Я продолжал кашлять, с трудом разбирая написанное. Головная боль усилилась.
«Почему мы боимся невзаимной любви? Будто что-то у нас украдут, если мы вдруг дадим кому-нибудь это светлое чувство. Но мы же себе его даем тоже. Ведь так хорошо любить! А мы не любим. Пока не поймем, что нас любят в ответ, не даем себе любить».
Я допил остатки чая.
«Ох. Мне нужно, чтобы он сам за меня боролся, потому что у меня нет сил. Он либо поймет, что я ему нужна, либо нет. Ведь так и должно быть. Нужно подождать. Тем более я больше ни на что не способна.
Он все сделает правильно. В любом случае. Я ему верю».
– Листок из дневника, – сказал я, улыбаясь. – Листок из девичьего дневника.
3.0.2. Баня
– Барствуешь, стало быть, целыми днями?
Муж Анны Павловны бил себя по спине мокрым веником. Я сидел на скамье и еле дышал. Исчезал в пару. Таял в жаре. Отсутствие мыслей, отсутствие меня.
Я отрешался. Надеялся, ничто в мире не вызовет во мне больше мысли и чувства. Мечтал о ничто. Представлял бесконечную медитацию. Как было бы хорошо.
Хотя, может, и не было бы.
– Я в твоем возрасте тоже.
Ефрем ухмыльнулся.
– С бабами.
Я подумал о Лизетт. Думать о Лизетт было приятно.
– Пока молодой, погулять надо. Много у тебя баб было?
Я рассмеялся.
– Ну то-то и оно! – сказал муж Анны Павловны. – Гулять надо.
– Мне тут душно, – в помывочной я облился горячей водой и вышел в предбанник. Надел бабушкин халат – чистой мужской одежды ни в шкафу, ни в чемодане не нашлось.
В вечернем воздухе уютно пахло баней. Звездное небо, как в планетарии, было усыпано яркими звездами. Из окон домов струился яркий свет.
Я стоял посреди деревни в бабушкином халате и дышал полной чистой грудью.
Жил здесь и сейчас, можно сказать.
3.0.3. Большая стирка
Я прополоскал белье и натянул между домом и сараем веревку. Увлекшись, ничего вокруг себя не замечал. Пока не почувствовал сильный толчок в бедро.
Оглянулся. Позади меня стояла Ряженка. Овца с белым пятном на лбу выглядела такой же беспокойной, как и соседский кот. Пока я стирал, он вился у ног, возбужденно мяукал, всячески мешал. Забирался на лавку и бился головой о мои локти. В довершение прыгнул на кучу постиранного белья, отложенного для полоскания, и истоптал грязными лапами.
– В чем дело-то? – спросил я.
Животные все чувствовали. Только я – ничего.
С утра натаскал мутной воды из колодца, поставил на лавку таз с водой и принялся елозить бельем по ребристой стиральной доске. Руки быстро покраснели, костяшки пальцев стерлись до крови.
Развесив постиранное, я пошел в дом и занялся приготовлением обеда. Поставил на плиту кастрюлю с водой, открыл консервы.
В дверь постучали.
– Кто там? – крикнул я.
По обыкновению никто не ответил.
3.0.4. Темный эпизод
Я вышел на крыльцо. От сильного ветра хлопала дверь. Развешенную на веревке одежду раскидало по участку.
Я побежал собирать. Трусы на дорожке, майка на кусте малины, рубашка на заборе.
Быстро темнело. Гром гремел все чаще.
Я повесил одежду обратно за минуту до начала дождя. Забежал в дом, закрыл дверь на крючок.
Овца стояла в центре столовой. Она будто окаменела. Соседский кот забился в угол, шерсть дыбом, и рычал на меня.
Я выключил газ под кастрюлей и поставил консервы в холодильник. Аппетит пропал.
«Спокойных молния не ударит», – сказал как-то Толик. Я забеспокоился, достаточно ли спокоен, достал консервы и взял ложку. Холодная тушенка была невкусной. Даже кота она не прельщала.
Свет отключился минут через десять. Я подошел к щитку, посветил спичкой – пробки не выбило.
Свечей в доме я не видел. Наверняка их съели крысы. При свечах можно раскладывать пасьянсы и читать. В темноте можно таращиться.
Гром гремел отрезвляюще громко. Молния била так часто, как могла. Она выхватывала из темноты три пары глаз – безумные котовьи, остекленелые овечьи и ясные мои.