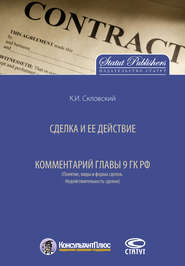По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повседневная цивилистика
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ницше говорил, что стремление к истине объясняется тем наслаждением, которое порождает ее нахождение. Если следовать этому верному замечанию, то замена поисков истины заимствованием истин чужих не только довольно бесполезна, а временами и вредна, но и представляет собой весьма унылое занятие.
В 1997 г. была закончена первая редакция книги. Не помню, куда я обращался тогда, но в конечном счете по рекомендации Д. Дождева рукопись взяло издательство «Дело». Однако грянул дефолт, и издание застопорилось. Пожалуй, и написал ее я благодаря надвигающемуся кризису. Летом 1997 г. моя практика утратила прежние объемы, появилось много свободного времени. Это лето я вспоминаю себя в основном за рабочим столом. Щедрая южная природа осталась за окном. Была и временно спокойная политическая ситуация после, мягко говоря, драматических президентских выборов 1996 г.
Все же к началу 1999 г. книга вышла. Главный редактор высказался в том смысле, что они готовы пойти на убытки, но книга их интересует как знаковое явление. Он выразился более лестно, но не вполне удобно повторять. К нашему общему удивлению, первый тираж разнесли. Сначала, когда программа показала отсутствие тиража на складе спустя всего несколько недель после издания, это отнесли на счет сбоя компьютера. Последовали второй и третий тиражи, которые мы обозначили как новые издания.
Через лет пять я написал действительно новое издание. Теорию собственности, о которой я выше писал, защищать в этом идании от критики не пришлось. Насколько мне известно, никто ее не опровергал. Это часто, увы, слишком часто происходило с моими теоретическими новациями разных масштабов. Были, естественно, обвинения в непозволительном отходе от марксистской или, точнее, советской доктрины об «экономических отношениях собственности». Но спорить с этим совершенно неинтересно: придется повторять то, что уже сказано. Как говорил по поводу других марксистских (точнее – Энгельса) выкладок В. Вернадский, они «отдают плесенью»[15 - Не исключено, что знакомство с «Диалектикой природы» и другими трудами входило в программу того кружка самообразования при Академии наук, о котором писал едкий В. Ходасевич.]. Да и юристам эта доктрина никак не помогает, а главное, не мешает в текущей работе.
Основные дискуссии развернулись вокруг одного из многих вопросов – реституции из недействительной сделки. Некоторое время я уделял этому вопросу определенное внимание, и в новом издании это хорошо заметно.
Большее развитие получила и теория владения. Если реституция – полностью отечественный феномен, то владение, конечно, нет. Но вот его проблематика приобрела отчетливо отечественные формы, поэтому и здесь пришлось предлагать собственные, а не заемные решения.
Был ряд частных проблем, выросших, как правило, из конкретных дел. Характерный пример – дело о ЛЭП. Разбираясь в нем, мне пришлось прибегнуть к известной задаче «корабль Тезея»[16 - В поздней Античности, уже во время Империи, путешественникам (а римским юношам полагалось совершить путешествие по Греции для пополнения классического образования) показывали корабль (или, возможно, рассказывали о том, что прежде его показывали), на котором Тезей приплыл с Крита. Поскольку было ясно, что так долго древесина не может сохраниться, юристы вслед за философами перипатетической школы задумались над тем, какие последствия для идентичности вещи влечет замена бревен и досок, из которых был построен корабль.]. Одним из правил, выведенных из этого дела, было и такое: по договору с собственником, если этот договор не является договором об отчуждении (а все договоры об отчуждении поименованы), невозможно приобрести право на его вещь.
Когда книга была в основном написана, я попросил А.Л. Маковского написать предисловие. Он дал согласие, и я вручил ему рукопись – около 600 страниц. Пока я ждал, в текст вносились дополнения. Через пару лет я осторожно поведал Александру Львовичу, что рукопись будет гораздо больше и что ему придется увеличить объем прочитанного. Но он мне сообщил, что пока прочитал только 167 страниц и чувствует, что их нужно перечитать. Стало ясно, что предисловия не будет. Невероятно жаль, потому что это был бы великий текст, как и все, что вышло из-под пера А.Л.
Короткое приветственное предисловие написал милейший М.И. Брагинский.
Но другим следствием задержки издания стал тот факт, что книга приобрела громадный размер. Мало кто с ней справился. Большинство читателей книги о собственности знают ее по раннему компактному изданию 2000–2002 гг.
В пятом, существенно переработанном (хотя это не так легко заметить: изменения часто были внутри абзацев и даже внутри фраз) издании мне пришлось опустить приложения (достаточно важные, на мой взгляд), чтобы объем книги не превысил 1000 страниц большого формата. Дата этого издания – 2010 г.
По указанной причине шестого издания, видимо, не будет. Периодически я думаю, как уже сказано, написать дайджест. Отчасти эти заметки его замещают.
К сожалению, книга не может служить справочником, хотя некоторый рабочий аппарат в ней имеется. Скорее, это что-то типа эпоса. Отдельные главы читать вполне можно, но все же если как-то знаком с историей героев.
«Галика». Реликт затонувшей эпохи в Нескучном саду
Это дело остается уже несколько лет (с января 2013 г.) одним из самых знаменитых дел, рассмотренных Президиумом бывшего ВАС РФ. Мой коллега В. Буробин говорил, что запись дела он показывает молодым юристам «Юстины», чтобы они учились выступать в суде. Печальная истина, впрочем, в том, что для блестящего выступления нужен блестящий суд.
Уникальность дела, кроме того, дала возможность делать смелые выводы потому, что не было опасности прецедента ввиду древности и нетипичности для нынешнего времени спора.
История уходила в 1990 г. Швейцарская фирма «Галика» (точнее, ее предшественник – советско-швейцарское предприятие) заключила договор с Центральным парком культуры и отдыха имени Горького в Москве по поводу объекта, названного павильоном. Договор назывался арендным, но в содержании договора говорилось о строительстве на месте павильона и на его фундаменте нового строения для «Галики». Строительство, впрочем, именовалось капитальным ремонтом. ЦПКиО давал согласие на капитальный ремонт здания при условии финансирования работ за счет советско-швейцарского предприятия.
Строительство завершилось к 1992 г. В дополнительном соглашении от 21 января 1992 г. говорилось о порядке получения и реализации согласия ЦПКиО на капитальный ремонт. Из этого соглашения ясно следовало, что спорный объект в качестве результата работ, проведенных «арендатором», рассматривался сторонами как его собственность.
В последующие годы стороны жили более или менее мирно. «Галика» периодически пыталась безуспешно оформить право собственности на объект. Потом отношения стали усложняться. В 2007 г. город предъявил иск о самовольном строительстве. Суд в иске отказал, не найдя в действиях «Галики» признаков самовольного строительства.
После этого, исходя из того правила, что если объект есть, то он кому-то должен принадлежать, знающего исключение только для самовольного строения, «Галика» смогла зарегистрировать право собственности на здание за собой. Это не могло не вызвать спора, который развернулся с 2011 г. Город (департамент имущества) заявил иск о признании права собственности на здание.
Понятно, что всегда гораздо удобнее защищаться против титульного иска, чем самому заявлять такие требования, – особенно и прежде всего если ответчик еще и имеет владение. Древнее правило beati sunt possidentes, которое я постоянно вспоминаю, сохраняет свою силу и для нашего правопорядка, хотя, конечно, оно не столь очевидно, как это было свойственно праву классическому или пандектному. Впрочем, если в нашем правопорядке и есть бесспорная истина, то она состоит в том, что в любом споре с государством частное лицо заведомо слабее. В значительной мере это, конечно, отечественный феномен (и даже не социалистический). Но и в Европе, уже на другом витке развития, до которого мы можем и не добраться, есть тенденция осуждения частной собственности со стороны левой идеологии. В феврале 2016 г. в дискуссии с уважаемым проф. У. Маттеи я это назвал представлениями о «первородной греховности частной собственности». В этой парадигме У. Маттеи говорил о невинных (innocent) арендаторах (хотя термин имел более юридический, чем идеологический, смысл).
Преимущества владельца, в частности, состоят в том, что он может критиковать основания иска, не приводя собственных доказательств, поскольку отказ в иске сам по себе оставляет его владельцем и даже усиливает это владение, поскольку суд некоторым образом «проверил» его. Кроме того, ответчик может прибегнуть к возражению о пропуске срока исковой давности. В нашем деле позиция ответчика была особенно сильна потому, что он зарегистрировал свое право собственности. Когда город пытался оспорить запись, суд отказал, сославшись вполне обоснованно на то, что имеется спор о праве. Понятно, что истец периодически заявлял о сомнительном с точки зрения коррупционности поведении регистратора.
Эти заявления довольно часто встречаются в судах. Мне известно одно дело, в котором истец – администрация одного из подмосковных городов, заявив иск о сносе солидного производственного здания, каждый раз в день суда присылал телеграмму о том, что состав суда получил взятку. Состав суда срочно заменялся, иск удовлетворялся. И так во всех инстанциях. Довольно часто за такой тактикой стоит не борьба за соблюдение закона, а борьба за компетенцию, за право решать вопросы. Но и независимо от мотивов не слишком сильным представляется то государство, которое функционирует в условиях разделяемой им презумпции продажности.
Президиум ВАС РФ также часто слышал подобные заявления, но мог относиться к ним спокойно. Независимо от их убедительности Суд умел разобраться в юридической сути спора.
Основанием возникновения права собственности в данном случае могло быть только первоначальное, т. е. строительство здания.
Сейчас это основание предусмотрено п. 1 ст. 218 ГК РФ. В советском законодательстве такой нормы не было. Но уже в п. 1 ст. 7 Закона от 24 декабря 1990 г. № 443-I «О собственности в РСФСР» (один из первых рыночных законов горбачевской эпохи) говорилось, что гражданин или другое лицо, если иное не предусмотрено законом или договором, приобретают право собственности на вещи, созданные или существенно переработанные им. Общая позиция, стало быть, имела основание. Хотя истец и не углублялся до таких фундаментальных истин, но, во-первых, нужно было понять для себя всю теорию вопроса, а во-вторых, Президиум ВАС РФ – такой суд, в котором самая глубокая теория могла вдруг выйти на передний план, и нужно было быть готовым к этому.
Впрочем, согласно более ранней советской традиции не искать решения в общих нормах ГК стороны спорили о том, имелись ли в виду реконструкция (как подчеркивал истец), или капитальный ремонт, или же строительство и что означали эти термины в подзаконном советском законодательстве. Буквально в соглашениях говорилось о капитальном переоборудовании, капитальных строительных работах, а не о реконструкции. Но и термин «реконструкция» в момент заключения соглашения понимался как один из способов строительства новых зданий и сооружений (Совместное письмо Госплана СССР № НБ-36-Д, Госстроя СССР № 23-Д, Стройбанка СССР № 144, ЦСУ СССР № 6-14 от 8 мая 1984 г. «Об определении понятий нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий», Ведомственные строительные нормы ВСН 58–88 (р) (утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. № 312)).
Однако, как мне кажется, это мало что значило, поскольку можно было легко убедиться, что город воспринимал то, что построено, как построенное в соответствии с тем, что об этом говорилось в договоре. Соответственно, суд должен был дать квалификацию построенного исходя из фактического результата, а не соглашения, предваряющего строительство (капитальный ремонт, реконструкцию).
Оставался вопрос, построено ли это законно.
На мой взгляд, взаимоотношения сторон некоторым образом могли бы быть описаны нормой ст. 271 и 272 ГК РФ как разрешение собственника участка построиться другому лицу на его участке. Норма, как я ее понимаю, переходного типа. Однако такую идею я все же отбросил. Во-первых, в течение всего спора ответчик ничего об этом не говорил. И хотя Президиум ВАС РФ умел на слух понять и принять новую идею, элемент непредсказуемости все равно оставался. Во-вторых, с формальной точки зрения норма ст. 271 и 272 была спорной, так как появилась через три года после окончания строительства. В конце концов нормы Градостроительного кодекса для целей застройки ее попросту вытеснили, и того применения, которое я имею в виду, она так и не получила.
Но здесь оставался простой и сильный довод: есть решение суда, что строение не является самовольным, значит, ссылки на незаконность строительства исключены. Но это означает и другое: здание должно кому-то принадлежать.
Позиция истца в этой ситуации была предсказуемой: имела место реконструкция, т. е. изменение арендованной вещи при сохранении ее идентичности, а потому арендатор не мог стать собственником, и соответственно, собственником остался арендодатель. В таком обосновании иска на первый план вышли строительные вопросы: были ли это реконструкция, капитальный ремонт, перестройка, новое строительство и т. п. Стороны состязались прежде всего в этом споре.
У ответчика, кроме того, было сильное возражение о пропуске срока исковой давности.
Суд отказал в иске как по пропуску срока, так и потому, что было построено новое здание. От старого остался лишь фундамент, который был теперь фундаментом нового здания.
В Определении, которым дело было направлено в Президиум, исковая давность вообще не упоминалась. Но говорилось, что ответчик своими действиями по регистрации права собственности нарушил право истца, имелась отсылка к ст. 304 ГК РФ. Тем самым была обозначена идея негаторного иска, которым истец защищается против юридических действий ответчика. Эта позиция никогда не казалась мне верной. Я всегда считал, что негаторным иском истец защищается против фактических, а не юридических действий ответчика.
Важный для негаторного иска момент – выявление вопроса, нарушил ли ответчик право собственности истца без нарушения владения. Нужно было полагать, что для авторов Определения владение имело договорное основание (аренду), в то время как нарушение (регистрация на свое имя) вышло за рамки договорных отношений и требовало уже вещной защиты. Время от времени такая конструкция использовалась для обоснования возможности вещной защиты арендодателя против арендатора.
Понятно, что тема негаторной защиты давала суду возможность отбросить исковую давность.
После этого в Определении уже прямо и без оглядок была сформулирована позиция, указывающая, в чем не прав был суд. Говорилось, что арендатор ни при каких условиях не может приобрести право собственности на арендованное имущество. Тем самым отбрасывался и вопрос о том, что на самом деле было построено.
Ответчик впал в панику, ведь против доводов Определения возразить было нечего. Все, что можно было сказать, было сказано в судебных актах и теперь опрокинуто в Определении ВАС РФ.
На стадии подготовки дела к рассмотрению Президиумом меня и пригласили.
Никто не любит вступать в дело, которое загублено другими юристами, чтобы спасти его. Но здесь не было оснований считать, что дело велось неправильно, что упущены юридические возможности. Однако против новых доводов не годились старые.
Тем не менее то, что ситуация привела ответчика на край пропасти, было вполне очевидно.
Почитав материалы дела, я почувствовал, что свет забрезжил. Я писал в своей самой большой книге, что решение задачи появляется молниеносно. Его потом можно проверять логикой и демонстрировать этапы рассуждений. Но рождается оно в подсознании сразу целиком, и показать его постепенное вызревание невозможно. Тем не менее попробую обозначить некоторые точки, на которых пришлось потом остановиться.
Вероятно, важным было припоминание практики 25-летней давности, когда сначала в гражданское право пришла аренда. Это была (кто-то может помнить) компромиссная идея экономистов абалкинского круга: не отдавая государственной собственности, вовлечь имущество в оборот через аренду. Были приняты законы об аренде, и по всей стране покатилась арендная волна. Несколько лет аренда была основным договором в нашем гражданском обороте. Постепенно он стал рутиной, общим местом. И наконец, стал применяться даже там, где аренды на самом деле и не было.
Именно так было и здесь. Договор заключался уже на излете арендного этапа в экономике. Но других моделей тогда еще не было. Идея свободы договора, да еще и для сделки с участием государственной организации, была исключена. Тем не менее это не был арендный договор. В соответствии со ст. 7 Основ законодательства СССР об аренде, ст. 291 ГК РСФСР арендатор (наниматель) возвращает полученное для использования имущество по прекращении срока аренды (имущественного найма). В данном случае объект, обозначенный как «павильон», не передавался во владение и пользование с условием возврата в том или ином виде. В ходе строительства с ведома обеих сторон павильон был снесен – остался только его фундамент. Стороны договорились о создании на месте павильона нового объекта, и именно в этом состояла суть соглашения. Следовательно, в этой части помимо договора аренды между сторонами было заключено иное соглашение – не о передаче имущества во владение и пользование, а о создании новой вещи. Такое соглашение не является арендным договором, а имеет иную природу.
В качестве компромисса можно было сказать, что договор смешанный, «с элементами аренды».
Итак, ключевой позицией моей защиты стал тезис, что договор, природа которого до сих пор не вызывала разногласий сторон, не является договором аренды.
После этого по-новому должен обсуждаться другой вопрос: о чем стороны договорились применительно к новому объекту, если он новый, и применительно к старому, если он старый?
Начать нужно со второго. Договор аренды не может быть договором ни о реконструкции, ни об изменении вещи. Создание новой вещи он точно не может охватывать, так как аренда существует, лишь пока остается старая вещь. Значит, в той части, которая затрагивает снос павильона и строительство на его месте нового здания, арендных отношений, т. е. отношений по поводу пользования полученной вещью в соответствии с тем ее назначением, которое она имела в момент передачи, не было. Но смутную идею, что аренда в какой-то неопределенной части все же была, нужно было сохранить для того, чтобы снять тему притворной сделки и дать юридическое основание продолжавшемуся уже более 20 лет аккуратному внесению ответчиком арендной платы на счет истца.
Договор в неарендной части в таком случае становился договором о разрешении строиться на участке, принадлежавшем городу, и юридический эффект этого договора – получение участка под строительство по воле собственника, что исключает квалификацию строительства как самовольного (при соблюдении публичных норм градостроительного законодательства). Получив участок для целей собственного строительства, ответчик затем строил для себя. Такие действия в договорном опосредовании не нуждаются, а право собственности на построенное вытекает прямо из закона.