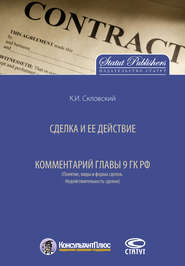По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Повседневная цивилистика
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Отвлекаясь от данного дела, я бы отметил, что такой подход вызывает сомнения с самых общих позиций: та норма ст. 166 ГК РФ, в которой говорится, что ничтожная сделка ничтожна сама по себе, действует все же помимо судебного производства. Если же спор все-таки попал в суд, то нужно обязательно соблюдать гарантии, данные для защиты от иска, в том числе, конечно, исковую давность.
Апелляционный суд кроме определения исковой давности занялся также и выяснением фактов владения разными частями здания разными ответчиками.
Этого суд первой инстанции не сделал. И постольку, поскольку у апелляционного суда росла уверенность в том, что решение нужно отменить, вполне уместным с точки зрения придания солидности отмене стало добавление в дело новых обширных материалов о владении помещениями. Участники реконструкции приносили схемы и планы здания, в которых разными цветами обозначались занимаемые помещения, были приложены фототаблицы здания до и после реконструкции и т. п.
Наконец, суд назначил сторонам срок для составления акта, в котором следовало описать, кем и какие помещения заняты.
Рассмотрение дела в этой инстанции потребовало нескольких заседаний.
После этого и было вынесено постановление об отмене решения и об отказе в иске. Часть владельцев, впрочем, находилась с истцом в достаточно близких экономических отношениях и была связана со сферой государственной собственности. Занимаемые ими помещения, конечно, были оставлены в собственности государства в силу отсутствия спора.
Из постановления были устранены все суждения суда первой инстанции о недобросовестности ответчиков, хотя и доводов об ошибочности и неприменимости этих суждений тоже не было. Да и весь механизм приобретения вопреки недействительности сделки был опущен, притом что сделки о реконструкции все же объявлялись ничтожными.
К моменту рассмотрения дела в кассационной инстанции ситуация заметно изменилась. Я не стану высказывать своих предположений о причинах этого. Но создавалось устойчивое впечатление, что апелляционное постановление будет отменено в любом случае. Опасность состояла в том, что имелась реальная угроза отмены только апелляционного постановления с оставлением в силе решения суда первой инстанции.
Поэтому мы употребили нашу энергию на всемерное усиление позиции в целом, а не на отдельное сохранение судебного акта, как бы то полагалось при обычной тактике. Имеется в виду ситуация, когда некоторые верные аргументы судом были отброшены, но решение вынесено тем не менее правильное. При проверке такого решения приходится делать выбор между повторением и тем более усилением отброшенных доводов, а тем самым демонстрацией нерешенных проблем в защищаемом решении и одной только защитой решения как акта, лишенного противоречий и сомнительных выводов. Обычно рекомендуется второй подход.
Но если имеется угроза не только отмены верного по сути акта, но и завершения дела в пользу другой стороны, то нужно показать категорическую недопустимость такого исхода дела. Исходя из этого, я вновь сосредоточился на том, что истец не может требовать признания за ним права собственности только в силу ничтожности сделки о реконструкции объекта, помимо вовлечения в спор всех фактов, которые могут стать основанием либо приобретения права собственности на помещения вследствие добросовестного приобретения, либо хотя бы отказа в виндикационном иске, если бы он был заявлен.
Однако эти аргументы суд кассационной инстанции хотя и слышал, но класть в основу своего отношения к делу явно не собирался. В то же время и истец не нашел никакого способа усилить свою позицию, повторяя снова и снова только то, что городские власти не имели права распоряжаться федеральным имуществом. При этом исковую давность предлагалось считать с момента регистрации права собственности за ответчиками – суждение совершенно вздорное, но весьма часто применяемое судами в защиту публичной собственности, несмотря на то что истец утратил владение много лет назад (обычно в эпоху приватизации, в начале 1990-х гг.).
Нашей победой – а скорее победой здравого смысла и простых приличий – оказалось то, что основанием отмены судебных актов было предложение суду выяснить начало владения своими объектами ответчиками, причем каждым из ответчиков, как момент начала исковой давности. Решение суда первой инстанции тоже было отменено.
Понятно, что это был минимально возможный удар по позиции ответчиков, хотя по крайней мере один вопрос – о ничтожности сделок о реконструкции – и был окончательно решен в пользу истца. Но у меня с самого начала и не было надежды на иное решение этого вопроса.
При новом рассмотрении дела суд уже довольно уверенно ориентировался в обстоятельствах начала и последующего осуществления владения ответчиками своими помещениями. Привычное ограничение спора признанием сделок о распоряжении имуществом ничтожными было преодолено. Нужно заметить, что это происходило тогда не только в нашем процессе, но и во всей арбитражной практике. Завершались многолетние споры, когда-то начатые нами в конце 1990-х гг.; многие идеи, которые тогда вызывали у моих научных оппонентов отторжение, через 10 лет стали уже вполне прикладными.
Теперь уже одно только выяснение недействительности сделки не предрешает решение спора о принадлежности объекта. Другие факторы нужно учитывать: владение и его длительность, добросовестность приобретения, фактическую и юридическую возможность истребования вещи. Если же истец настаивает на том, что достаточно обосновать ничтожность сделки о вещи, чтобы вернуть себе право собственности, это должно рассматриваться судами как необоснованный иск. Чаще говорят о том, что выбрано ненадлежащее средство защиты.
Такой довод привел суд и в нашем деле.
Хотя более простым и очевидным оставался все же аргумент о пропуске истцом срока исковой давности.
Собственность, человек, вещь
Лет двадцать я занимался теорией права собственности. Предложение заняться ею было сделано замечательным цивилистом и деликатнейшим человеком проф. В.А. Рясенцевым, с которым я состоял в долгой переписке. К сожалению, после множества переездов я потерял стопку полученных от него почтовых карточек, тесно исписанных, с последними строчками, помещенными на полях перпендикулярно, которые он применял в своей обширной переписке. Помню еще и адрес его на Пресне.
В 80-е годы эта тема определенно казалось скучной и тяжелой, довольно затхлой. Цивилисты явно предпочитали договоры и обязательства, которые находились под гораздо менее тяжким грузом идеологии.
Имеется подход, который считается марксистским, но скорее идет от Прудона, подозрительного отношения к собственности. От Маркса же воспринята невнятная идея «собственности как совокупности всех общественных отношений». Что это такое, Маркс толком не объяснил. Будем думать, что какой-то смысл здесь есть. Но остался нам все же неизвестным.
В немалой степени, а может, и решающей, Маркс находился под влиянием весьма распространенной в начале XIX в. задачи найти универсальный закон, описывающий связь трех факторов производства: капитала, ренты и заработной платы. Именно такие задачи берется решать могучий ум, которым Маркс, несомненно, обладал. Скорее всего, попытки решить эту задачу и ведут к представлению, что коль скоро все эти факторы кому-то принадлежат, то после выяснения той формулы, которая показывает их количественные соотношения, саму формулу можно сделать предметом внешнего воздействия через принадлежность факторов, т. е. собственность. Именно отсюда, думаю, идет операционное отношение к собственности, которая должна, а значит, может быть изменена. В рамках прудоновской традиции это изменение должно было стать только уничтожением. Но впоследствии, уже во второй половине века, оказалось, что никакого универсального закона, описывающего факторы производства, нет. Отсюда известные противоречия между первым и последующими томами «Капитала». А вот отношение к собственности осталось, и вся последующая марксистская доктрина культивировала нигилистическое отношение к ней. Право собственности как юридическое понятие смогло как-то сохраниться лишь благодаря изгнанию доктрины из юридической «надстройки» в «экономические отношения собственности» – выдуманное и пустое понятие, которое, однако, до сих пор кочует по отечественным учебникам.
Запуганные советские цивилисты боялись сказать хоть какое-то слово о предмете, который, как и любая жертва, предназначенная к закланию, стал священным. Немного смелее они писали об истории собственности, о ее римском и феодальном прошлом, как это видно из книг акад. Венедиктова.
После его книг 50-х годов, выводы из которых мне, честно говоря, со студенческих лет не казались, скажем так, захватывающими, ничего серьезного об этом предмете написано не было. Интересного же не было написано и до того. Видимо, этим и объясняется рекомендация В. Рясенцева.
Первый набросок того, что потом выросло в книгу, я опубликовал при сочувственной поддержке Владимира Александровича в конце 80-х годов в журнале «Правоведение» в виде небольшой статьи. В ней многие идеи, которые я потом так или иначе развивал, были уже обозначены. Наряду с традицией обязательного цитирования «классиков марксизма-ленинизма», которая в то время уже заметно слабела, оставалась, однако, традиция обоснования теоретических идей философскими выкладками. Наиболее заметным явлением такой теоретической работы можно считать известную в советское время книжку С. Братуся начала 60-х годов о предмете гражданского права. Учитывая, что эта выдающаяся по напряжению в извлечении цивилистических идей из марксистской теории книга сегодня не очень востребована, можно сказать, что значительную часть наших усилий мы, наверное, тратили напрасно.
В процессе работы над статьей я довольно быстро сместился от «Капитала» к «Философии права» Гегеля. Тогда я только начал понимать то, что впоследствии стало яснее. Юридические идеи Маркса, в основном изложенные в гл. 23 первого тома, представляют собой реакцию на «Философию права». Это хорошо известно. Но можно заметить и другое: Маркс пытался преодолеть гегелевские идеи о праве, и, как мне кажется, ему это не удалось. Во всяком случае, в таком важном пункте, как удаление из юридической связи воли человека и обнаружение в ней объективного начала, ничего убедительного не было показано. Можно много говорить о явлении объективного в обществе в целом, но право – это всегда явление воли частного лица, это всегда явление субъективное. Следовательно, и собственность – всегда только право и всегда только субъективна. Никакой объективной собственности нет. В материальном мире, где существуют вещи, есть только собственность юридическая, а в том мире, где нет вещей, а есть капитал, рента, процент и пр., нет собственности. Собственность бывает только на вещь. На идеальный феномен собственности быть не может (опускаю здесь тривиальный вопрос об интеллектуальной собственности).
Как-то мало обращали внимание на то, что вещь – понятие только юридическое. Физики имеют дело с телом, экономисты – с товаром. Что такое вещь, должны сказать юристы, но, оказывается, до сих пор не сказали.
После обнаружения этого странного молчания и после многолетних размышлений я предложил и свое определение вещи. Это материальный объект, которым можно владеть. Поэтому становится понятно, почему планета или атмосферный воздух – не вещи, хотя они материальны. Понятно также, что граница между вещами и прочими объектами сдвигается по мере технологического развития, расширяющего возможности владения за счет усложнения систем управления, и т. п.
Обнаруживается также, что все вещи изготовлены именно так, чтобы ими можно было владеть, и что практически все вещи изготовлены, произведены человеком. При этом их приходится вырывать из природы, и назад они обычно не могут вернуться, не утрачивая своих, приданных им человеком качеств. Природа их не принимает, что можно наблюдать на любой свалке.
Другое следствие из того положения, что вещь – это материальный объект, пригодный к владению, скорее имеет значение для современного российского права. Если помнить, что владение – исключительная позиция, что владение есть постольку, поскольку владелец не зависит ни от кого другого и осуществляет владение исключительно своей волей, то мы можем легко убедиться, что строением невозможно владеть помимо воли владельца участка. Ведь к строению нужен подход, возможность его огородить и тому подобные действия, в целом выражающие суть владения, а для этого нужно владеть участком, на котором расположено строение. Следовательно, строение не является вещью. Вещью остается только участок. Так и считается в континентальном праве, так было и в российском праве. Различные конструкции, присваивающие статус вещи помещениям и тому подобным объектам, являются, как известно, юридическими фикциями.
Возвращаясь к Гегелю и «Философии права», хочу попутно заметить, что при традиционном советском почтении к предтече Маркса сама книга не переиздавалась с 1934 по 1990 г. Я ее читал в библиотеке, где среди издательских реквизитов еще значился Л. Каменев. В последние месяцы советского уклада вышел новый перевод – здесь уже было имя В. Нерсесянца. Но время ушло вперед. И теперь неважно, видели ли советские политические издательства что-то сомнительное в этой книге или просто руки не доходили. Тогда же или даже чуть раньше вышла книга ранних работ Гегеля, и среди них были статьи по философии нравственности. Как это часто бывает, в набросках было больше, чем потом вошло в канон. Именно там, насколько помню, я получил самый сильный толчок к пониманию собственности. Потом ничего, что могло бы ослабить этот импульс, показать иные интересные решения, я больше не находил.
В целом эти суждения, радикальные лишь в контексте тускневшего советского учения о собственности, сводятся к тому, что в центре собственности находится человек. Единичный человек, личность. То, что я писал об этом в последующие годы, можно назвать антропологией собственности.
Приходилось использовать параюридическую литературу, историческую, культурологическую, философскую. Юристы, увы, мало этим интересуются. Нужно сказать, что в середине 90-х годов появилось много новых для нас книг и еще оставалась советская привычка читать все новое. Не могу сейчас уже сказать, отошел ли я от традиционного юридического чтения потому, что не видел здесь интересующих меня тем, или увлекся этими темами потому, что находил указания на них в этих до того малоизвестных или вовсе нам неизвестных книгах. Не помню, кто сказал, что науку двигают те, кто читает другие книги. Не хочу заявлять, что я двинул науку, – это оценят читатели, если они будут тогда, когда не будет меня. Ведь только потомки могут оценить автора объективно, поскольку они свободны от зависти, как заметил Сенека. Но хочу сказать, что очень важно читать всякие книги, не зацикливаясь на своей узкой профессии. Лишь бы не пустые.
Довольно много я цитировал французов, которых тогда стали массово переводить. Среди них были постмодернисты. Вероятно, поэтому меня стали называть главным юристом постмодерна. Хотя наиболее важными для себя я считаю таких авторов, как Мосс, Ассман, Фрейденберг, Гуревич. Едва ли их можно считать постмодернистами.
Мосс, который 100 лет назад показал значение дарения в архаичной экономике[14 - Об этом также много писал знаменитый этнограф Б. Малиновский.], вообще малоизвестен юристам. О нем больше говорят историки (хотя есть замечательный анекдот, приводимый Гуревичем, как академик Нечкина назвала теорию дара несерьезной, «ведь речь идет о каком-то там подарке»), знают экономисты. Но благодаря Моссу я смог, кажется, разобраться в некоторых аспектах генезиса договоров в архаичном, в том числе римском, праве. Первым договором была все же купля-продажа, а не смутный договор «обмена», которого никогда не было, но о котором писали даже великие романисты XIX в., не приводя в подтверждение, несмотря на свои колоссальные познания, ни одного факта. Хороший пример парализующей власти предрассудка.
Можно сказать, что не купля-продажа создала деньги как условие договора (так обычно все еще полагают), а деньги создали для своего обращения куплю-продажу и затем через нее все право. Поэтому понятно, что в качестве средств права деньги квалифицировать заведомо невозможно. И не только феномен безналичных денег. И наличные деньги – не вещь в юридическом смысле слова. А других смыслов у вещи нет.
Связь лица и собственности характеризуется тем, что лицо воплощено в вещи, а вещь несет на себе печать лица. Имущество в целом – расширенная личность и поэтому, в частности, не может быть отчуждено в целом. Имеется обширный, богатый, хотя и избыточный в своей монотонности, материал, подтверждающий это. Увы, и здесь до сих пор юристы мало что сделали. На первых порах я с увлечением цитировал то, что без особого труда можно найти в неюридической литературе, восполняя многолетние пробелы.
Но затем все же сосредоточился на труднейшем вопросе о генезисе права собственности (повторю, впрочем, что, кроме юридической, никакой иной собственности нет).
Собственность – право абсолютное и исключительное. Но если она возникает в договоре как «взаимное признание» сторонами друг друга в качестве собственников, как об этом писал Гегель, то, во-первых, непонятно, почему по архаической купле-продаже передавалось только владение (и до сих пор купля-продажа – это все равно договор о владении, поэтому не может быть продажи без передачи вещи), а не право, во-вторых, таким образом не объясняется длительный период сохранения относительной связи из купли-продажи типа usus auctoritas.
Можно довольно уверенно сказать, что в принципе договор не может создать абсолютное право, он всегда будет порождать только относительную связь.
Задним числом я пришел к вопросу, с которого следовало начинать: как это может быть, чтобы одно и то же право возникло из захвата, из оккупации и из сделки? Ведь это совершенно разные юридические ситуации. Вы будете смеяться, но этого вопроса ни задним числом, ни в качестве исходного тоже никто не задавал. Не так давно я упомянул его в беседе с уважаемой Евгенией, которая прочитала всю русскую, германскую и вообще европейскую литературу о понятии собственности (это предмет ее профессорской хабилитации). И, судя по трудной, хотя и короткой, паузе, она его до нашего разговора не слыхала.
Но если из сделки возникает право только относительное и другое возникнуть не может, то из захвата, напротив, не может возникнуть никакого права, кроме абсолютного, по той совершенно непреложной для архаики причине, что чужие люди – не субъекты права, не люди. С ними правовое общение невозможно. Ужасное слово «кромешный» не указывает на самом деле ни на что другое, кроме пространства за порогом дома, в крайнем случае – за околицей. Там обитают чужие, и там кромешный ужас. Понятно, что вещи, захваченные у чужих и переправленные через границу, разделяющую устроенный, правильный – свой мир и мир кромешный, не могут иметь никакой связи с прежними владельцами. Право на эти вещи – абсолютное.
Попутно можно указать на священное значение границ в архаике, а также на ряд юридических форм приобретения и спора, имитирующих захват (использование фестуки в споре о вещи, продажа «под копьем», в какой-то мере и молот(ок) аукциониста).
Так я пришел к выводу, что абсолютность права собственности вытекает из приобретения насилием, захватом у чужих, в начальном варианте – из права на военную добычу. А право на такие же вещи, полученные по сделке, впоследствии, далеко не сразу было расширено до такого же права. Ретроспективно после этого оно стало пониматься как условная, относительная (используя термин Казера) собственность. Этот процесс перехода относительного права в абсолютное, уже известное закону, в принципе отвечал интересам усложняющегося рынка, хотя и породил вечную проблему добросовестного приобретения, с помощью которого владение преобразовывалось разными способами в собственность. Ведь при разных модусах добросовестности она исключена для насильственного захвата, таким образом косвенно указывая на первоначальный источник собственности. В конечном счете насилие было и вовсе вытеснено из сферы собственности – вместе с распространением правоспособности на всех людей. И только в таком реликте, как оккупация, остается глухое напоминание о пройденном пути.
Раз мы помянули добрую совесть (этого предмета придется касаться еще, наверное), то я бы сказал, что добросовестный приобретатель – всегда относительная позиция, это всегда отношение с собственником, опосредованное, но тем не менее только с собственником. Мучительный пункт доброй совести – это обоснование преобразования этой относительной позиции в абсолютную. Очевидно, что дать такое обоснование средствами юридической логики нельзя. Остаются только доводы интереса рынка, целесообразности, т. е. неправовые. Как это произошло и с теорией владения, в области теории доброй совести после практически полного отсутствия исследований в 90-е годы, когда я начал о ней говорить, стал быстро нарастать поток публикаций. В короткий срок были введены в нашу литературу многолетние наработки западной юридической мысли. Тем не менее в самой доброй совести – как в широком, так и в специальном значении в сфере продажи чужой вещи – в принципе не может быть найдено обоснование возникновения абсолютного права из неправа.
В своей книге о собственности вслед за фундаментальными штудиями, к которым меня привела необходимость разобраться в том, что такое собственность, после того, как стала очевидной неубедительность наших прежних теорий, я перешел к решению массы текущих проблем. Как язвительно отзывался об этой части книги Д. Дождев – к настольной книге адвоката. В конечном счете многие решения были после почти десятилетия дискуссий и обсуждений приняты в Постановлении Пленумов ВС и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22. Я писал комментарии к этому Постановлению, хотя гораздо более подробно это было изложено раньше в моих книгах. Я бы не стал делать такое нескромное замечание, если бы не желание привлечь наконец внимание к этому тексту. Кому-то это может быть полезно для вполне практических целей.
Все возможные вопросы, впрочем, не были затронуты ни ранее, ни позже. Новые и новые проблемы возникают в каждом серьезном споре. Только часть из них я могу как-то решить, еще часть – сформулировать и предложить для обсуждения. Есть широкое поле, требующее общих усилий.
Жалко, конечно, что нередко силы одаренных молодых цивилистов в большей мере уходят на пересказ тех или иных европейских конструкций вместо решения того, что непонятно в нашем праве. Ведь гораздо интереснее решать нерешенные задачи в своем учебнике, чем смотреть ответы, написанные в чужом.
Возраст – не самое приятное в жизни, но он дает право и возможность о чем-то предупредить (хотя, как правило, это пропускается мимо ушей). Так вот, в конце карьеры ученый гордится тем, что он придумал. Недаром новые взгляды и теории имеют имена их авторов. А вот тем, что не придумал, а пересказал, гордиться не приходится. И при этом именно молодость – время творчества. Стремление к пересказам и апелляции к опыту – своему или чужому больше пристало немолодым.
Вообще, пример, в том числе и когда примером является иное право, не только ничего не доказывает, но и знаменует признание теоретического поражения. Как говорил М. Монтень, пример – прибежище для слабых духом.