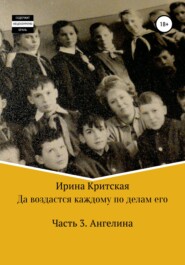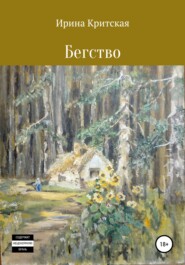По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Да воздастся каждому по делам его. Часть 1. Анна
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Был потрясающей красоты день, яркий, празднично разноцветный, и то, что происходило у цыган не вызывало печали, казалось каким-то спектаклем, чем угодно, только не похоронами. У калитки Пелагею встретила красавица – точь в точь Лала, только моложе, полнее – осанистая, высокая, грудастая цыганка куталась в яркую шаль, усыпанную маками, гордо и высоко держала голову в причудливо завязанной парчовой косынке с кистями. Она поманила Пелагею смуглой рукой, унизанной браслетами
– Давай, соседка, не стесняйся, заходи. Плясать, петь будем, сестра в лучший мир собралась, провожаем.
Пелагея протиснулась между Шанитой (это она и была – родная сестра Лалы) и деревянной стойкой калитки и прошла во двор.
Накрытые столы ломились, такой еды Пелагея уже не видела много лет. Пышный хлеб, телятина, помидоры и арбузы, рыба и пироги, чего только не было на поминальном столе, и она почувствовала, как у нее засосало под ложечкой. На нее никто не обращал внимания и она, вдруг, сама не от себя не ожидая, стянула из ближайшего блюда пирожок и спрятала в карман. Стыд накатил волной, она покраснела и хотела было уже положить обратно, но ворота распахнулись под громкое цыганское пение. Народ прянул в стороны и попрятался кто куда смог, а лохматый, кучерявый цыган влетел во двор на рыжем коне, а сзади на бричке подпрыгивал на ухабах белый гроб.
Гроб стащили вниз, подтянули в шалашу, в котором лежала Лала. Больше Пелагея видеть не смогла этот шабаш и тихонько, стараясь не привлекать внимания, вышла на улицу.
– Соседка! А соседка! Стой. Разговор есть.
Пелагея обернулась. Ее догонял такой огромный цыган, что если бы она его встретила где-нибудь в лесу или в темном переулке, то померла бы со страху. Метра под два ростом, метра полтора в плечах, он был похож на шифоньер из бабкиного дома – огромный, дубовый, старинный. Черная кучерявая борода, атласные штаны, заправленные в блестящие сапоги, парчовая рубаха, отцы Лалы, барона их, она видела лишь раз в жизни, когда их табор останавливался недалеко от села, приводил лошадей на ярмарку. Цыган догнал Пелагею почти у самых ее ворот, взял за плечо.
– Ты вот что. Сейчас парень тебе наш подарок приведет, так ты не отказывайся. И мужу накажи. Откажетесь – смертная обида будет – подарок вам от нашего рода за дочку. Ты пришла, ты фельшара вызвала, тебе спасибо.
Он вдруг отошел чуть подальше и поклонился в пояс. Потом повернулся и быстро пошел к своим.… Когда, через час они с Иваном проверяли все ли ладно во дворе и закрывали ворота, кто-то постучал – сильно, чем-то тяжелым, да так, что доски заходили ходуном. Иван рванул калитку и обомлел – у ворот стоял теленок. Небольшой, но уже не сосунок, крепенькая коровка смотрела на мужика удивленными круглыми глазами. А в конце улицы пылила цыганская лошадь…
Глава 6. Казак
Иван тогда промолчал, посторонился, дал Пелагее загнать тёлку в сарай. Счастья её не было предела, Цыганка (так назвали коровку) была обцелована, обихожена, поселена в теплый, надраенный кирпичом добела, коровник, вытерта от крошечных рожек до хвоста нагретой мягкой тряпочкой, накормлена свежей травкой и напоена колодезной водичкой.
Прошло уж три года, а Пелагея все помнила тот день. И стыд, и счастье, надежда и страх, намешано было все. Это сейчас, когда Пелагея, начисто отмыв темные о работы руки, нагладив тяжеленным чугунным утюгом белую тряпочку, захватив масло, чтобы вымя смазать, сядет перед Цыганкиным брюхом на табуреточку, вздохнет перед работой и чувствует себя спокойно и защищено – молочко есть, значит и все есть. И творог, и сметана, и маслице – она делала всё. А тогда… Каждый день вставала с мыслью, чем же любимых накормить. Еще летом сладко. А вот весна… Хоть березу глодай – ту, большую, что перед домом. Все было. Слава Богу, кончилось.
Она тяжело встала, все больше спину тянуло – с каждым годом, с каждым денечком, потянула ведро с молоком и, дернув, пополневшим животом поставила его на Иванов верстак, он разрешал ей расставить там глечики – сметану собирать. Разлив молоко, оставила в ведре для ужина, собрала сметану со вчерашнего удоя в глиняную миску и пошла в дом.
Нюра сидела на полу, на круглом тканом половичке и играла в чурочки. Гладкие, похожие на головастых куколок, а Ванечка их наделал для дочки разных – и больших и маленьких, чурки были выстроены ровным рядком, по ранжиру – от большой к маленькой. Последние лучи солнца проникали через слегка запыленное стекло горницы, и путались в кудрях девочки, поджигая их радужным огнем. Пелагея очередной раз подивилась – как же хороша дочка. Темные, почти черные кудри, смугловатая кожа, тонкий румянец и огромные ресницы, которые делали ее и так большие глаза, просто огромными. Настоящая кукла. Только вот откуда у нее такая чернявость, когда в роду никого такого не было – загадка. Они уж и говорили с Ваней об этом, да что толку – никто не знал. Вроде, как будто Гита с молоком передала ей цыганскую кровь, вместе с глазами этими колдовскими. Они старались об этом не думать, но как не думать, когда девочка, яркая, как картинка, обращала на себя внимание всех соседей. А особенно тех – кто в соседнем дворе. Шанита так и цокала языком, как Нюра пробегала, останавливалась, смотрела, улыбалась.
Дочка подняла глазки, увидела мать и, вскочив на полные ножки, бегом бросилась к Пелагее. Она росла бойкой, смышлёной и активной, уже отлично говорила, не путая ни слова, ни ударения, произнося все четко и правильно.
– Мамуся. Молочка дай. Будь добренька.
Пелагея налила ей большую кружку парного молока, отломила горбушку свежего хлеба, погладила по кучеряшкам. Нюра залпом выпила молоко, длинные молочные усы расплылись по упругим щечкам, Пелагея утерла дочку подолом и устало села на табурет. Уже нет сил, а надо масло пахтать, отложить нельзя. Да еще Иван в город уехал – вернется только к завтрему.
Когда закончила все, уже стемнело. Нюра спала, свернувшись калачиком на материнской кровати, шуршала где-то у печки мышь, и Пелагее, непривычной ночевать одной, было не по себе. Когда постучали в окошко, тихонько, крадучись, сердце у Пелагею подскочило и рухнуло, обдав горячим все внутренности.
– Кто там? Кого несет в такую поздноту?
Она подняла керосиновую лампу, стараясь осветить палисадник, заросший флоксами, и в редком свете фитилька разглядела мужика. Он еле стоял, держался за бок, и на светлой ткани бешмета темнело огромное пятно.
Что бахнуло в ее шальную голову, она не знала, но, накинув шаль, она выскользнула во двор, тихонько открыла калитку и выглянула на улицу. Улица пустовала, в свете безумной луны все деревья казались вышитыми черным бархатом на темно синей ткани. Серебрились крыши, отливала пурпуром трава – мир казался нереальным. И еще нереальнее выглядел человек – белый, как смерть, скрючившийся на лавочке под окном. Пелагея опасливо приблизилась, тронула его за плечо, он поднял голову, и она охнула. Алексей… Это он ведь к ней сватался тогда – сто лет назад, а она в отказ, ждала Ванечку. А как вся это революция закрутилась, так он к белым подался.
– Алеша? Ты? Как ты сюда? Зачем?
– Поленька, спрячь меня до завтрева. Я утром уйду. Спрячь, голуба, поймают, убьют.
Пелагея сидела вчера в подполье с Нюрой, когда красные гнали казаков из села – аж дым шел. И стреляли, и взрывали, хорошо быстро кончилось. Теперь в селе красные – а он, Алеша – враг ведь… Но она помогла ему встать, подняла фуражку и, еле сдерживая, чтобы он не упал, поволокла его в дом. Хоть раны промыть, забинтовать, молоком отпоить, что ли… А там в сараюшку, дальнюю, где в тот год гусей держали. Ничего. Спрячется. Живая душа ведь, как же…
Глава 7. Старуха
Алексей был плох. Пелагея даже не решилась прятать его в сараюшке, уж больно он был бледен, тяжело дышал и на виске его сквозь тоненькую синеватую кожу просвечивала бешено бьющаяся темная жилка. Кое-как перевязав огромную рану на боку и затянув пульсирующую дырку на голени, Пелагея положила его в крошечной комнатке, которая служила им кладовкой, там под маленьким окном был сколочен узкий топчан. Прикрыв мужика простыней, она, подумав, скрутила окровавленную одежду в ком и отнесла ее в дальний сарай, он сто лет пустовал, когда -то в нем держали свиней. Запихнула под черную гнилую колоду, прикрыла охапкой прошлогоднего сена и, с колотящимся сердцем, пошла в дом, спотыкаясь на кочках в темном дворе. В доме стояла звенящая тишина, даже мыши не скреблись, как будто чуяли беду. Полкан тоже молчал, как зарезанный, такой тишина Поля не помнила сто лет. Она и сама, как зачарованная, на цыпочках, прокралась в горницу, поднесла лампу к дочкиному лицу – спит. Потом запалила лампаду, сняла маленькую иконку Божьей Матери и понесла в кладовку.
Алеша не спал. Он лежал прямо, как покойник, выставив острые большие пальцы некрасивых, костлявых ступней и смотрел в потолок. Повязка на боку намокла, пропиталась черным и казалась большим пауком, обхватившим мужика поперек. Она повесила икону на гвоздик, приладила лампаду и присела на край топчана.
– Полечка, милушка, ты ли?
Алеша повернул прозрачное, почти фарфоровое лицо и смотрел ей в глаза прямо, большими, проваленными внутрь глазами, смотрел так, как будто хотел проникнуть в душу.
– Я, Лешенька, я. Что тебе, может принести что? Водички? Молочка, может?
– Помираю я, любанька. Совсем помираю. Холод в нутрях – морозит. Ты меня укрой покрепче, может тулуп старый есть у тебя?
Пелагея притащила из сеней драный Иванов тулуп, он в нем в лес по дрова ездил – еще его деда шуба – тёплая, тяжелая. Навалила на Алешу, а тот уж совсем посинел, губами шевелит без звука. Голову отвернул к стене, замолчал и только худыми пальцами руки уголок подушки теребит.
Пелагея бросилась во двор, выскочила на улицу и бросилась со всех ног к цыганскому двору. Хорошо, у них калитка всегда открыта – не запирают, лихих людей не боятся, все у них так. Пролетев птицей по двору, замолотила в дверь дома, сначала кулаком, потом подняла чурку здоровенную у крыльца и забила чуркой. Минут пять молотила, как сонная, растрепанная Шанита выскочила на крыльцо и отняла чурку
– Сбесилась, дурная? Что ты, Тэ курэл тут джюкло*, шумишь тут? Зайди.
Выслушав Пелагею, молча развернулась и ушла в дом. Через пару минут показалась старуха. Пелагея бабку цыганскую боялась с юности – один черт знал сколько ей стукнуло. Тощая, патлатая, седая до синевы, она почти не выходила со двора и все сидела под старым ясенем у дома, курила трубку. Она почти ничего не видела, шарила когтистой птичьей лапой по карманам в поисках табакерки, а потом, закурив, долго кашляла, надсадно и громко. Это все Пелагея наблюдала в свое окошко много лет и через двойную раму окна было слышно, как она страшно ругается по-цыгански на любого, кто пробегает мимо. Раньше она гадала, усевшись прямо у ворот на мураву, расстелив замызганную шаль и бросив карты, похожие на набрякшие тряпки на свои расправленные, древние юбки, на которых уже почти не было видно цветов. В последние лет пять гадать к ней ходили бабы в дом. Слепая, она узнавала карты на ощупь и тихо бормотала про судьбу, почти никогда не ошибаясь.
Пелагея отпрянула, старуха глянула на нее, как коршун – зло и в прищур, затянула драный платок на косматой голове и так быстро понеслась к их дому, что они с Шанитой еле успевали. Шанита, правда, пыхтя тащила здоровенную корзину и уже у калитки, задохнувшись крикнула Пелагее – «Возьми корзину, корова. Видишь, помру сейчас».
– Лампу неси. Что стала. Все неси. И свечи.
Старуха скрипела, как несмазанная телега, Пелагея уж давно забыла, какой у нее голос, когда она не ругается. Выхватив у нее лампу, она посветила на Алексея, крякнула.
– Упокойник, небось. Чего звала, дура?
Но, увидев, что Алеша пошевелился, махнула рукой, что бы поставили свечи, толкнула ногой корзину к кровати и резко захлопнула дверь прямо перед носом у баб. Потом снова приоткрыла.
– Воды принесите, овцы. Быстро. Горячей.
Хорошо, у Пелагеи в печи чугунок с водой стоял – всегда держала, мало ли чего надо – дите ведь малое. А тут с вечера кашу томить поставила – печка горячая. Отнесла чугунок, краем глаза увидела, что Алексей лежит голый на топчане, рана зияет ямой, а старуха склонилась над ним гриф над добычей – спина острая, горбатая, страх…
Всю ночь в кладовке сидела старуха. Они с Шанитой прикорнули в горнице – Пелагея на диване, цыганка прямо на полу, на половичке, бросив подушку с их с Иваном кровати. Уже светало, Пелагее надо было гнать корову в стадо через часок, поэтому она встала, накинула шаль и вышла на двор. В голове гудело колоколом, глаза не смотрели, а делать нечего. И хлеб надо было ставить, и коровка ждать не может. Постояла под вишней, подышала, вернулась в дом. И тут, как раз дверь кладовки распахнулась, старуха выползла гадюкой, бросила в угол окровавленные тряпки.
– Живой. К вечеру не помрет, очунеется. Яиц мне принесешь с десяток и курицу. Да забей и ощипи. А мужу скажешь, чтоб за реку его в ночь отвез, там табор наш стоит. Возьмут, я весточку брошу, а то его тут … Ваши, оглоеды красные.
Старуха поплелась к выходу, тяжело, еле – еле, вроде и не неслась ночью, как молодая. Опухшая Шанита кивнула Пелагее головой, подхватила корзину и пошла следом. Вдруг цыганка обернулась и ткнула Полю крючковатым пальцем.
– Молока ему дашь. С погребу. Холодного. Не вздумай теплого налить, нельзя. Больше седни ничего. В таборе сами все сделают. Да, молчи, дура. Не ляпни соседям чего. Пхагэл тут дэвэл*
Они ушли и в доме снова воцарилась мертвая тишина, только сопела дочка в своей кроватке.
Когда Пелагея, сделав необходимое, со страхом вошла в кладовку, Алексей спал. Он уже не выглядел мертвецом, щеки чуть порозовели, губы тоже стали живыми, не вваленными. Пелагея не стала его будить, поставила стакан холодного молока и тихонько вышла.
* чтоб тебя собака вы…. (неприличное ругательство)
* Сломай тебя Бог