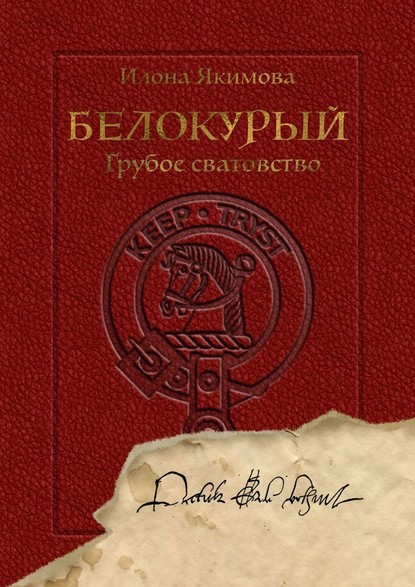По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белокурый. Грубое сватовство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– Лишние уши нам ни к чему, не так ли? Особенно, когда этим ушам сопутствует такой змеиный язык, как у моей Дженет.
Граф пропустил намек мимо:
– Что соседи, Уот? Теперь, под Максвеллом, беспокоят изрядно?
– Под старым Джоном – нет, пока его не взяли в Тауэр, было добротно, а вот сынок его, Роберт, твой сводный братец, держит руку Керров, так что – сам понимаешь.
– А как все вышло-то, Уолтер, тогда, в начале, между тобой и Кессфордами?
– По глупости молодой, как! Мне бы сообразить, что на Ангуса не надо выходить в две фамилии всего, но нам же дерзости не занимать. Керры ввязались не потому, чтоб им было дело до короля, нет… им было важно, что можно на меня пасть разинуть. И ведь я их пальцем не тронул – на кой они мне, по родству-то, а Кессфорда пикой снял один из моих Эллиотов, когда мы уже от них уходили, в клочья Ангусом порванные… мать моя из Керров Бокле, на дочери Фернихёрста я даже побыл женат, а все одно. Только хуже.
– А что твои Эллиоты сейчас?
– При деле, как в старые времена. Джок по-прежнему не дурак в том, чтоб увести стадо чужой скотины. Старый Редхью хворал-хворал, а помер только года полтора назад, они пришли ко мне, я взял их под свой штандарт…
– Ну, скажи уж хоть теперь, Уот, – улыбаясь, спросил Белокурый, – тогда, с плешивой овцой – это было все с твоего приказа?
Дело о сожженных овчарнях Хермитейджа висело между ними долгие годы, как падаль на суку – при попутном ветре нет-нет, да пованивает. Он знал, Уот солжет и отопрется, но побаловал себя вопросом все равно.
Так и произошло.
– Я не при чем, – побожился Вне-Закона, – то была задумка покойного Роба, помяни, Господи, его грешную душу… Теперь спрошу я тебя: верно ли говорят, что Питтендрейк заманил тебя в Далкит и преломил хлеб? Верно всё или врут, как у нас тут водится?
– Не врут, Уолтер. Я вправду был в Далките и пил с Питтендрейком за одним столом. И они не попытались меня отравить! Что странно…
Бранксхольм-Бокле кивнул и с минуту сосредоточенно размышлял, разминая в пальцах шарик хлебного мякиша. Потом сказал с глубокой убежденностью:
– Я тебе многое прощал, но если ты станешь резать Дугласов без меня, Лиддесдейл – я с тобой на крови!
– На крови?! Ты мне прощал? – Белокурый в который раз поразился великолепной наглости доброго соседа. – Уот, да ты при Джеймсе пристроил меня на два года в тюрьму, разве не под топор подвел, и теперь – на крови?!
– Так это когда было-то, – нимало не смущаясь, отвечал Злобный Уот. – Сам знаешь, тому и глаз вон. А Дугласы – дело дня сегодняшнего. Ты ведь затем вступил в бонд с Питтендрейком, чтоб прирезать его, скажи? Я прав?
Уот Вне-Закона ни минуты не сомневался, что Босуэлл вошел в сношения со старыми врагами лишь затем, чтоб удачней предать их. Вопросом для Бранксхольма-Бокле было только – когда? Blood feud с Дугласами установлена была Уолтером с того дня, когда он положил сотню рейдеров под конницу Ангуса в попытке освободить юного короля, с того дня, в котором, в далеком Сент-Эндрюсе, столь же юный, как король, граф Босуэлл пенял дяде-епископу на неловкость Бранксхольма-Бокле… вспомнив о своей тогдашней наивности, Белокурый улыбнулся:
– Бонда не было, Уот, вот те крест. Бонд он захотел между мной и Генрихом Тюдором – вроде того письма, что написал ты, чтобы прикинуться «согласным». Ни одной бумаги о верности лично Ангусу я не подписывал и не стану.
Бранксхольм вновь помолчал, затем произнес, глядя вдаль поверх стола – и мимо дорогого гостя:
– Но если я узнаю, что бонд все-таки был – не взыщи…
Рука его недвусмысленно легла на пояс, однако этим Белокурого давно уже было не пронять.
– Что? – Босуэлл взглянул на него с интересом. – Опять донос? Так ведь некому, Уолтер… А как же попить им крови через меня? Когда стану резать Дугласов – я возьму тебя в долю. Но будет это нескоро.
– Ничего, – Уолтер Скотт, ощерясь, показал недостачу левого клыка, и только тут Белокурый понял, что матерый рейдер понемногу поддается старости. – Я умею ждать!
Но когда и до Питтендрейка дойдет слух о том, что Босуэлл был в Бранксхольме и обговаривал свои дела с Уотом Вне-Закона, Белокурому снова придется выкручиваться и лгать.
Не впервой.
То, что он всегда любил в смысле остроты ощущений – между Симплегад.
Он собирал сторонников не только там, где они были наперед, но там, куда бы не заглянул никто – среди человеческого отребья Спорных земель. Лгал тем, кто стоял за Тюдора, одно, и другое – тем, кто стоял за королеву Марию. Слишком ставка была высока, слишком высокий жребий выступал приманкой, жребий, о котором у него даже не было времени размышлять, покуда не схватит под уздцы этого коня – и пока не повалит, как родоначальник семьи когда-то. И не было преград его воле, как не было и денег – воплощать эту волю. После визита в Далкит к Босуэллу, как к своему, обращались Гленкэрн и Кассилис, и за спиной-то у «пустышки, красивого гордеца» понемногу вставала такая сила, что Садлер задумался, не напрасно ли отказал ему в бонде… Садлер был занят переговорами о мире, Арран – тем, что выискивал деньги для пустой казны, пытаясь выклянчить у Святого Престола бенефиции, розданные от крупных монастырей бастардам покойного короля, а в шкатулке французской вдовы лежало письмо, в котором Папа Павел III, еще не знавший тогда о смерти Джеймса Стюарта, призывал шотландского короля «накрепко стоять против Тюдора, ибо он сын погибели и диавола». «Если духовная мощь святого Престола иссякла, мы пошлем и денег» – писал он, но Мари де Гиз не могла обратиться к нему за помощью, даже к нему… в Рим писал слезницы Арран, сетуя на развращенность нобилей Шотландии и происходящие от того беды. Аррану блестяще удавалось несочетаемое: устно бранить «римского епископа», чуть ли не провозглашать Реформацию, а письменно просить о деньгах и помощи. Он искусно угрожал Святому престолу тем, что, не имея поддержки, не сможет и удержать страну от уклонения к английскому разврату в вопросах веры. Глядя на него, Босуэлл снова вспоминал Фаустину, ее «продаваться, не отдаваясь целиком» – и понимал, усмехаясь, что многого еще не постиг в науке жизни. Арран писал не только Папе, но и тем из владык Севера, кого мог заманить посулами союзничества – Кристиану Датскому, вспоминая о воле покойного короля к продлению союза между державами, воле, которой не было, но кого когда в политике волновала правда? К началу мая в стране было уже не только три престолонаследника, но и три главы государства, три первых лица, каждый из которых с трудом признавал реальность власти остальных: королева-мать в Линлитгоу, граф Арран в Эдинбурге и Дэвид Битон, канцлер королевства, примас Шотландии, в собственном архиепископском замке Сент-Эндрюс. И между этими тремя городами по раскисшим дорогам и полному бездорожью мотался, порой не сходя с седла и в ночь, Патрик Хепберн, граф Босуэлл, в погоне за своей дерзкой фортуной – а, наряду с ним, и прочие благородные лорды королевства.
Шотландия, Линлитгоу, май 1543
Гиллеспи Рой Арчибальд Кемпбелл проиграл ставку кузену Хантли: вместо того, чтобы первым делом вцепиться в горло Аррану, Мэтью Стюарт, граф Леннокс выбрал более приятный способ препровождения времени, а именно – ухаживать за французской вдовой. Он просиживал свои лавандового цвета штаны, играя для королевы на лютне, распевая в честь нее песни, складывая стихи… Мария же терпеливо выслушивала все это, шутила с графом уместно и мило, хвалила за стихи и песни – и преспокойно отправлялась на мессу в дворцовую часовню либо в церковь Святого Михаила, куда, мрачно волочась за шлейфом ее траурного платья, следовал и Леннокс, выстаивая службу на коленях подле – но чуть подалее от – госпожи, жарко молясь всем святым, чтоб они даровали ему желаемое, не смея сетовать на ее похвальное благочестие. Леннокса было много в Линлитгоу, правильней было сказать, что Леннокс был везде – с липкими комплиментами, с не вовремя оказанной услугой… еще две недели, и даже его кристальный французский стал бы раздражать королеву. Когда верный рыцарь сильно утомлял Марию де Гиз, она прикрывала глаза, бралась за четки и напоминала себе, что Мэтью Стюарт – не просто глупый красивый мужчина, чьи речи утомительно приторны; Мэтью Стюарт – это Дамбартон-Рок, это ключ к Западному побережью Шотландии, к устью Клайда, отныне запертому его волей, ключ к Островам. И враг регента, а теперь, при нынешнем положении дел, любой враг регента – ей друг и соратник.
Но был ведь еще и Босуэлл. Этот не посещал вместе с ней церкви – за исключением считанных случаев, песен не пел, нарядами не кичился… даже то, что говорил он, мало имело отношения к куртуазности, большей частью королева обсуждала с Босуэллом настроения лордов, перспективы увернуться от английского брака для дочери, новые подлости регента и то, как ей, наконец, покинуть Линлитгоу и перебраться в Стерлинг – оттуда, с той чудовищной скалы, не страшен ни Джеймс Гамильтон, ни даже Генрих Тюдор. Босуэлл, сравнимо с Ленноксом, вовсе не ухаживал за королевой, лишь смотрел ей в глаза порой чуть дольше, чем дозволялось правилами приличия, или улыбался – коротко, бегло, как он умеет, но так, что сердце леди теплеет от этой улыбки, или мог обронить несколько слов, которые эхом отзывались в ее памяти день за днем… все те дни, что она простаивала в церкви на коленях – с верным Ленноксом позади себя.
Мари де Гиз, несмотря на исключительно замужний опыт общения с мужчинами, в придворной игре была женщина искушенная, и она прекрасно понимала, что сдержанность Босуэлла, как избыточность Леннокса, может быть в равной степени игрой. Но уважала Босуэлла, как уважала бы грамотного партнера по танцу. Если бы леди впрямь собиралась замуж, его способ ухаживания тронул бы сердце гораздо больше. На него она обратила бы внимание – не только из-за красоты, которую время в изгнании и опыт лишений отточили до какой-то неумолимо пронзающей душу остроты – но именно из-за красноречивой немногословности. Сказал единожды: я верен вам, вы – моя королева, принеся присягу – и больше не повторял, и вескости этих слов хватало, чтобы об этом помнить всегда… и одновременно – забыть, что граф Босуэлл признал госпожой не Марию Стюарт, а лично ее, Марию де Гиз, королеву-мать, и вообще, к королевству Шотландия эти слова никакого отношения не имели. То был негласный бонд между ними – бонд сердца, потому что денег, чтобы купить, она ему сейчас предложить не могла.
Ей не было никакой женской выгоды в соперничестве двух графов, никакого запретного плода она не могла бы сорвать, не рискуя своим положением, и все же – она не могла не сравнивать…
Босуэлл умел смеяться, умел шутить – чего Леннокс не умел вовсе, не то от убеждения, что шутить с женщинами само по себе лишнее, когда ты молод и привлекателен, то ли ему мешала принятая в отношении Марии роль вздыхающего, почтительного рыцаря, рыцари ведь не зубоскалят. И Мэтью Стюарт упрекал Хепберна в развязности, в непочтительности к даме, но упреки эти заботили и последнего, и саму даму не больше, чем прошлогодний снег. Во всяком разговоре с Босуэллом, если речь не шла о ее делах и тревогах, для королевы был вызов, Патрик Хепберн приглашал помериться силами в игре, в которой оба они не имели права зайти достаточно далеко: он – потому что женат, она – потому что вдова государя никогда не снизойдет до своего подданного, о чем бы ни взывало слабое, неутоленное женское естество, так жаждавшее не только пахаря, но и покровителя. Графиня Босуэлл, само ее существование и доброе здравие были в глазах королевы достаточным оправданием, чтобы с легкостью флиртовать с графом Босуэллом; этот флирт, думалось ей, именно потому и был безопасней, что без обязательств, и казалось, что и граф это понимает тоже, обстоятельства, в которых она отдает ему предпочтение – только потому, что никогда не сможет любить его, только затем, чтобы ревновал холостой Мэтью Стюарт.
И это соперничество – «любовь небесная и земная», как в шутку прозвала обоих графов Мари Пьерс Ситон – конечно, имело зрителей не только в лице циника Аргайла, соперничество сопровождалось эхом многих голосов: и тех, кто был уверен, что королева ищет себе нового мужа, и тех, кто клялся, что вдова не достанется никому.
Галерея над холлом, Линлитгоу, Шотландия
Чем чаще видишься с женщиной, которая противостоит тебе в любовной игре, тем больше у нее средств справиться с чувственной лихорадкой. Но когда встречи редки, и всякий раз твое несытое желание обжигает ее, прорываясь в немногих словах или прикосновениях, раны у нее глубже, и залечивает она их дольше. Ибо очаровывается тобой, но не успевает разочароваться. Пусть же Леннокс занашивает до дыр свой лавандовый бархат в Линлитгоу – черный плащ Босуэлла виден редко, зато издалека.
Так рассуждал Белокурый, и был абсолютно прав применительно к Мари де Гиз, которая за время брака с Джеймсом и последующего вдовства успела забыть, что такое по-настоящему радоваться жизни. Да в целом, жизнь ее не очень-то и радовала: к двадцати семи уже дважды вдова, уже оплакала троих из четверых рожденных ею сыновей, умерших во младенчестве… а только тот, кто никогда не терял дитя, может сказать, что мать скоро утешится с новым чадом. Последнее письмо Луи де Лонгвиля она до сей поры хранит среди бумаг и иногда перечитывает, ее брак с Джеймсом Стюартом никак не был велением сердца, но она достойно несла роль королевы Шотландии. И вот – снова одна, в до сих пор враждебной к ней стране, среди грубых, жестоких людей, под угрозой от южного соседа и в прямой схватке со следующим после ее дочери претендентом на трон… Где ей было радоваться жизни сейчас, этой горькой Марии, у которой одна забота на уме: короновать дочь, не утратить власть, не допустить в короли Аррана. Момент для сочувствия Белокурым был выбран великолепно – сейчас вдова и за соломинку ухватится, если то поможет ей уцелеть в битве. За соломинку… а если за могучую бычью шею третьего графа Босуэлла? Уж эта выя вытянет на себе любое ярмо – и любую влюбленную королеву. Надо только выждать ее слабины, как бы ни было самому утомительно галантное ожидание. Чем сильнее истомится вдова, тем легче упадет в его объятия. Выждать, не допуская, чтобы она пресытилась первым и самым сладким волнением – видеть его рядом с собой.
Когда же не случалось видеть, заходили разговоры, тут, среди женщин, в тесном мирке скромной, частной жизни королевы-затворницы, и вскоре Мария уже следила за речью, прикусывала язык, чтоб лишний раз некстати не помянуть. О чем думаешь, то и пробалтывает твоя речь… но пока королева молчала, находились другие языки, чтоб хвалить и жалить. Вот за шитьем леди Эрскин шепотом заспорила с Элизабет Стюарт, сестрой Леннокса, леди Стюарт поддержала Элеонора Хей, в этот спор вмешалась и леди Гордон… Манеры Леннокса или манеры Босуэлла, костюм первого или второго, способ отдавать своей госпоже поклон – по французской моде или на старо-шотландский лад? Боже, как можно было двум дамам, ни одна из которых изначально не высказывалась в пользу Патрика Хепберна, дойти чуть ли не до брани и щипков к итогу беседы? Поистине, этот мужчина сеет раздор, где бы ни появился, одним своим именем!
– А вы что скажете, леди Флеминг? – спросила Мария, заранее забавляясь грядущим резким ответом.
И не ошиблась.
– О, мадам, – отвечала та с усмешкой, – у меня нет причин ни хвалить, ни, тем более, воспевать графа Босуэлла. Я ему всего лишь двоюродная сестра, а не любовница.
При этом Дженет Флеминг обвела орлиным, пылающим взором фрейлин, отчего иные предательски покраснели, причем, к неприятному изумлению Марии – и леди Элизабет Стюарт также.
– Дженет, вы жестоки к родственнику. Неужели у вас не найдется ни одного доброго слова для графа? Если вам не по душе ум и доблесть, можно было, по крайней мере, сказать, что он обаятелен.
– С этим не поспоришь, но тут не его заслуга. Он – наполовину Стюарт или даже больше, чем наполовину, а это у нас в роду. Но мой дед, мадам, совершил большую ошибку, наградив семью таким довеском – его мамочкой и Треквайрами… дурная кровь простолюдинов себя покажет всегда. Видели бы вы эту Маргарет Мюррей, его бабку! – леди Флеминг рассмеялась. – О нет, мадам, такого даже Стюарты не исправят!
Королева улыбнулась, но ничего не ответила. Она тоже ощущала в Босуэлле то, что Дженет Флеминг с презрением заклеймила, как дурную кровь, но ощущала совсем по-другому, всей женской сутью своей – как могучую плодотворящую силу мужчины, воина, хищника.
– Впрочем, – продолжала леди Флеминг, – если Вашему величеству угодно, я постараюсь быть беспристрастной в описании этого человека. Патрик красив – дамы не дадут солгать, неглуп, недурно образован и искушен в общении с женским полом. Однако он лжив и порочен до мозга костей, как его мать-интриганка и бабка-прелюбодейка. Хуже того, он – закоренелый грешник и вольнодумец, что неудивительно после его скитаний и общего образа жизни… и я слыхала, мадам, что это его умение обольщать, которое столь превозносят отдельные дамы, – она метнула взор в невозмутимую Анабеллу Гордон, – не от Господа!
Повисла тяжкая пауза.
Удивительно все-таки, как они похожи: то же длинное лицо с круглым подбородком, брови вразлет, пронзительный взгляд, ехидная складка губ, только волосы у графа куда светлей и нос прямой, без горбинки – и вот за это даже больше, чем за дурную кровь его матери, Дженет Флеминг терпеть не могла Босуэлла.
– Едва ли настоящего колдуна удалось бы изгнать из страны столь легко, милая Дженет, – разрешая всеобщее неловкое молчание, молвила тут леди Гордон, кузина графа Хантли, бессовестная вдова, и черные глаза ее блеснули издевательским огоньком. – Даже покойный король, помяни Господи его душу, не выдвигал графу подобных обвинений. Грех быть такой завистливой к его красоте, особенно если вы – всего лишь двоюродная сестра Босуэлла, а не любовница… Мне граф по душе, дорогая мадам, – обратилась она к королеве, – и я не скрываю этого. Он забавен, а нам, в эти грустные дни, выпадает не так уж много солнца в холодной воде будней!