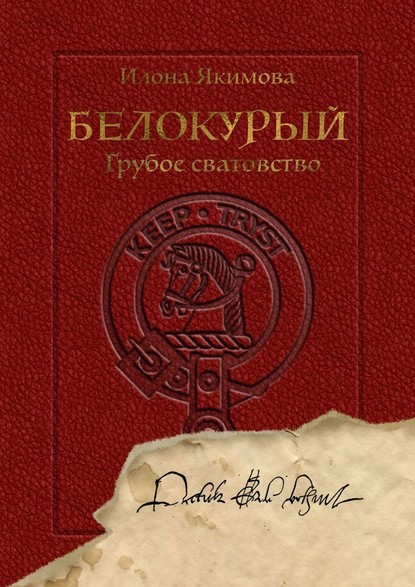По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белокурый. Грубое сватовство
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
– О чем это он? – с неприятным чувством, как от полученной угрозы, спросил Леннокс случившегося рядом Томаса Эрскина. – Про тину.
И не ошибся.
– Рейдерский жаргон, ваша милость, – отвечал тот хмуро. – Это когда людей в приграничных пилтауэрах коптят заживо.
Шотландия, Эдинбург, апрель 1543
Десять писем на юг, двенадцать на север… капает воск, растопленный на свече, течет по бумаге, пухло выплывает, застывая, из-под печатки. На печатке – английский лев. На печатке – инициалы, знакомые Генриху Тюдору именно по депешам отсюда, из мерзкой, холодной, слякотной Шотландии, населенной лживыми чертями и скользкими стервами. Ведь он же прямым текстом спросил сукина сына регента, как так получилось, что кардинал Битон, взятый от Питтендрейка, был передан Джорджу Ситону – Ситону! – женатому на любимой фрейлине французской вдовы?!
О, этот чистый взгляд Джеймса Гамильтона, графа Аррана – первого и почти всемогущего лица в государстве:
– Это не я, – искренне отвечал он. – Садлер, я тут не при чем. Это все Хантли! Я совершенно не мог противостоять ему!
– Вы, ваша светлость, денег у меня взяли, – сухо напомнил сэр Ральф. – Тысячу фунтов. За что? Чтобы кардинал остался там, где сидит, если не навечно, то надолго.
Джеймс Гамильтон, услыхав это, очень обиделся.
– Я – человек слова, мой дорогой, и терпеть ваши нелепые обвинения не намерен! Я – наследник шотландской короны, лорд-правитель и регент, а не жид какой-нибудь, для кого нет ценностей и нет чести. Из одного уважения к вашему королю я сделал столько, сколько другой не сумел бы и за десятки тысяч, даже будь они у вас… а виноват я лишь в том, что у меня есть сердце, и оно не из камня. И хватит об этом!
Так и сказал – об этом хватит. Записывая все вкратце для короля, сэр Ральф задумчиво смотрел на пляшущий огонек свечи, размышлял, вспоминал, и по итогу присовокупил к донесению: …для меня осталось загадкой, был ли он искренен. Если да, то регент – величайший болван из всех, мной когда-либо встреченных, если нет… то величайший притворщик. Впрочем, он уверенно держит в руках бразды правления, а о римском епископе высказывается в тоне, могущем вас порадовать. Библию английского перевода вижу я в доме почти у каждого благочестивого джентльмена и, если бы Вашему величеству было угодно снабдить меня достаточным количеством томов, я мог бы продать здесь столько изданий Святой книги, сколько бы мне ни прислали… таково влечение к подлинной вере среди шотландцев. Лорд-правитель также запрашивал меня, каким образом ему было бы правильней провести реформу церкви, и не согласитесь ли вы, Ваше величество, своею рукою дать ему должные наставления…
Вот он даст, Генрих Тюдор, думал Ральф Садлер уныло, и потом мне, опять мне придется объясняться с королем, не болван ли этот ваш регент. Если ведь не болван – для нас, в Лондоне, это означает крупные неприятности, но заменить его все равно некем. Ни на кого нельзя положиться, ни на кого.
Но тут человек, сидящий напротив в кресле, нагнулся над столом, спросил грубо, прямо:
– В чем дело, Садлер? Нужен я вам или нет? Какого дьявола я должен смотреть, как вы разводите чернила и сушите письмо, прежде чем соизволите ответить? Нажмите на регента – чем скорей мне вернут лордство в Долине, тем верней у вас будет доступ туда…
Он выглядел, как пустой сосуд, ожидающий заполнения – в своей алчности, в своем голоде. Еще один. Сэр Ральф откинул голову на спинку кресла и закрыл глаза, с досадой ощущая первые боли подкатывающей погодной мигрени. Еще один – лживый до мозга костей – клятый шотландец.
– Что вы можете предложить взамен, граф?
– Если я и стану предлагать что-либо, то не вам, Садлер, а королю. Для начала сами предложите мне что-либо по-настоящему стоящее.
Красивая пустышка, надменный гордец.
– То есть, как прежде, ничего… Денег я вам не дам, – сказал Садлер, с удовольствием глядя, как темная кровь заливает шею собеседника. – Вы, Босуэлл, взяли у Харвела двести фунтов и остригли Питтендрейка догола, а что мы видели с тех денег, если говорить о любезности? На Солуэе ваши стояли за Шотландию…
– А за кого им было там стоять? – бесстыдно отвечал Хепберн, не поведя и бровью, несмотря на то, что все внутри у него занималось от белой злобы. – За вас? После того, как Масгроув первым делом сложил в атаке моих людей?!
Белокурый был в бешенстве, тем более сильном, что сознавал: сейчас он для Садлера не в цене. Первый раз его так явно выставили попрошайкой, и кто? Англичанин. Один из тех, кого он так удачно водил за нос последние десять лет.
Но посол не поддержал прений.
– А после Солуэя, при дворе, вас видели то в Линлитгоу, то среди мятежников Перта… если вы желаете долгосрочного денежного соглашения, граф, одних обещаний недостаточно. Статьи? Уж мы-то с вами, граф, знаем, что платят не за слова. Сделайте хоть что-нибудь толковое, Босуэлл, для моего короля, прежде чем желать вознаграждения.
Босуэлл взвился из кресла, плащ его, совсем черный в полумраке комнаты, облекал его, словно сложенные крылья – посланца ада. Здесь искать нечего и терпение уже на исходе.
– Будь по-вашему, – молвил с коротким оскалом, – но уж не обессудьте, дорогой мой посол, что к исходу года духу вашего не будет в Шотландии… уж это-то я вам устрою – и совершенно бесплатно!
Оставшись один, сэр Ральф глубоко вздохнул, потер ноющие виски и прибавил в отчет: «что же до графа Босуэлла, который правил Лиддесдейлом, так человек это совершенно пустой, хотя и крайне тщеславный; здесь никто не принимает его в расчет…»
Крайтон, дорога от замка к церкви, Мидлотиан, Шотландия
Шотландия, Мидлотиан, Крайтон, апрель 1543
Ничего в те поры он не желал так страстно, как денег. С этой мыслью он просыпался и с нею же засыпал. Он был должен уже кругом не по одному разу – и брал снова, чтоб отдать истекший долг, чтоб взять на себя новый. Денег! Даже женское тело не вызывало в нем такого вожделения, возможно, потому, что сейчас он точно знал, какую женщину хочет. Жена в те поры видела его чаще, чем во времена до изгнания, но встречи их были лишены прежнего тепла. Раз в три-четыре дня Белокурый наведывался в Крайтон, оставался на сутки, осуществлял свое право, как ему было угодно, занимал место главы семьи за высоким столом в холле… задумчиво смотрел на сына. С подрастающим Джеймсом он тогда разговаривал чаще, чем с Агнесс, хотя глубиной эти разговоры не отличались. А Агнесс тоже молчала – ни предотвратить, ни избежать того, что надвигалось на ее покой, на ее семью, она не могла, и только одно давало ей повод для надежды – католичество, нерасторжимость уз. Хотя и об этом ходили опасные слухи, о ее муже: к исповеди он и прежде являлся нечасто, теперь же под кровом церкви его видели только по придворной надобности.
Все больше становился он похож на мужчин своей семьи. Конечно, она не знала их – ни злобного лорда-адмирала, ни великодушного графа Адама, но слышала довольно рассказов своей матери и вдовой графини Маргарет, чтобы иметь представление. Железная воля и алчное желание, для которых нет преград ни на земле, ни на небе – вот что такое Хепберны, и именно это видела она сейчас в сумрачном, опасно красивом лице мужа, в темных до черноты глазах. Пусть оно утолится, это желание, молилась тогда Агнесс, пусть оно утолится, Господи, и пусть пресытится, и пусть он вернется ко мне, не только телом, но и душой. Тем, что можно было назвать в нем душой – если кто и не верил в такое о Патрике Хепберне, то она-то точно знала, это в нем есть. Пусть он ляжет с ней, если необходимо, но пусть вернется ко мне. Ни одна из любовниц мужа до сей поры не была ей серьезной соперницей, но власть, воплощенная в лице королевы… ведь никогда прежде и не было у Патрика Хепберна такой возможности: оказаться на самой вершине посредством одного только обаяния. И Агнесс лишалась сна, пока муж бесшумно спал рядом, обнимая ее, она не хотела думать об этом.
Долгие часы до рассвета перед разлукой с любимым – пока в долине Тайна, над обрывом которой нависает могучий Крайтон, занималась заря. Когда наступит утро, она пешком отправится вдоль берега в приходскую церковь молиться о его душе, он – ко двору, чтобы дорого продать свою душу.
Шотландия, Линлитгоу, май 1543
Несмотря на лихорадочное напряжение противостояния, буквально пропитавшее воздух весны, Мари де Гиз, не намереваясь быть легкомысленной, тем не менее, создала в Линлитгоу весьма изящный двор. Музыка, танцы, карты для придворных превосходно сочетались с искренней набожностью королевы и ее пятью мессами в день. Босуэлл, помнивший Стерлинг и Эдинбург во времена Джеймса, был еще оттуда сыт по горло куртуазными развлечениями и в общих забавах участвовал мало. Складывать мадригалы дамам он умел, но посредственные, и вдобавок почитал занятие сие абсолютно бессмысленным, пел превосходно, но большей частью во хмелю и в компании мужчин, картежничать не любил, вот разве что вольта… когда бы королева могла парить в его руках в этом непредсказуемом танце… да, леди не помешало бы ощутить заранее ту телесную силу, которой в итоге предстоит подчиниться. Однако Ее величество, как благородная вдова в трауре, лишала себя подобных развлечений и даже картежничала вприглядку – смотрела, как играют другие. Подобное положение дел лишало Босуэлла обычных преимуществ в ухаживании за королевой, хотя бы в сравнении с тем же рыжим паршивцем Ленноксом, и он понимал это прекрасно. И всем ухищрениям галантного обхождения цинично противопоставлял свою мужскую привлекательность, мрачноватое обаяние белокурого Люцифера, как когда-то прозвал его покойный Джеймс.
Люцифер. Сияющий. Это подходило ему в полной мере.
Мыслима ли такая красота без порока?
Когда глядишь на него, кажется, что видишь подлинный замысел Творца, воплощенного Адама райских кущ, вышедшего из рук Господних незапятнанным, совершенным. Измученная напряжением сил в борьбе за трон, безопасность и дочь, королева отдыхала, любуясь им – и пропадала в ловушке. Духом она справлялась с искушением, однако тело порочно, слабо и отмечено болезненными, кровавыми регулами, как у всякой дочери Евы. Тело жаждет именно Адама – мужчины, господина, самца. Тело душит ее сновидениями и ночными слезами, требуя освободить соки, застоявшиеся во вдовстве, принять в себя семя первого среди равных – теперь, когда король Шотландии мертв.
Патрика Хепберна, конечно же.
Человек этот оказывал на нее совершенно неодолимое действие. Человек этот был по свойству власти, крови, рождения ее врагом. Человек этот, его лояльность, его преданность нужны были ей отчаяннейшим образом, ибо за ним стояла сила доброй половины приграничных волков. Что она могла делать в своей женской слабости? Только бороться – с искушением, симпатией, сердечной склонностью. Надо было думать о королевстве, престоле, преодолении опасности… но тело предавало. Тело отзывалось на него так, что, вместо того, чтоб упасть вечером в постель без сил, в истощении нервного напряжения, она простаивала часы на молитвенной скамье, а затем столь же долгие часы лежала без сна за пологом, и перед внутренним взором, за сомкнутыми ресницами, неслись видения, в которых она будет каяться уже следующим утром. Она никогда не приблизит Патрика Хепберна настолько, чтоб хотя бы часть этих мечтаний стала былью… это немыслимо, противоестественно и опасно, и все же… перед внутренним взором он вставал, как живой, и события минувшего дня обступали вдовую королеву, события прошедшей весны, когда он явился, словно воистину из преисподней, внезапно и неотвратимо, и предложил ей свою опасную помощь. В нем было столько лютой силы и столько мягкой покорности – но покорности только лишь перед нею, ибо с прочими Босуэлл надменен и неукротим – что его присутствие давало обманчивое ощущение безопасности, покровительства, защиты. Хотя первый человек, от которого ей на деле следовало защититься, был именно он, Патрик Хепберн.
Потому, что знала – он лжет.
Он уже писал к Тюдору о том, чтобы предать ее.
Дверь пилтаэура, Пиблшир, Шотландия
Шотландия, Средняя марка, Бранксхольм, май 1543
– Зачем ты сделал это, Уот? Понятно – я, про меня все, кому не лень, шепчутся за спиной, обличая изменником, но ты, дружище?
Строящаяся новая крепость Бранксхольм выглядела ничуть не дружелюбней прошлой, сгоревшей от Перси. С возрастом Злобный Уот все меньше – и обоснованно – доверял соседям, и дом его, некогда просто дом удачливого вора, сейчас выглядел с повышением в статусе – как дом матерого убийцы. И все-таки Босуэлл любил Уолтера Скотта, как часть своей юности, как прошлого наставника, как врага, чью вражду они перемололи в единоборстве и обратили в сообщничество, в дружбу.
– Что именно?
– Брось, только не со мной! Зачем ты писал Тюдору, что передашь ему младенца Марию? Не отпирайся, мне рассказал Хантли, ты у вдовы под подозрением.
– А ты бы не написал? – удивился Уот Вне-Закона, с удовольствием принимаясь за беспощадно перченую баранину. – Вот если бы тысяча этих английских скотов собрались поджарить тебя целеньким, как кролика, в каменном мешке Хермитейджа? Попытка не пытка, рассудил я, коли он меня купит, так крышу покрою на старой башне… которую мне ублюдок Перси еще тогда пожог. Да и любить Стюартов мне, как и тебе, ровным счетом не за что, а, Лиддесдейл?
Уже четыре года не Лиддесдейл, но Уоту это все равно, и как же ласкает слух родное слово…
Он смаковал глоток вина – жидкий виноград французских полей, не иначе; краденое вино Уолтера Скотта по-прежнему было отменным, и по-прежнему во главе стола красовалась великолепная солонка на оленьих ногах, на лапах грифонов – редкое постоянство для рейдера-сибарита, хотя порядки могли поменяться неоднократно, ведь уже третья леди Бранксхольм правила за столом. Леди Дженет, не смущаясь, носила такое глубокое декольте, что особо проворному кавалеру туда можно было нырнуть с головой, однако Злобный Уот не обращал внимания – или делал вид, что не обращает – на ее ухищрения, забавляясь супругой, как породистым, но пустячным зверьком. Белокурый, напротив, не считал даму не стоящей внимания… и когда туфелька гостеприимной леди уже не в первый раз прошлась, ласкаясь, по его сапогу под столом, он, улучив момент, с самым невозмутимым лицом встал на нее каблуком так плотно, что Дженет Битон Скотт закусила губу отнюдь не от вожделения, а Босуэлл пожалел мимолетно, что МакГиллан уже снял шпоры с его дорожных сапог. В ней было что-то вздорное и злое, и какой-то хищный ум, которого он не признавал в женщинах. Коротко извинившись, леди Бранксхольм покинула стол.
Муж проводил ее взглядом и вдруг улыбнулся Босуэллу так, словно все понял – с подкупающей сердечностью, которая и прежде вызывала в Белокуром мало доверия: