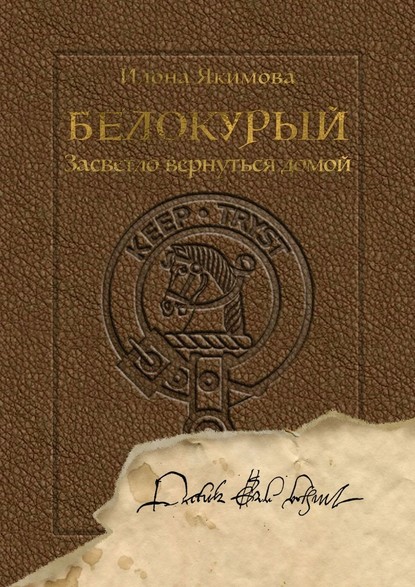По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Белокурый. Засветло вернуться домой
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Многие хотят француженку, – писал Брихин, – сравнительно с Арраном. Она ведет себя достойней любого мужчины». Что ж, это он знал – что Мари де Гиз стоит любого мужчины там, где дело идет о силе воли. «Говорят, Дуазель пробыл у Валуа три дня подряд, обсуждая условия отставки регента».
Но следующую фразу в письме Джона Хепберна он осмыслил далеко не сразу, когда же понял… удар этот был внезапен и так жесток, что перед ним померкло даже пламя сожженного Хейлса. Он был всю жизнь слишком уверен, что фортуна благосклонна к нему, и привык считать, что волшебный плащ короля холмов окутывает и близких его, ограждая от превратностей пути, от скорбей юдоли земной, от бренности плоти… и так оно до поры и было, он приносил удачу всем своим, но теперь! Теперь он ощутил себя второй раз убитым, сраженным подло, грязно, наповал. Хорошо же, что свою собственную смерть он не успеет осознать вот так же, в подробностях… красивый, ровный почерк Брихина, их фамильный герб на восковой печати, украшенный вдобавок епископской митрой. Как странно рассудок цепляется за незначительные подробности, когда не хочет верить правде!
Когда в холл, вернувшиеся с охотничьей выездки на болота, ввалились довольные братья Хоуп, хозяин дома стоял, опершись о каминную доску, и смотрел прямо перед собой, мимо листка в руке, и рука эта дрожала. Рука, которая не дрожала почти никогда, комкала письмо.
– Дурные новости, милорд?
Адам был куда чутче Патрика, что неизменно веселило Босуэлла, но только не сегодня. Сегодня проще всего было бы ответить правду: парни, умерла ваша тетка – но даже теперь он сумел удержаться от первого порыва.
– Моя сестра скончалась, лорд Хоуп…
Переминаясь с ноги на ногу, сыновья стояли перед ним с минуту, но он их не видел. Младший из близнецов, наконец, потянул брата за рукав, пошептался, они выразили соболезнование, откланялись. Граф едва заметил их уход и то, что они вообще уехали из Морпета на другой день. Он думал о Дженет Хоум Гамильтон, ныне покойной, только о ней одной.
Расставаясь, он ведь оставил ее на милость Большого Джона – а что понимал он? что мог подозревать? как обойтись с ней в итоге? Глупцом зятя не назвал бы никто. Вся жизнь, каждая их встреча с Джен проносилась у Патрика перед глазами, и в каждой находил он то, что могло бы стать смертельным для ее брака, для жизни самой, и, видит Бог, он не мог бы назвать себя непричастным и невиновным. Как же безрассудно он обходился тогда – старший брат, мужчина – с ее доверчивостью, с ее горячностью к жизни, которой не должен был поощрять, не должен был пользоваться! Те роды ее прошли благополучно, но следующие уже не пощадили ни красоты, ни молодости, ни жизни. Она и не желала часто рожать, а теперь двое родов, одни вслед за другими… «Или он может оказаться жесток со мной, станет насиловать и бить» – он уперся лбом в ставни окна, скуля гэльские ругательства, прокусывая губу до крови, чтобы не орать в голос, когда так уместно вспомнилось… она ведь выходила замуж за Джона от того только, что ожидала от него иного отношения, но кто расценит, как принуждение, то, что муж хочет свою жену, когда ее дело – покорно исполнять долг? Что увидел тогда в их прощании Большой Джон и что он узнал после, решив расквитаться с Джен таким способом? – этот вопрос Патрик Хепберн задавал себе бесчисленное множество раз и не имел ответа. Какое идеальное убийство, даже не придется идти на исповедь! Всего лишь – взять ее, когда она не хочет, ибо так заповедал Господь – плодиться и размножаться. Женщина уязвима, и более всего уязвима в родах, теперь-то он это знал слишком хорошо. Что там было? Была ли при ней годная повитуха? А лекарь? Нашли ли мэтра Ренье? Почему сложилось не так, как всегда – Джен, смеясь, говорила, что рожает, как кошка, что приходской священник ею недоволен, ибо в муках обязана производить чад… Кровь, пропитавшая насквозь сорочку и постель Марион, «Патрик, я не хочу умирать!», лукавое лицо Дженет, улыбка, прядь волос, выпавшая на лоб из-под французского чепца, «мальчишку назову в твою честь, если позволит муж»… все это мешалось в его памяти, замещалось одно другим, рвало душу в клочья, назойливо стояло перед глазами и жгло – слезами, которые просились наружу, но он стыдился и слуг, и себя самого. Обе смерти переживал заново, одну за другой – первую, в которой виновен был прямо, как он считал, и вторую, к которой причастен косвенно, тем, что пренебрег опасностью, не уберег. Две женщины, которых любил, две, которые были ближе всего его сердцу – и одна и та же участь. И это чудовищное бессилие, которое он теперь ощущал, было хуже всего, что знал в жизни Патрик Хепберн, граф Босуэлл. Или вместо удачи отныне приносит он всем своим только смерть? От этой мысли холодела спина, как если бы сам дьявол, ухмыляясь, целясь, смотрел ему в затылок сейчас… Когда Джен замолчала, он списал отсутствие вестей на превратности долгого пути – времена стояли суровые. Четыре письма ушли втуне, но, в конце концов, ей, им обоим, могли запретить писать ему – регент или королева, безразлично. Дженет, малышка Дженет, он помнил, как началась ее жизнь, и знал теперь час, когда она завершилась. Брихин писал, дитя родилось мертвым. Но писал он также и то, что вскоре после похорон старшая дочь Клидсдейла Мэгги была сговорена за сына и наследника Джорджа Дугласа Питтендрейка… собственно, это и был ему прямой ответ от Большого Джона – молчаливый, но зять всегда был немногословен. Однако ясней, что видел он и понял за эти годы, сказать невозможно.
Джен помнилась ему, как живая, в ту их последнюю встречу – смеющаяся, с темными глазами, полными ласки, азарта жить. Он почти ощущал тепло ее тела в своих объятиях – несколько мгновений, прежде, чем пережил мысль, что больше они не увидятся никогда. Легче верблюду пройти сквозь ушко игольное, чем королю холмов достигнуть врат Царства небесного. Рай для женщин, только за то, что они рожают – и та фраза его снова оказалась пророческой. За грудиной болело, и ломило виски, он чувствовал себя так, словно живот ему распорол кабан – он видел такую смерть, и она мучительна, и так, наверное, умирает женщина в родах. С севера наползала тьма скорого дождя, дом и двор стремительно погружались во мрак. В миг в ставнях завыло, ударили с градом первые капли. Патрик Хепберн из полупустого, необжитого толком, темного холла, освещенного только жаром догоравшего камина, окликнул МакГиллана и велел подать виски.
– Наутро ему будет прескверно, – сказал МакГиллан Молоту, собирая в кухне поднос с едой.
Тот только пожал плечами:
– У его милости крепкая голова.
– Но не нутро…
Оба не слыхали, чтобы его милость молился, зато слышали, как он богохульствовал – полночи, черно, смрадно, площадными словами кроя Всевышнего.
Пришел в себя спустя трое суток, сел в седло и вернулся в Лондон.
Шотландия, Стерлинг, Стерлингский замок, ноябрь 1547
Анри Клетэна слегка покачивало на твердой земле – и от усталости, и от того, что мсье Дуазель примерно на протяжении месяца покидал палубу корабля только лишь для совещаний с сильными мира сего. Когда он, наконец, добрался до Стерлинга, больше всего ему хотелось горячего вина и в постель, причем, сразу на двое суток, но француз поморщился, встряхнулся, переменил промокшее в осенней дороге платье и, сообразив на себе приятное выражение лица, двинулся к королеве-матери. Легкая походка, живой взгляд карих глаз, улыбка парижского карманника… не так уж много солнца в жизни Марии де Гиз в последние дни, так отчего бы не поддержать королеву хотя бы солнечным нравом своим? Она расцветала, когда слышала чистый выговор его речи – здесь, среди шотландцев, привыкших жевать французские слова, как вчерашний холодный порридж. А поддержать королеву требовалось, ибо дела Шотландии были куда как плохи. Проще говоря, Шотландия стояла на коленях, поверженная латной перчаткой герцога Сомерсета.
Лорд-протектор на сей раз весьма умело воспользовался временем, которое было в запасе до холодов, и результатами битвы у Пинки-Кле. Помня прежний опыт, он даже не пытался штурмовать Эдинбургский замок, но разместил войска в Эймуте, вернул в английские руки замки Хейлс и Хоум, восстановил гарнизон Роксбурга, три сотни его солдат доставлены морем на остров Инчколм, закрыть залив Ферт-о-Форт, дабы никто не прошел к Эдинбургу незамеченным. В Западной Марке английские войска размещены в Кастлмилке и Дамфрисе. Данди разрушен, Файф разорен, Киркубрайт обескровлен, весь Ист-Лотиан по сути – теперь английское графство. Сомерсет воплощал в жизнь свою старую идею, когда-то не одобренную Советом короля Генриха – взять Шотландию не единым рейдом, но охватить сетью фортов, так, как римляне некогда подчиняли себе Британские острова. В эти дни раскол пошел и между лордами Шотландии: те из них, чьи сыновья полегли у Пинки, в ярости и гневе требовали возмездия захватчикам и смещения регента, призывая поддержку французов, те же, чьи земли были уже под пятой англичан, запрашивали у правительства разрешения хоть для виду назваться «согласными», чтоб не пострадать еще больше. Тьма накрывала умы, и чувства человеческие, и родственные связи, и дружественные. Маршал Англии, барон Грей де Вилтон шел во главе английских войск с восточного направления к северу, и даже прожженный Уолтер Скотт Бранксхольм-Бокле, осажденный в своей берлоге, писал к королеве с горечью возраста и опыта: «я умоляю Ваше величество заставить правителя и лордов выступить совместно». Заставить? – думал Дуазель, проворно пересекая цветные залы Стерлинга, затаившегося на угрюмой скале – это шотландцев-то? Которые за века не научились признавать над собой ничью власть, не исключая и власти Церкви – и история с убийством Битона подтверждает это вполне? И чтобы эти черти договорились промеж собой о совместном сопротивлении англичанам? Хорошо хоть, королеве-матери удалось убедить Аррана перевезти маленькую Марию из Стерлинга в Дамбартон – не исключено, что де Гиз вновь сыграла на старой надежде регента женить на королеве своего наследника. Граф Арран тем временем, в панике, что невеста его сына достанется врагам, отбыл в Ист-Лотиан, отбивать занятые англичанами крепости, но получалось у него скверно. Вскоре противником были заняты еще и Браути, Ферри, Хаддингтон… Что ж, думал Дуазель возле самых дверей личных покоев королевы, закладывая складку плаща на плече перед тем, как младший из Монкрифов объявит его приход, возможно, хоть новые вести слегка скрасят черные дни близкой зимы для женщины, замершей сейчас на молитвенной скамье у комнатного алтаря – в трауре, с раздумьях, с сухими глазами уже отплакавшей своё Ниобеи.
То был момент, когда она совершенно пала духом. Все, что ни происходило в стране, было словно направлено Господом против нее лично – в дополнение к уже постигшим королеву бедам, и Мари де Гиз сражалась с роком из последних сил. Ей, как и всегда, было некогда плакать, требовалось действовать. А скорбеть и молиться – уже потом. Она не припоминала ни одного биения сердца в последний год, которое не было бы продиктовано чувством долга. Сбор войск, новые налоги в Парламенте, распределение средств среди лордов, спешная подготовка крепостей к вторжению врага. Удивительно, но ощущала она себя среди всех этих мужских хлопот совершенно естественно, тем более, что это не давало ей и минуты подвергнуться слабостям чисто женским – страху перед будущим и тоске по ушедшему, по тем дням и людям, коих уже не вернешь. Более всего сокрушалась она о своей женственности именно тогда – в дни перед Пинки – ведь именно ей, по силе духа, не слизняку Джеймсу Гамильтону, раз за разом ввергавшего Шотландию в пучину позора, следовало быть в седле, в доспехе, во главе войск… зато перед Тремя сословиями, уже после поражения, королева-мать говорила сама. В черном скромном платье, в черном чепце вдовы, она была скорбящая мать не только по своим детям… речь ее зажгла умы и сердца, как и то, каким жестом сняла она с себя вдовье жемчужное ожерелье, кладя его на стол:
– Я готова носить одно лишь обручальное кольцо покойного мужа моего, вашего государя, если на сопротивление врагу негде больше взять средств, кроме коронных драгоценностей Шотландии!
Воззвание к Генриху Валуа с предложением стать протектором королевства Шотландия ввиду брака между французским дофином и Марией Стюарт было принято при общем ликовании. Анри Клетэн, верный друг и помощник, торопливо поцеловал госпоже руку и отбыл в Париж, сама Мария де Гиз вернулась из Парламента в Стерлинг. О да, речь перед Тремя сословиями была полна вдохновения, но только леди Ситон и леди Флеминг видели, как рыдала она в своей спальне – от отчаяния, от страха, от одиночества, от того, что и последнее дитя придется оторвать от сердца, чтобы спасти. Вместе с одной маленькой Марией в Дамбартон и во Францию отправлялись еще четыре – дочери этих двух дам, а также лорда Ливингстона и лорда Битона. Сама же королева-мать была настолько разбита чередой несчастий, свалившихся на Шотландию в последние годы – те годы, что она была женой короля Джеймса – что робкая мысль уехать на родину вместе с дочерью посещала ее все чаще и чаще… Вот и теперь, стоя на коленях перед образом Богородицы, но глядя не на образ, но вглубь себя, королева мучительно размышляла о том же самом – бежать к уюту и покою своей прежней жизни, как вызвало в ней всё женское, или принять бой, пусть даже погибнуть, как требовало мужское? Кровь Гизов стучала в висках так, что темнело в глазах.
Дверь отворилась, королева поднялась с колен.
И еще прежде того, как грум произнес имя, она уже знала, кто это. Господь милосерд, он не оставил ее друзьями, стало быть – принять бой, облечь в кирасу непреклонности самую душу свою.
– Что ж, Его величество согласен, – молвил посол с порога, как всегда, прежде поклона спеша принести королеве-матери весть, – он принимает условия регента.
– Но теперь, друг мой, надо, чтоб регент не переменил условий! – с горечью отозвалась королева-мать.
Анри Клетэн поцеловал руку своей госпоже:
– Простите великодушно, я грязен, как черт, только с дороги, но почел долгом своим явиться сразу, чтоб хоть отчасти утешить ваше беспокойство, мадам. Бумаги мой секретарь доставит вечером.
– Вы, Дуазель, вечно выглядите, как завсегдатай придворных праздников Фонтенбло, – улыбнулась Мари де Гиз, – и еще имеете дерзость пенять на свой внешний вид! Покажитесь же при дворе хоть раз в должном, с вашей точки зрения, образе – право, я хочу на это посмотреть!
– Как будет угодно Вашему величеству, – темные глаза Клетэна смеялись, – вот только изгоним из Шотландии англичан, чтоб я смог хотя бы несколько ночей подряд провести дома, а не в пути! О, тогда, клянусь, вы увидите меня настоящим!
Леди Флеминг, на минуту задержавшись в дверях покоев королевы, вероятно, желала что-то сказать, но молча проследовала в парадную спальню, Анри Клетэн, поднимаясь с колен, поймал на себе ее долгий взор, но сам был занят сейчас королевой, не фрейлиной. Бледное лицо, тени под глазами, сухая складка губ. Улыбка проблескивает, как луч солнца в холодной воде северного моря – мелькнул и нет его. При короле Франциске они не встречались, но очаровательную живость герцогини Лонгвиль когда-то воспевали в сонетах придворные рифмоплеты – о да, она была легендой французского двора, и легендой прекрасной. А здесь… годы несчастий, сражений, бурь. Как она одинока, думал Дуазель, рассматривая Мари де Гиз – не впрямую, ибо так на королеву не смотрят люди, понимающие должное обхождение, но серией легких взглядов, направленных как бы вскользь, не могущих оскорбить. Одинока особенно теперь, когда при ней остались разве немногие верные. Граф Хантли в плену, граф Сазерленд в Нагорье, изредка появляющийся граф Аргайл – камень, на котором можно строить дом, но ты никогда не узнаешь, что у него внутри, кроме вот тех самых чудовищных белых собак, да и те – снаружи. Ситон… Ситон серьезно болен, да и здоровый-то вечно – ни себе, ни людям. Эрскин и Ливингстон, оба потерявшие сыновей при Пинки, отбывают во Францию охранителями маленькой королевы. Флеминги отправляются также, и королева лишится еще и любимой придворной дамы. Двор опустеет шотландцами, но наполнится французами – сьер Д’Эссе уже собирает войска для экспедиционного корпуса, направляющегося в Шотландию ближе к лету, но король еще не вполне решил, необходима ли французская армия в Шотландии. Однако прежде, чем тут высадятся французы, следует решить многое, дабы подготовить почву.
– Итак, что мы должны вашему государю, мсье Дуазель?
– Крепости Данбара и Дамбартона – в залог, это первое. Обручение королевы и дофина, – перечислял тот, – титул протектора королевства, с тем, чтобы все дела были переданы в его руки.
Так, мелькнуло в голове Марии, стало быть, для нее здесь места больше не станет, разве что тихая жизнь, мирная старость в Лонгвиле или у матери в Шательро. Мари де Гиз, коронованная королева Шотландии, королева-мать, возвратится к тому, с чего начиналась ее жизнь – келья в монастыре Понт-э-Мезон… зачем же, зачем дядя Антуан некогда извлек ее оттуда? Для бед жизни земной, для сонма горчайших разочарований. Старая карлица, проковыляв через комнату, ткнулась в колени королевы большой головой, зарылась лицом в бархат юбки, та погладила ее по спине, как погладила бы собачонку. Снова спросила посла:
– Но кого его Величество желает поставить во главе правительства?
– Регент будет смещен, но в любом случае, следует дожидаться совершеннолетия королевы. Конкретного лица Его величество пока не называл.
– Что в итоге он согласен дать регенту? И решили ли вы вопрос о богатой невесте для его сына, с тем, чтоб Арран наконец оставил бредовую идею женить своего отпрыска на моей дочери и согласился на французский альянс?
– Речь идет о дочери герцога Монпансье.
– Партия недурная, если сойдутся в приданом, Джеймс Гамильтон славится своей жадностью.
– Король обещал сам уладить этот вопрос. В нашу задачу входит убедить регента согласиться – в очередной раз – с тем фактом, что его бездарное правление не способствует дальнейшему нахождению у власти.
– Не способствует, мсье Дуазель, и, видит Бог, я первая соглашусь с вами, однако у графа Аррана есть одно существенное преимущество перед всеми, кого мог бы предложить в правители ваш государь… он – шотландец королевской крови. Второй такой же, равный ему, сейчас женат на племяннице покойного Генриха Тюдора и еще менее регента пригоден к подобному месту.
Это верно. Де Ноайль, французский посол в Лондоне, регулярно присылал известия о новых фантазиях графа Леннокса, по-прежнему претендующего на верховную власть в Шотландии – хотя бы во время малолетства королевы. Фантазии эти были безумными, а исполнение их – очень хлопотным по последствиям для страны, в которой Леннокс собирался главенствовать. Сейчас же граф Леннокс был одним из командующих английских войск, разоряющих Западную Марку.
– Да, мадам, выбор у нас невелик, но кто-то же должен осуществлять протекторат французского короля здесь, в Шотландии.
– Француза они не потерпят, – молвила королева-мать, даже не указывая, кого имеет в виду, нобилей только или Три сословия Парламента целиком.
– Да, мадам, – опять согласился Анри Клетэн. – Но если то будет француженка?
– Не знаю, готова ли я остаться здесь на долгий срок, – призналась королева. – Умы людей столь изменчивы, и до такой степени перешли в подозрение, что от самых близких я вижу одно только отчуждение. Будь я мужчиной, они бы подняли меня на плечах, но оттого только, что я слабая женщина…
– Будь вы мужчиной, – прямо отвечал Дуазель, – каждый из шотландцев оспаривал бы ваше главенство, пока не скинули бы, навалясь толпой, как у них в обычае вести себя что с королями, что с князьями церкви. Нынче тот час, когда именно слабая женщина не вызовет подозрений. Тем паче… вы отнюдь не слабы, мадам!
Мария подняла на него глаза, посол улыбался. Под слоем галантности в Анри Клетэне скрывалась здоровая натура парижанина – горлопана, бойца, опытного воина, авантюриста – того, кто не отступит перед любым капризом судьбы. Встать, когда тебя свалили в грязь, дать сдачи, обтереться, двигаться дальше. Подобной устойчивости не сыщешь порой у людей более благородной крови.
Королева устыдилась минутной слабости.
Англия, Лондон, Сент-Джайлс, ноябрь 1547
То были годы, когда Господь уподобил его Иову – так казалось тогда. Ибо череда потерь тянулась нескончаемо, особенно оскорбительно от того, что Патрик Хепберн ничего не мог приобрести, но только выпускал из рук. Разорение и потеря Хейлса, пусть даже он снова попал под англичан после осады Хаддингтона и мог быть возвращен – при условии полной покорности Босуэлла герцогу Сомерсету, конечно. Безденежье, равное нищете, потому что тысяча крон короля Эдуарда оставалась только цифрой на бумаге присяжных статей. Собственная продажа во дни отчаяния, и так задешево – сравнимо с чувством собственного достоинства. Смерть сестры, которую он куда переживал дольше, чем могло показаться заново прилипшим к нему в Лондоне близнецам Хоуп. Известие о том, что хранителем Долины назначен старый друг Вне-Закона, что на Караульне ставят артиллерийскую батарею – как на случай прихода англичан, так и для предупреждения возвращения законного хозяина. Бессилие, бесправие, бездействие – троица чувств, которые выклевывали его подчистую день за днем, как ту вечно отрастающую печень Прометея, и, просыпаясь каждое утро, он снова и снова возвращался на круги своя… Крайтон еще оставался во владении Хепбернов, хотя в замке находился новый комендант и гарнизон регента – во избежание бунта. Но, когда получил известие, что после долгой тяжбы дело о вдовьей части между Робертом Максвеллом, пятым лордом, и его мачехой, леди Агнесс Максвелл, решено в пользу первого и в ущерб второй, Босуэлл почти не был удивлен. «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Вступиться за мать некому, пока он в изгнании, дядья, все трое, не были для леди Агнесс кровной родней. Если каждым новым ударом судьба призывала его к покорности, то сперва добилась только ожесточения и омертвения всего живого. Но он молился, Патрик Хепберн снова начал молиться. Слова, которые едва помнил, сами слетали с губ, как падали они с губ мальчишки возле гроба прадеда – кем он был когда-то, далеко в прежней жизни, еще в чистоте души. Когда бы знать тогда, через что придется пройти, и во что обратиться, полностью осквернясь… И как? Шаг за шагом, незаметно уступая дьяволу частицу сердца в мелочах, в одном-единственном уклонении от чести, долга, милосердия, потом – в следующем, и в следующем, и снова… Молился он на латыни, но прямо с Богом разговаривал по-гэльски, как во дни юности, во дни наибольшего, черного горя, когда сходил с ума в узилище волею короля, когда умерла Марион.
Но следующую фразу в письме Джона Хепберна он осмыслил далеко не сразу, когда же понял… удар этот был внезапен и так жесток, что перед ним померкло даже пламя сожженного Хейлса. Он был всю жизнь слишком уверен, что фортуна благосклонна к нему, и привык считать, что волшебный плащ короля холмов окутывает и близких его, ограждая от превратностей пути, от скорбей юдоли земной, от бренности плоти… и так оно до поры и было, он приносил удачу всем своим, но теперь! Теперь он ощутил себя второй раз убитым, сраженным подло, грязно, наповал. Хорошо же, что свою собственную смерть он не успеет осознать вот так же, в подробностях… красивый, ровный почерк Брихина, их фамильный герб на восковой печати, украшенный вдобавок епископской митрой. Как странно рассудок цепляется за незначительные подробности, когда не хочет верить правде!
Когда в холл, вернувшиеся с охотничьей выездки на болота, ввалились довольные братья Хоуп, хозяин дома стоял, опершись о каминную доску, и смотрел прямо перед собой, мимо листка в руке, и рука эта дрожала. Рука, которая не дрожала почти никогда, комкала письмо.
– Дурные новости, милорд?
Адам был куда чутче Патрика, что неизменно веселило Босуэлла, но только не сегодня. Сегодня проще всего было бы ответить правду: парни, умерла ваша тетка – но даже теперь он сумел удержаться от первого порыва.
– Моя сестра скончалась, лорд Хоуп…
Переминаясь с ноги на ногу, сыновья стояли перед ним с минуту, но он их не видел. Младший из близнецов, наконец, потянул брата за рукав, пошептался, они выразили соболезнование, откланялись. Граф едва заметил их уход и то, что они вообще уехали из Морпета на другой день. Он думал о Дженет Хоум Гамильтон, ныне покойной, только о ней одной.
Расставаясь, он ведь оставил ее на милость Большого Джона – а что понимал он? что мог подозревать? как обойтись с ней в итоге? Глупцом зятя не назвал бы никто. Вся жизнь, каждая их встреча с Джен проносилась у Патрика перед глазами, и в каждой находил он то, что могло бы стать смертельным для ее брака, для жизни самой, и, видит Бог, он не мог бы назвать себя непричастным и невиновным. Как же безрассудно он обходился тогда – старший брат, мужчина – с ее доверчивостью, с ее горячностью к жизни, которой не должен был поощрять, не должен был пользоваться! Те роды ее прошли благополучно, но следующие уже не пощадили ни красоты, ни молодости, ни жизни. Она и не желала часто рожать, а теперь двое родов, одни вслед за другими… «Или он может оказаться жесток со мной, станет насиловать и бить» – он уперся лбом в ставни окна, скуля гэльские ругательства, прокусывая губу до крови, чтобы не орать в голос, когда так уместно вспомнилось… она ведь выходила замуж за Джона от того только, что ожидала от него иного отношения, но кто расценит, как принуждение, то, что муж хочет свою жену, когда ее дело – покорно исполнять долг? Что увидел тогда в их прощании Большой Джон и что он узнал после, решив расквитаться с Джен таким способом? – этот вопрос Патрик Хепберн задавал себе бесчисленное множество раз и не имел ответа. Какое идеальное убийство, даже не придется идти на исповедь! Всего лишь – взять ее, когда она не хочет, ибо так заповедал Господь – плодиться и размножаться. Женщина уязвима, и более всего уязвима в родах, теперь-то он это знал слишком хорошо. Что там было? Была ли при ней годная повитуха? А лекарь? Нашли ли мэтра Ренье? Почему сложилось не так, как всегда – Джен, смеясь, говорила, что рожает, как кошка, что приходской священник ею недоволен, ибо в муках обязана производить чад… Кровь, пропитавшая насквозь сорочку и постель Марион, «Патрик, я не хочу умирать!», лукавое лицо Дженет, улыбка, прядь волос, выпавшая на лоб из-под французского чепца, «мальчишку назову в твою честь, если позволит муж»… все это мешалось в его памяти, замещалось одно другим, рвало душу в клочья, назойливо стояло перед глазами и жгло – слезами, которые просились наружу, но он стыдился и слуг, и себя самого. Обе смерти переживал заново, одну за другой – первую, в которой виновен был прямо, как он считал, и вторую, к которой причастен косвенно, тем, что пренебрег опасностью, не уберег. Две женщины, которых любил, две, которые были ближе всего его сердцу – и одна и та же участь. И это чудовищное бессилие, которое он теперь ощущал, было хуже всего, что знал в жизни Патрик Хепберн, граф Босуэлл. Или вместо удачи отныне приносит он всем своим только смерть? От этой мысли холодела спина, как если бы сам дьявол, ухмыляясь, целясь, смотрел ему в затылок сейчас… Когда Джен замолчала, он списал отсутствие вестей на превратности долгого пути – времена стояли суровые. Четыре письма ушли втуне, но, в конце концов, ей, им обоим, могли запретить писать ему – регент или королева, безразлично. Дженет, малышка Дженет, он помнил, как началась ее жизнь, и знал теперь час, когда она завершилась. Брихин писал, дитя родилось мертвым. Но писал он также и то, что вскоре после похорон старшая дочь Клидсдейла Мэгги была сговорена за сына и наследника Джорджа Дугласа Питтендрейка… собственно, это и был ему прямой ответ от Большого Джона – молчаливый, но зять всегда был немногословен. Однако ясней, что видел он и понял за эти годы, сказать невозможно.
Джен помнилась ему, как живая, в ту их последнюю встречу – смеющаяся, с темными глазами, полными ласки, азарта жить. Он почти ощущал тепло ее тела в своих объятиях – несколько мгновений, прежде, чем пережил мысль, что больше они не увидятся никогда. Легче верблюду пройти сквозь ушко игольное, чем королю холмов достигнуть врат Царства небесного. Рай для женщин, только за то, что они рожают – и та фраза его снова оказалась пророческой. За грудиной болело, и ломило виски, он чувствовал себя так, словно живот ему распорол кабан – он видел такую смерть, и она мучительна, и так, наверное, умирает женщина в родах. С севера наползала тьма скорого дождя, дом и двор стремительно погружались во мрак. В миг в ставнях завыло, ударили с градом первые капли. Патрик Хепберн из полупустого, необжитого толком, темного холла, освещенного только жаром догоравшего камина, окликнул МакГиллана и велел подать виски.
– Наутро ему будет прескверно, – сказал МакГиллан Молоту, собирая в кухне поднос с едой.
Тот только пожал плечами:
– У его милости крепкая голова.
– Но не нутро…
Оба не слыхали, чтобы его милость молился, зато слышали, как он богохульствовал – полночи, черно, смрадно, площадными словами кроя Всевышнего.
Пришел в себя спустя трое суток, сел в седло и вернулся в Лондон.
Шотландия, Стерлинг, Стерлингский замок, ноябрь 1547
Анри Клетэна слегка покачивало на твердой земле – и от усталости, и от того, что мсье Дуазель примерно на протяжении месяца покидал палубу корабля только лишь для совещаний с сильными мира сего. Когда он, наконец, добрался до Стерлинга, больше всего ему хотелось горячего вина и в постель, причем, сразу на двое суток, но француз поморщился, встряхнулся, переменил промокшее в осенней дороге платье и, сообразив на себе приятное выражение лица, двинулся к королеве-матери. Легкая походка, живой взгляд карих глаз, улыбка парижского карманника… не так уж много солнца в жизни Марии де Гиз в последние дни, так отчего бы не поддержать королеву хотя бы солнечным нравом своим? Она расцветала, когда слышала чистый выговор его речи – здесь, среди шотландцев, привыкших жевать французские слова, как вчерашний холодный порридж. А поддержать королеву требовалось, ибо дела Шотландии были куда как плохи. Проще говоря, Шотландия стояла на коленях, поверженная латной перчаткой герцога Сомерсета.
Лорд-протектор на сей раз весьма умело воспользовался временем, которое было в запасе до холодов, и результатами битвы у Пинки-Кле. Помня прежний опыт, он даже не пытался штурмовать Эдинбургский замок, но разместил войска в Эймуте, вернул в английские руки замки Хейлс и Хоум, восстановил гарнизон Роксбурга, три сотни его солдат доставлены морем на остров Инчколм, закрыть залив Ферт-о-Форт, дабы никто не прошел к Эдинбургу незамеченным. В Западной Марке английские войска размещены в Кастлмилке и Дамфрисе. Данди разрушен, Файф разорен, Киркубрайт обескровлен, весь Ист-Лотиан по сути – теперь английское графство. Сомерсет воплощал в жизнь свою старую идею, когда-то не одобренную Советом короля Генриха – взять Шотландию не единым рейдом, но охватить сетью фортов, так, как римляне некогда подчиняли себе Британские острова. В эти дни раскол пошел и между лордами Шотландии: те из них, чьи сыновья полегли у Пинки, в ярости и гневе требовали возмездия захватчикам и смещения регента, призывая поддержку французов, те же, чьи земли были уже под пятой англичан, запрашивали у правительства разрешения хоть для виду назваться «согласными», чтоб не пострадать еще больше. Тьма накрывала умы, и чувства человеческие, и родственные связи, и дружественные. Маршал Англии, барон Грей де Вилтон шел во главе английских войск с восточного направления к северу, и даже прожженный Уолтер Скотт Бранксхольм-Бокле, осажденный в своей берлоге, писал к королеве с горечью возраста и опыта: «я умоляю Ваше величество заставить правителя и лордов выступить совместно». Заставить? – думал Дуазель, проворно пересекая цветные залы Стерлинга, затаившегося на угрюмой скале – это шотландцев-то? Которые за века не научились признавать над собой ничью власть, не исключая и власти Церкви – и история с убийством Битона подтверждает это вполне? И чтобы эти черти договорились промеж собой о совместном сопротивлении англичанам? Хорошо хоть, королеве-матери удалось убедить Аррана перевезти маленькую Марию из Стерлинга в Дамбартон – не исключено, что де Гиз вновь сыграла на старой надежде регента женить на королеве своего наследника. Граф Арран тем временем, в панике, что невеста его сына достанется врагам, отбыл в Ист-Лотиан, отбивать занятые англичанами крепости, но получалось у него скверно. Вскоре противником были заняты еще и Браути, Ферри, Хаддингтон… Что ж, думал Дуазель возле самых дверей личных покоев королевы, закладывая складку плаща на плече перед тем, как младший из Монкрифов объявит его приход, возможно, хоть новые вести слегка скрасят черные дни близкой зимы для женщины, замершей сейчас на молитвенной скамье у комнатного алтаря – в трауре, с раздумьях, с сухими глазами уже отплакавшей своё Ниобеи.
То был момент, когда она совершенно пала духом. Все, что ни происходило в стране, было словно направлено Господом против нее лично – в дополнение к уже постигшим королеву бедам, и Мари де Гиз сражалась с роком из последних сил. Ей, как и всегда, было некогда плакать, требовалось действовать. А скорбеть и молиться – уже потом. Она не припоминала ни одного биения сердца в последний год, которое не было бы продиктовано чувством долга. Сбор войск, новые налоги в Парламенте, распределение средств среди лордов, спешная подготовка крепостей к вторжению врага. Удивительно, но ощущала она себя среди всех этих мужских хлопот совершенно естественно, тем более, что это не давало ей и минуты подвергнуться слабостям чисто женским – страху перед будущим и тоске по ушедшему, по тем дням и людям, коих уже не вернешь. Более всего сокрушалась она о своей женственности именно тогда – в дни перед Пинки – ведь именно ей, по силе духа, не слизняку Джеймсу Гамильтону, раз за разом ввергавшего Шотландию в пучину позора, следовало быть в седле, в доспехе, во главе войск… зато перед Тремя сословиями, уже после поражения, королева-мать говорила сама. В черном скромном платье, в черном чепце вдовы, она была скорбящая мать не только по своим детям… речь ее зажгла умы и сердца, как и то, каким жестом сняла она с себя вдовье жемчужное ожерелье, кладя его на стол:
– Я готова носить одно лишь обручальное кольцо покойного мужа моего, вашего государя, если на сопротивление врагу негде больше взять средств, кроме коронных драгоценностей Шотландии!
Воззвание к Генриху Валуа с предложением стать протектором королевства Шотландия ввиду брака между французским дофином и Марией Стюарт было принято при общем ликовании. Анри Клетэн, верный друг и помощник, торопливо поцеловал госпоже руку и отбыл в Париж, сама Мария де Гиз вернулась из Парламента в Стерлинг. О да, речь перед Тремя сословиями была полна вдохновения, но только леди Ситон и леди Флеминг видели, как рыдала она в своей спальне – от отчаяния, от страха, от одиночества, от того, что и последнее дитя придется оторвать от сердца, чтобы спасти. Вместе с одной маленькой Марией в Дамбартон и во Францию отправлялись еще четыре – дочери этих двух дам, а также лорда Ливингстона и лорда Битона. Сама же королева-мать была настолько разбита чередой несчастий, свалившихся на Шотландию в последние годы – те годы, что она была женой короля Джеймса – что робкая мысль уехать на родину вместе с дочерью посещала ее все чаще и чаще… Вот и теперь, стоя на коленях перед образом Богородицы, но глядя не на образ, но вглубь себя, королева мучительно размышляла о том же самом – бежать к уюту и покою своей прежней жизни, как вызвало в ней всё женское, или принять бой, пусть даже погибнуть, как требовало мужское? Кровь Гизов стучала в висках так, что темнело в глазах.
Дверь отворилась, королева поднялась с колен.
И еще прежде того, как грум произнес имя, она уже знала, кто это. Господь милосерд, он не оставил ее друзьями, стало быть – принять бой, облечь в кирасу непреклонности самую душу свою.
– Что ж, Его величество согласен, – молвил посол с порога, как всегда, прежде поклона спеша принести королеве-матери весть, – он принимает условия регента.
– Но теперь, друг мой, надо, чтоб регент не переменил условий! – с горечью отозвалась королева-мать.
Анри Клетэн поцеловал руку своей госпоже:
– Простите великодушно, я грязен, как черт, только с дороги, но почел долгом своим явиться сразу, чтоб хоть отчасти утешить ваше беспокойство, мадам. Бумаги мой секретарь доставит вечером.
– Вы, Дуазель, вечно выглядите, как завсегдатай придворных праздников Фонтенбло, – улыбнулась Мари де Гиз, – и еще имеете дерзость пенять на свой внешний вид! Покажитесь же при дворе хоть раз в должном, с вашей точки зрения, образе – право, я хочу на это посмотреть!
– Как будет угодно Вашему величеству, – темные глаза Клетэна смеялись, – вот только изгоним из Шотландии англичан, чтоб я смог хотя бы несколько ночей подряд провести дома, а не в пути! О, тогда, клянусь, вы увидите меня настоящим!
Леди Флеминг, на минуту задержавшись в дверях покоев королевы, вероятно, желала что-то сказать, но молча проследовала в парадную спальню, Анри Клетэн, поднимаясь с колен, поймал на себе ее долгий взор, но сам был занят сейчас королевой, не фрейлиной. Бледное лицо, тени под глазами, сухая складка губ. Улыбка проблескивает, как луч солнца в холодной воде северного моря – мелькнул и нет его. При короле Франциске они не встречались, но очаровательную живость герцогини Лонгвиль когда-то воспевали в сонетах придворные рифмоплеты – о да, она была легендой французского двора, и легендой прекрасной. А здесь… годы несчастий, сражений, бурь. Как она одинока, думал Дуазель, рассматривая Мари де Гиз – не впрямую, ибо так на королеву не смотрят люди, понимающие должное обхождение, но серией легких взглядов, направленных как бы вскользь, не могущих оскорбить. Одинока особенно теперь, когда при ней остались разве немногие верные. Граф Хантли в плену, граф Сазерленд в Нагорье, изредка появляющийся граф Аргайл – камень, на котором можно строить дом, но ты никогда не узнаешь, что у него внутри, кроме вот тех самых чудовищных белых собак, да и те – снаружи. Ситон… Ситон серьезно болен, да и здоровый-то вечно – ни себе, ни людям. Эрскин и Ливингстон, оба потерявшие сыновей при Пинки, отбывают во Францию охранителями маленькой королевы. Флеминги отправляются также, и королева лишится еще и любимой придворной дамы. Двор опустеет шотландцами, но наполнится французами – сьер Д’Эссе уже собирает войска для экспедиционного корпуса, направляющегося в Шотландию ближе к лету, но король еще не вполне решил, необходима ли французская армия в Шотландии. Однако прежде, чем тут высадятся французы, следует решить многое, дабы подготовить почву.
– Итак, что мы должны вашему государю, мсье Дуазель?
– Крепости Данбара и Дамбартона – в залог, это первое. Обручение королевы и дофина, – перечислял тот, – титул протектора королевства, с тем, чтобы все дела были переданы в его руки.
Так, мелькнуло в голове Марии, стало быть, для нее здесь места больше не станет, разве что тихая жизнь, мирная старость в Лонгвиле или у матери в Шательро. Мари де Гиз, коронованная королева Шотландии, королева-мать, возвратится к тому, с чего начиналась ее жизнь – келья в монастыре Понт-э-Мезон… зачем же, зачем дядя Антуан некогда извлек ее оттуда? Для бед жизни земной, для сонма горчайших разочарований. Старая карлица, проковыляв через комнату, ткнулась в колени королевы большой головой, зарылась лицом в бархат юбки, та погладила ее по спине, как погладила бы собачонку. Снова спросила посла:
– Но кого его Величество желает поставить во главе правительства?
– Регент будет смещен, но в любом случае, следует дожидаться совершеннолетия королевы. Конкретного лица Его величество пока не называл.
– Что в итоге он согласен дать регенту? И решили ли вы вопрос о богатой невесте для его сына, с тем, чтоб Арран наконец оставил бредовую идею женить своего отпрыска на моей дочери и согласился на французский альянс?
– Речь идет о дочери герцога Монпансье.
– Партия недурная, если сойдутся в приданом, Джеймс Гамильтон славится своей жадностью.
– Король обещал сам уладить этот вопрос. В нашу задачу входит убедить регента согласиться – в очередной раз – с тем фактом, что его бездарное правление не способствует дальнейшему нахождению у власти.
– Не способствует, мсье Дуазель, и, видит Бог, я первая соглашусь с вами, однако у графа Аррана есть одно существенное преимущество перед всеми, кого мог бы предложить в правители ваш государь… он – шотландец королевской крови. Второй такой же, равный ему, сейчас женат на племяннице покойного Генриха Тюдора и еще менее регента пригоден к подобному месту.
Это верно. Де Ноайль, французский посол в Лондоне, регулярно присылал известия о новых фантазиях графа Леннокса, по-прежнему претендующего на верховную власть в Шотландии – хотя бы во время малолетства королевы. Фантазии эти были безумными, а исполнение их – очень хлопотным по последствиям для страны, в которой Леннокс собирался главенствовать. Сейчас же граф Леннокс был одним из командующих английских войск, разоряющих Западную Марку.
– Да, мадам, выбор у нас невелик, но кто-то же должен осуществлять протекторат французского короля здесь, в Шотландии.
– Француза они не потерпят, – молвила королева-мать, даже не указывая, кого имеет в виду, нобилей только или Три сословия Парламента целиком.
– Да, мадам, – опять согласился Анри Клетэн. – Но если то будет француженка?
– Не знаю, готова ли я остаться здесь на долгий срок, – призналась королева. – Умы людей столь изменчивы, и до такой степени перешли в подозрение, что от самых близких я вижу одно только отчуждение. Будь я мужчиной, они бы подняли меня на плечах, но оттого только, что я слабая женщина…
– Будь вы мужчиной, – прямо отвечал Дуазель, – каждый из шотландцев оспаривал бы ваше главенство, пока не скинули бы, навалясь толпой, как у них в обычае вести себя что с королями, что с князьями церкви. Нынче тот час, когда именно слабая женщина не вызовет подозрений. Тем паче… вы отнюдь не слабы, мадам!
Мария подняла на него глаза, посол улыбался. Под слоем галантности в Анри Клетэне скрывалась здоровая натура парижанина – горлопана, бойца, опытного воина, авантюриста – того, кто не отступит перед любым капризом судьбы. Встать, когда тебя свалили в грязь, дать сдачи, обтереться, двигаться дальше. Подобной устойчивости не сыщешь порой у людей более благородной крови.
Королева устыдилась минутной слабости.
Англия, Лондон, Сент-Джайлс, ноябрь 1547
То были годы, когда Господь уподобил его Иову – так казалось тогда. Ибо череда потерь тянулась нескончаемо, особенно оскорбительно от того, что Патрик Хепберн ничего не мог приобрести, но только выпускал из рук. Разорение и потеря Хейлса, пусть даже он снова попал под англичан после осады Хаддингтона и мог быть возвращен – при условии полной покорности Босуэлла герцогу Сомерсету, конечно. Безденежье, равное нищете, потому что тысяча крон короля Эдуарда оставалась только цифрой на бумаге присяжных статей. Собственная продажа во дни отчаяния, и так задешево – сравнимо с чувством собственного достоинства. Смерть сестры, которую он куда переживал дольше, чем могло показаться заново прилипшим к нему в Лондоне близнецам Хоуп. Известие о том, что хранителем Долины назначен старый друг Вне-Закона, что на Караульне ставят артиллерийскую батарею – как на случай прихода англичан, так и для предупреждения возвращения законного хозяина. Бессилие, бесправие, бездействие – троица чувств, которые выклевывали его подчистую день за днем, как ту вечно отрастающую печень Прометея, и, просыпаясь каждое утро, он снова и снова возвращался на круги своя… Крайтон еще оставался во владении Хепбернов, хотя в замке находился новый комендант и гарнизон регента – во избежание бунта. Но, когда получил известие, что после долгой тяжбы дело о вдовьей части между Робертом Максвеллом, пятым лордом, и его мачехой, леди Агнесс Максвелл, решено в пользу первого и в ущерб второй, Босуэлл почти не был удивлен. «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною». Вступиться за мать некому, пока он в изгнании, дядья, все трое, не были для леди Агнесс кровной родней. Если каждым новым ударом судьба призывала его к покорности, то сперва добилась только ожесточения и омертвения всего живого. Но он молился, Патрик Хепберн снова начал молиться. Слова, которые едва помнил, сами слетали с губ, как падали они с губ мальчишки возле гроба прадеда – кем он был когда-то, далеко в прежней жизни, еще в чистоте души. Когда бы знать тогда, через что придется пройти, и во что обратиться, полностью осквернясь… И как? Шаг за шагом, незаметно уступая дьяволу частицу сердца в мелочах, в одном-единственном уклонении от чести, долга, милосердия, потом – в следующем, и в следующем, и снова… Молился он на латыни, но прямо с Богом разговаривал по-гэльски, как во дни юности, во дни наибольшего, черного горя, когда сходил с ума в узилище волею короля, когда умерла Марион.