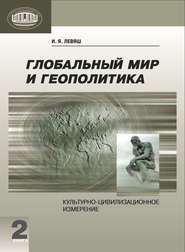По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Глобальный мир и геополитика. Культурно-цивилизационное измерение. Книга 1
Автор
Жанр
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Насколько такая модель соответствует реальности? Почему в этой модели есть все – системы, константы, темпы и т. п., кроме самого человека? Есть смысл в верификации модели методом «эскиза к портрету», хотя бы в кратком историческом очерке Модерна.
В отличие от обществ Архэ и Большой Традиции, культурно-цивилизационный тип, сформировавшийся под кроной европейского Просвещения, изначально обозначался как Modern – Современность (modernity – современный), или общество Модерна. Смыслообразующее ядро Модерна, как идеального Проекта, было новым витком эволюции абстрактного гуманизма. Его пионерам, говоря словами Фауста, представлялось, что «мир не был до меня и создан мной» [Гете, 1974, с. 256]. Они ставили благородные цели освобождения человека от «идолов» средневековой догматики и опоэтизировали его в образе «мыслящего тростника» (Б. Паскаль). Картезианское «Еrgo cogito sum» («Я мыслю, значит я существую») стало визитной карточкой нового человека, а бэконовское «Знание – сила» – его архимедовым рычагом. Гегель наделил Знание культуртворческим смыслом, усматривая его, с одной стороны, в «работе высшего освобождения» как выработке всеобщих значений и смыслов, а с другой – в их практическом освоении как «культурной субъективности» неизвестного доселе «царства Разума».
Бремя программной и технологической реализации этого Проекта взяла на себя общепризнанная жрица Разума – наука. Она создала совершенно новую картину мироздания, обрела статус престижного социального института и превратилась в непосредственную, хотя и частичную, производительную силу. Интегральным результатом этой кардинальной трансформации стало индустриальное общество (капиталистическое в его конкретно-историческом, но не в сущностном определении).
Новый, индустриальный тип деятельности возник, сформировался и созрел как исторический продукт переоценки и кардинального преобразования базовых взаимосвязей человека с природой, человека с человеком и, как оказалось не в последнюю очередь, человека к самому себе.
Большая Традиция предполагала лишь модификации основного – орудийного – принципа взаимосвязи человека труда с природой. Труд был двухзвенным, как непосредственная связь его субъекта с предметом, и простым, по преимуществу физическим. Серия технических переворотов взорвала эту традицию. Машина – это вещное «свое-другое», воплощенная универсалия механицистского Разума. Машина как трехзвенная система (машина-двигатель, передаточный механизм и так называемая «рабочая» машина), – принципиальная возможность массового производства, и она потребовала, с одной стороны, свободного капитала для его расширенного воспроизводства, с другой – наемного труда, освобожденного от пут личной зависимости. Такова двуединая предпосылка капиталистического производства. Возникшее как один из укладов феодализма, оно становится господствующим способом производства, во-первых, как система машин – индустрия, определяющая облик производительных сил общества, во-вторых, как свободное, экс-территориальное и динамичное движение капитала и рабочей силы.
В этом, в конечном счете, и заключалось назначение буржуазных революций в трансформации производительных сил. Как заметил Жорес, первым событием политической революции во Франции был не штурм Бастилии в 1789 году, а изобретение машины Аркрайта в 1768 году. Цель была достигнута в органическом синтезе политической и промышленной революций. Это полный переворот не только в материальном смысле, но и в производстве общественного богатства, и его создатель – уже не традиционный человек. Нормативная деятельность индустриального человека в «царстве Разума» основана на трех основополагающих принципах – рационализма, редукционизма и эволюционизма.
В культур-антропологическом смысле произошла смена смысложизненной парадигмы, в символической лексике Ф. Достоевского, – от Богочеловека к человекобогу, и «в этом, – подчеркивал мыслитель, – вся разница». Человек дерзал на практике быть «мерой всех вещей», и идеал прогресса во имя гуманизма быстро обрел наполеоновскую формулу «Прогресс выше гуманизма». Фаустовская претензия на всемогущество, абсолютно безотносительная, «безосновная» (Ж.-П. Сартр) к природным и социальным связям, свобода позволила до основания разрушить храм средневековых авторитетов – от «естественных», органицистских технологий и социальных институтов до ментальности и идеологических систем – и создать новое пространство, названное Г. В. Лейбницем «наисовершеннейшим из возможных миров». Для современников «бури и натиска» это была гармония, не только утверждаемая разумом человека, но и, напоминая недавний идеологический штамп, «для человека».
«Крестные отцы» Модерна исходили из презумции непорочности Разума. Он не мог быть неразумным, как девственность – грехопадением (хотя и, отрекаясь от себя, мог им стать, но это уже другая тема). Первопроходцы еще не могли знать, что в новом «прекрасном мире» Знание – амбивалентная сила, способная служить не только добру, но и злу. Тайна этого парадокса – не в самом Разуме. Блестящий марксовский афоризм: «Разум бывает всегда, но не всегда в разумной форме» – парадокс социально детерминированной формы и назначения, а не сути Разума. Рациональность – триумф механицизма в постижении законов устройства мира, но они – только скелет мироздания, мира человека. Их знание способно осваивать и конструировать лишь линейные взаимосвязи и структуры, воспроизводить жесткую механическую определенность. Деятельное движение в русле такой эволюции – цель линейного Прогресса, а ее достижение – «конец истории».
Беда апологетов Разума, что они пренебрегли мудростью Екклезиаста: «Кто умножает знание, умножает скорбь». Уже Гете устами Мефистофеля констатировал: «Божок вселенной, человек таков, // каким и был он испокон веков. // Он лучше б жил чуть-чуть, не озари // его ты божьей искрой изнутри. // Он эту искру разумом зовет // и с этой искрой скот скотом живёт» [Т. 2, с. 16].
Характерные признаки этого общества известны. Прежде всего – неограниченное господство homo technologicus над природой и вместе с тем технологический и ментальный разрыв с ней; здесь материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы, «вещи» (Маркс). Человек становится придатком машины и социальным «ролевиком». Это идеократическое общество – воплощение идеи английского мыслителя конца XVIII в. И. Бентама о «Паноптикуме», изложенной в книге «Око власти». Ее опорные принципы – «прозрачность», всезаметность, всенадзорность, «цель которой – не отношение суверенитета, но дисциплинарные связи» (Юм).
М. Фуко знакомит нас с символическими контурами этого «Колумбова яйца в политическом строе». Посреди кругообразного здания находится башня с широкими, выходящими во внутреннюю сторону кольца, окнами. По краю строение разбито на камеры по два окна в каждой: одно – вовнутрь окошек башни, другое – на внешнюю сторону для освещения. Такое строение позволяет надзирающему неусыпно наблюдать практически за всеми запертыми в камерах узниками. Фуко подчеркивает, что именно продуманная политика пространства, его двойная детерминация политическими технологиями и инженерными практиками стала idefix вездесущего «Ока власти».
Мнящий себя всемогущим, линеарный Разум под знаменами прогресса и гуманизма устремился к экспансии в бесконечное многообразие далеко не линейных связей с природой и людьми. Это было тотальным нарушением греческого табу меры, «пожар безмерности» [Камю, 1992].
Во многом бессознательная «неразумность» и претенциозная «безмерность» Разума обесценили возможности его реализации и, в конечном счете, оказались катастрофными в контексте двух мировых войн XX в. как смертельного недуга индустриализма – его жестко центрированной, тоталитарной интенции к самоутверждению как Центра мира, неограниченного господства над ним.
С позиций изначального гуманистического Проекта такое общество невозможно назвать разумным. Уже Гете ввел понятие «просвещенный век» в иронический, мефистофельский контекст. Наш «просвещенный» век уже не только знает, но и в достаточной мере выстрадал экзистенциальную цену своемерия и отчуждения человека. Если я только мыслю как homo sapiens, это еще не значит, что я существую как целостный человек. Действительно могучая человеческая мысль воплотилась в сколь впечатляющие, столь же и катастрофные или катастрофогенные глобальные проекты. Тоталитарные «мегамашины» – и те, которые рухнули, и те, которые зреют, – свидетельствуют об опасных пределах «разумной» редукции человека и социума к машине. В глобальной реализации воли к власти над миром Разум не замечает, что солженицынский «образованец» и мудрый человек – совершенно разные и, в определенных обстоятельствах, противоположные субстанции.
В конечном счете, взвесив основные pro и contra Модерна в пределах смыслообразующей триады культурности, цивилизованности и варваризации человеческой деятельности, можно утверждать, что эта эпоха, во-первых, кардинальный прорыв в мобилизации творческих способностей человека, обновлении его сущности; во-вторых, по своим результатам это реализация замысла созидания неизвестных ранее форм общественных отношений и структур индустриального общества и вместе с тем, в-третьих, абсолютизация выработанных принципов, структур и технологий, их деструктивная роль генератора несвободы, отчуждения и варваризации человека и его мира.
Отсюда – классические резюме. Уже Гете проницательно заметил: «Как будто бредят все освобожденьем, // а вечный спор их, говоря точней, – // порабощенья спор с порабощеньем» [Т. 2, с. 263]. Достойна скрижалей формула Достоевского: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» [Т. 10, с. 311]. «Самый процесс новой истории был понят как освобождение, – писал Бердяев. – Но от чего освобождение и для чего освобождение? Освобождение от старых, принудительных теократий… Свобода духа есть неотъемлемое и вечное достижение. Но для чего, во имя чего должно было совершиться освобождение? Этого не знает дух нового времени. Он не имел и не знал своего в о и м я. Во имя человека, во имя гуманизма, во имя свободы и счастья человеческого. Но тут, – констатировал философ, – нет никакого ответа» [1994, т. 1, с. 416].
В конечном счете, отмечает З. Бауман, «избранная модернити стратегия… потерпела неудачу прежде всего из-за ее консервативного, запретительного воздействия, которое противоречило другим, внутренне динамичным аспектам Нового времени – постоянным «новым началам» и «творческому разрушению» как образу жизни. «Стабильное», или сбалансированное состояние, состояние «равновесия», состояние полного удовлетворения всех (предположительно неизменных) человеческих потребностей – это идеальное для человечества…» [2002, с. 84, 85].
Гранзиозную неудачу модернистского Проекта констатирует и Валлерстайн. Вопреки тем, кто утверждает, «что мы достигли конца эпохи модернити, что современный мир переживает завершающий кризис и что скоро мы окажемся в мире, который больше будет походить на четырнадцатый век, чем на двадцатый, наиболее пессимистично настроенные среди нас предвидят вероятность того, что миро-хозяйственную инфраструктуру, в которую было вложено пять столетий труда и капитала, ждет судьба римских акведуков» [2003, с. 163–164].
Под этим углом зрения сомнительно определение такого конкретно-исторического состояния как завершенного Модерна. Скорее это Проект-обещание зрелости, чем его выполнение, «незавершенный проект» [Хабермас, 2003, 2005]. Если изложенный (поневоле краткий) очерк эпохи Модерна адекватен его смыслообразующему ядру, то приходится констатировать, что современный этап эволюции человечества принципиально не вышел из триединой системы координат, заданной Модерном, – его рационализма, редукционизма и преформистского эволюционизма. Тем не менее, триединая сущность Модерна претерпела такую эволюцию, которая дает основание для ее определения как зрелой стадии – неомодерна.
Перефразируя классика, следует признать, что «слухи» о Модерне как абсолютном «царстве Разума» или его конце в равной мере «сильно преувеличены». Бердяев недооценил, что «исторически сложившийся капитализм – и как способ производства, и как миросистема, и как цивилизация – вполне доказал свою изобретательность, гибкость и выносливость. Не следует недооценивать его способности защищаться» [Валлерстайн, 2003, с. 34].
«Последний довод» неомодерна, его способности не только воспроизводить себя, но и существенно трансформироваться в стремлении обеспечить себе «долгая лета», заключается в опоре на объективный по своему характеру и по сути инновационный процесс, который выражается полисемантическим термином «глобализация».
1.2. По ту сторону Модерна
«Ну что ты вынесла на рынок? // Ведь это заваль, старина! // Нет у тебя, кума, новинок? // Теперь иные времена»
И. В. Гете
«Мефистофель: Свершим мифологический подлог»
И. В. Гете
Софокл «впрягает миф в ярмо…»
Ф.Ницше
В богатейшем арсенале средств защиты/нападения общества Модерна все более заметна его способность к созданию мифологем.
Необходимо сразу уточнить, что речь идет не о классическом мифе или его постклассических ипостасях в формах ностальгии об утраченном «рае», а именно о мифологеме – продукте более или менее «чистой» рефлексии, но неизменно сознательной идеологической конструкции, в которой миф целенаправленно используется для заинтересованного обоснования квазиукорененного, архетипического характера определенных идей, отношений и структур. Эта проблематика заслуживает специального рассмотрения, и здесь приходится ограничиться критерием, который позволяет различать «Божий дар и яичницу» – миф и мифологему [Левяш, Базовые…, 2011; он же, Культурология, 2004] Этот критерий – отношение к творчеству. Миф – всегда самоцельно-бескорыстное, стихийное и синкретическое творчество, а мифологема – «целерациональное» (Вебер), функционально-расчетливое, осознанное и специализированное «производство».
Миф так же относится к мифологеме, как человек из материнского чрева – к гомункулюсу из пробирки. Разумеется, миф это творчество, также не лишенное моментов «производства» (технологий, структур), но мифологемное «производство» – всегда квази-творчество, независимое от клятв его апологетов в «души прекрасных порывах». Символично, что первое дело о смерти Гитлера называлось «Миф», а второе, более позднее – просто «Архив». Тем не менее ныне мифологемы – едва ли не всеобщий суррогат «духа эпохи», и у этого типа производства вполне респектабельные, возможно, решающие позиции в «просвещенный век» господства информации/дезинформации практически во всех сферах сознания.
1.3. Постиндустриальное общество
«Это не будет эпоха, которую можно будет обозначить как «пост» – нечто»
Л. Туроу
«Германия является чисто индустриальной страной, и решения там принимаются на основе индустриальных принципов»
А. Турен
«Нужно строить развитое индустриальное общество, которое одно и является предпосылкой постиндустриального»
В. Иноземцев
С позиций дифференцированного подхода к мифу и мифологеме достаточно прозрачны модели «общества всеобщего благоденствия», «посткапиталистического» (П. Дракер) или «технотронного» общества (З. Бжезинский), «третьей волны» (А. Тоффлер) и т. п. Среди них наиболее влиятельной оказалась концепция постиндустриального общества [Левяш, 2001]. В развернутом виде эта концепция представлена в книге американского социокультуролога Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» (1973), и почти в неизменной редакции она переиздана русским изданием (1999) с обширным авторским предисловием. Однако произошло поистине чудесное превращение идеи «постиндустриального» общества не в один из возможных прогнозов, о чем свидетельствует уже название книги Белла, а в свершающуюся, если уже не свершившуюся, реальность.
Чем объяснить такую метаморфозу? Строго говоря, если под концепцией разуметь не просто идею, а систематизированное теоретическое моделирование сущности, закономерностей и тенденций определенной реальности, то «общественное мнение» в условиях идейного дефицита нашего времени взыскует не концептуальной основательности, прежде всего – соответствия реальности, а гипнотической идеи, в которой главное – не прозаическое сущее, а привлекательное должное, новый Град.
Пик популярности постидустриальной идеи Белла пришелся как раз на 70–80 гг. – период технократической эйфории и социальной динамики Запада, с одной стороны, и дискредитации марксистской методологии в тупике и распаде коммунистической системы – с другой. Согласно Беллу, «речь идет о концепции типа «как будто»… это плод моего воображения, логическая модель того, что могло бы быть, модель, с которой социальная реальность будущего сопоставляется, чтобы выявить факторы, которые в состоянии направить развитие общества по иному пути» [1999, с. 86]. Здесь не модель сопоставляется с реальностью, а наоборот, и это реальность будущего, т. е. фантом, который пока вовсе не достоверен. Но, оказывается, речь идет даже не о реальности, а о реальностях, поскольку автор предлагает «разъединить» общественные отношения и технологии, рассматривая их «как независимые исторические переменные. Так, по «оси» общественных отношений можно мысленно расположить рабовладельческий, феодальный и капиталистический строи (так в тексте – И. Л.), выделенные на основе общественных отношений, а по технологической «оси» – доиндустриальное, индустриальное и постидустриальное общества» [Там же, с. 94–98]. Но в таком ракурсе исчезает сам предмет обсуждения – общество, в том числе и постиндустриальное, как определенная целостность, и дело сводится лишь к версии его различных самодостаточных сегментов.
Нетривиальность и эвристическая ценность концепции Белла должна быть выверена как по степени соответствия парадигме состояния знания о перспективах общества, так и соответствия реалиям современности.
В первом ракурсе значима позиция ведущих мыслителей Запада. В центре обсуждения стоял вопрос В. Иноземцева: «Можно ли определить складывающийся сегодня в западных странах порядок в позитивных терминах, или же следует и далее пользоваться определениями, основанными на применении префикса «пост?». С точки зрения Л. Туроу, «сегодня у нас нет названия для этого нового этапа развития. Но это не будет эпоха, которую можно будет обозначить как «пост» – нечто. Это будет эпоха новых возможностей». М. Голдман определенно заявил, что «употребление термина «пост» стало неким анахронизмом… Я не думаю, что мы действительно находимся в постиндустриальной эре. Причиной является то, что промышленное производство не только остается весьма значимым, но и в определенной степени становится даже более важным, чем когда бы то ни было ранее, хотя технологические основы его и меняются… даже производство программного обеспечения… остается одной из отраслей промышленности». Ф. Фукуяма также полагал, что «мы не сможем найти позитивного обозначения, описывающего эру, в которой мы живем, вплоть до той поры, пока данное общество не будет замещено последующим». И в духе своей известной концепции «конца истории» завершил: «До этого момента мы можем… называть его постисторическим». Лишь Дж. Гэлбрейт дополнил свою теорию «единого индустриального общества» «в позитивных терминах. Таковыми… являются преодоление воинствующего национализма… глобальный характер современной экономической и культурной жизни» [МЭиМО, 1998, № 11, с. 7].
Абстрагируясь от оттенков, все опрошенные отрицательно ответили на возможность содержательно сформулировать смысл префикса «пост», поскольку, в отличие от Белла, не видят реальности выражаемого им объекта. Все они полагают, что мир погружен в индустриальное общество (с различной степенью его традиционности – это особенно четко у М. Голдмана – или новизны). В этом «параде звезд» показательны также суждения и оценки широко известного Р. Инглхардта, который последовательно оперирует понятиями «зрелое», или «передовое индустриальное общество».
Ему был посвящен доклад ученого на международной конференции в Москве в 1996 году [Полис, 1997, № 4]. А. Турен также счел за благо сосредоточиться «на феномене общества индустриального».
Чем объяснить такое солидарное неприятие вектора динамики современного общества как его «постидустриального» состояния? Для ответа достаточно выявить основные параметры наиболее «продвинутой» или «цивилизованной» ойкумены мира под углом зрения марксовского критерия: каков господствующий тип деятельности или «Как осуществляется свобода?».
Исходный среди этих параметров – технологический. В этом ракурсе никакие информационные новации, никакие интернеты не отменяют отмеченного Голдманом фундаментального факта: «Промышленное производство остается не только весьма значимым, но и в определенной степени даже более важным, чем когда бы то ни было ранее». Это утверждение не бесспорно, однако исчерпывающе убеждает довод американского социолога, что даже производство программного обеспечения компьютерных систем требует новых видов, но опять же индустриального производства. О конвейере – этой «железной лошади», которая требует от седока «функции одного движения» (Дракер) и загоняет его в седьмой пот, – уже не речь. Между тем конвейер, как и станок с ЧПУ – пока еще не технологические «динозавры», а массовые способы производства. До превращения непосредственнного индустриального труда в труд работника, как «контролера и регулировщика» (Маркс) комплексного автоматизированного и компьютеризированного труда, производства и управления, – целая историческая эпоха. Объективная тенденция к ней действительно есть, но пока она – лишь ручеек, вытекающий из разливанного моря господствующей индустриальной реальности.
Об этом свидетельствуют не только объективные индикаторы – индустриальные технологии, но и субъективные, прежде всего отношение к труду не как к творчеству – пробный камень подлинных инноваций в положении человека на производстве. В этом ракурсе сравним начало и конец XX столетия. «Духовные основы труда разложились, – констатировал Бердяев, – и еще не найдено новых… Дисциплина труда есть жизненный вопрос для современных обществ. Чтобы дальше жить, обанкротившимся народам придется, может быть, вступить на другой путь… Это не означает отрицания человеческой изобретательности и техники, но означает изменение ее роли, подчинение ее человеческому духу» [Т.1, с. 422].
В этом размышлении «что-то слышится родное», явно узнаваемое, но не архаика ли это доинформационного потопа? Послушаем Нестора современной американской цивилизации М. Лернера: «Деградация идеи труда, – отмечает он, – знаменует отступление на второй план всех стимулов к труду, кроме денег» [Т. 2, c. 294]. Отныне на авансцене рыцари не труда, а капитала, и не производительного (историческое значение которого высоко оценивал Маркс), а виртуального. Над ним постоянно нависает тень Командора великой катастрофы 1929 года. «Гении финансовых проделок» (Ленин), или с большим пиететом – «титаны» (Драйзер) видят в человеке труда женщину, которая «любит ушами». Они щедро плодят мифологемы своей «культуртрегерской миссии» и мультиплицируют их через вездесущие массмедиа – фабрики грез, конвейеры сказок для взрослых технотронного времени – «симулякров». Эти навязчивые имиджи виртуально перерастают в пленительный «пост», или царство торжествующего интеллекта – творца информации как основного капитала. Грандиозное действо подчинено политической установке «большой семерки» – ядра «золотого миллиарда»: «Избежать формирования двухклассового общества».
Фарисейский характер этой установки заключается в том, что такое общество – не просто тревожная перспектива, а непреходящая реальность и традиционное проклятие индустриального общества. Немецкий социолог К. Герман – явно в пику Беллу – ставит вопрос: «В какой мере развитие технологий отделено (обособлено) от социального развития?» [Социс, 1998, № 2, c. 68]. Иными словами, в какой мере прав Белл и его единомышленники, искусственно разводя технологическую и социальную «оси» и на этом сомнительном основании выстраивающие виртуальное царство «пост»? Автор ссылается, в частности, на успешный опыт освоения компьютерных технологий печально известным Ку-Клус-Кланом, который первым среди радикальных организаций снял сливки технотронной эры, на аналогичные успехи германских неокоричневых. В качестве еще одного штриха можно указать на глобальную информационную сеть бенладеновского Терроринтерна.
В отличие от обществ Архэ и Большой Традиции, культурно-цивилизационный тип, сформировавшийся под кроной европейского Просвещения, изначально обозначался как Modern – Современность (modernity – современный), или общество Модерна. Смыслообразующее ядро Модерна, как идеального Проекта, было новым витком эволюции абстрактного гуманизма. Его пионерам, говоря словами Фауста, представлялось, что «мир не был до меня и создан мной» [Гете, 1974, с. 256]. Они ставили благородные цели освобождения человека от «идолов» средневековой догматики и опоэтизировали его в образе «мыслящего тростника» (Б. Паскаль). Картезианское «Еrgo cogito sum» («Я мыслю, значит я существую») стало визитной карточкой нового человека, а бэконовское «Знание – сила» – его архимедовым рычагом. Гегель наделил Знание культуртворческим смыслом, усматривая его, с одной стороны, в «работе высшего освобождения» как выработке всеобщих значений и смыслов, а с другой – в их практическом освоении как «культурной субъективности» неизвестного доселе «царства Разума».
Бремя программной и технологической реализации этого Проекта взяла на себя общепризнанная жрица Разума – наука. Она создала совершенно новую картину мироздания, обрела статус престижного социального института и превратилась в непосредственную, хотя и частичную, производительную силу. Интегральным результатом этой кардинальной трансформации стало индустриальное общество (капиталистическое в его конкретно-историческом, но не в сущностном определении).
Новый, индустриальный тип деятельности возник, сформировался и созрел как исторический продукт переоценки и кардинального преобразования базовых взаимосвязей человека с природой, человека с человеком и, как оказалось не в последнюю очередь, человека к самому себе.
Большая Традиция предполагала лишь модификации основного – орудийного – принципа взаимосвязи человека труда с природой. Труд был двухзвенным, как непосредственная связь его субъекта с предметом, и простым, по преимуществу физическим. Серия технических переворотов взорвала эту традицию. Машина – это вещное «свое-другое», воплощенная универсалия механицистского Разума. Машина как трехзвенная система (машина-двигатель, передаточный механизм и так называемая «рабочая» машина), – принципиальная возможность массового производства, и она потребовала, с одной стороны, свободного капитала для его расширенного воспроизводства, с другой – наемного труда, освобожденного от пут личной зависимости. Такова двуединая предпосылка капиталистического производства. Возникшее как один из укладов феодализма, оно становится господствующим способом производства, во-первых, как система машин – индустрия, определяющая облик производительных сил общества, во-вторых, как свободное, экс-территориальное и динамичное движение капитала и рабочей силы.
В этом, в конечном счете, и заключалось назначение буржуазных революций в трансформации производительных сил. Как заметил Жорес, первым событием политической революции во Франции был не штурм Бастилии в 1789 году, а изобретение машины Аркрайта в 1768 году. Цель была достигнута в органическом синтезе политической и промышленной революций. Это полный переворот не только в материальном смысле, но и в производстве общественного богатства, и его создатель – уже не традиционный человек. Нормативная деятельность индустриального человека в «царстве Разума» основана на трех основополагающих принципах – рационализма, редукционизма и эволюционизма.
В культур-антропологическом смысле произошла смена смысложизненной парадигмы, в символической лексике Ф. Достоевского, – от Богочеловека к человекобогу, и «в этом, – подчеркивал мыслитель, – вся разница». Человек дерзал на практике быть «мерой всех вещей», и идеал прогресса во имя гуманизма быстро обрел наполеоновскую формулу «Прогресс выше гуманизма». Фаустовская претензия на всемогущество, абсолютно безотносительная, «безосновная» (Ж.-П. Сартр) к природным и социальным связям, свобода позволила до основания разрушить храм средневековых авторитетов – от «естественных», органицистских технологий и социальных институтов до ментальности и идеологических систем – и создать новое пространство, названное Г. В. Лейбницем «наисовершеннейшим из возможных миров». Для современников «бури и натиска» это была гармония, не только утверждаемая разумом человека, но и, напоминая недавний идеологический штамп, «для человека».
«Крестные отцы» Модерна исходили из презумции непорочности Разума. Он не мог быть неразумным, как девственность – грехопадением (хотя и, отрекаясь от себя, мог им стать, но это уже другая тема). Первопроходцы еще не могли знать, что в новом «прекрасном мире» Знание – амбивалентная сила, способная служить не только добру, но и злу. Тайна этого парадокса – не в самом Разуме. Блестящий марксовский афоризм: «Разум бывает всегда, но не всегда в разумной форме» – парадокс социально детерминированной формы и назначения, а не сути Разума. Рациональность – триумф механицизма в постижении законов устройства мира, но они – только скелет мироздания, мира человека. Их знание способно осваивать и конструировать лишь линейные взаимосвязи и структуры, воспроизводить жесткую механическую определенность. Деятельное движение в русле такой эволюции – цель линейного Прогресса, а ее достижение – «конец истории».
Беда апологетов Разума, что они пренебрегли мудростью Екклезиаста: «Кто умножает знание, умножает скорбь». Уже Гете устами Мефистофеля констатировал: «Божок вселенной, человек таков, // каким и был он испокон веков. // Он лучше б жил чуть-чуть, не озари // его ты божьей искрой изнутри. // Он эту искру разумом зовет // и с этой искрой скот скотом живёт» [Т. 2, с. 16].
Характерные признаки этого общества известны. Прежде всего – неограниченное господство homo technologicus над природой и вместе с тем технологический и ментальный разрыв с ней; здесь материальные силы наделяются интеллектуальной жизнью, а человеческая жизнь, лишенная своей интеллектуальной стороны, низводится до степени простой материальной силы, «вещи» (Маркс). Человек становится придатком машины и социальным «ролевиком». Это идеократическое общество – воплощение идеи английского мыслителя конца XVIII в. И. Бентама о «Паноптикуме», изложенной в книге «Око власти». Ее опорные принципы – «прозрачность», всезаметность, всенадзорность, «цель которой – не отношение суверенитета, но дисциплинарные связи» (Юм).
М. Фуко знакомит нас с символическими контурами этого «Колумбова яйца в политическом строе». Посреди кругообразного здания находится башня с широкими, выходящими во внутреннюю сторону кольца, окнами. По краю строение разбито на камеры по два окна в каждой: одно – вовнутрь окошек башни, другое – на внешнюю сторону для освещения. Такое строение позволяет надзирающему неусыпно наблюдать практически за всеми запертыми в камерах узниками. Фуко подчеркивает, что именно продуманная политика пространства, его двойная детерминация политическими технологиями и инженерными практиками стала idefix вездесущего «Ока власти».
Мнящий себя всемогущим, линеарный Разум под знаменами прогресса и гуманизма устремился к экспансии в бесконечное многообразие далеко не линейных связей с природой и людьми. Это было тотальным нарушением греческого табу меры, «пожар безмерности» [Камю, 1992].
Во многом бессознательная «неразумность» и претенциозная «безмерность» Разума обесценили возможности его реализации и, в конечном счете, оказались катастрофными в контексте двух мировых войн XX в. как смертельного недуга индустриализма – его жестко центрированной, тоталитарной интенции к самоутверждению как Центра мира, неограниченного господства над ним.
С позиций изначального гуманистического Проекта такое общество невозможно назвать разумным. Уже Гете ввел понятие «просвещенный век» в иронический, мефистофельский контекст. Наш «просвещенный» век уже не только знает, но и в достаточной мере выстрадал экзистенциальную цену своемерия и отчуждения человека. Если я только мыслю как homo sapiens, это еще не значит, что я существую как целостный человек. Действительно могучая человеческая мысль воплотилась в сколь впечатляющие, столь же и катастрофные или катастрофогенные глобальные проекты. Тоталитарные «мегамашины» – и те, которые рухнули, и те, которые зреют, – свидетельствуют об опасных пределах «разумной» редукции человека и социума к машине. В глобальной реализации воли к власти над миром Разум не замечает, что солженицынский «образованец» и мудрый человек – совершенно разные и, в определенных обстоятельствах, противоположные субстанции.
В конечном счете, взвесив основные pro и contra Модерна в пределах смыслообразующей триады культурности, цивилизованности и варваризации человеческой деятельности, можно утверждать, что эта эпоха, во-первых, кардинальный прорыв в мобилизации творческих способностей человека, обновлении его сущности; во-вторых, по своим результатам это реализация замысла созидания неизвестных ранее форм общественных отношений и структур индустриального общества и вместе с тем, в-третьих, абсолютизация выработанных принципов, структур и технологий, их деструктивная роль генератора несвободы, отчуждения и варваризации человека и его мира.
Отсюда – классические резюме. Уже Гете проницательно заметил: «Как будто бредят все освобожденьем, // а вечный спор их, говоря точней, – // порабощенья спор с порабощеньем» [Т. 2, с. 263]. Достойна скрижалей формула Достоевского: «Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом» [Т. 10, с. 311]. «Самый процесс новой истории был понят как освобождение, – писал Бердяев. – Но от чего освобождение и для чего освобождение? Освобождение от старых, принудительных теократий… Свобода духа есть неотъемлемое и вечное достижение. Но для чего, во имя чего должно было совершиться освобождение? Этого не знает дух нового времени. Он не имел и не знал своего в о и м я. Во имя человека, во имя гуманизма, во имя свободы и счастья человеческого. Но тут, – констатировал философ, – нет никакого ответа» [1994, т. 1, с. 416].
В конечном счете, отмечает З. Бауман, «избранная модернити стратегия… потерпела неудачу прежде всего из-за ее консервативного, запретительного воздействия, которое противоречило другим, внутренне динамичным аспектам Нового времени – постоянным «новым началам» и «творческому разрушению» как образу жизни. «Стабильное», или сбалансированное состояние, состояние «равновесия», состояние полного удовлетворения всех (предположительно неизменных) человеческих потребностей – это идеальное для человечества…» [2002, с. 84, 85].
Гранзиозную неудачу модернистского Проекта констатирует и Валлерстайн. Вопреки тем, кто утверждает, «что мы достигли конца эпохи модернити, что современный мир переживает завершающий кризис и что скоро мы окажемся в мире, который больше будет походить на четырнадцатый век, чем на двадцатый, наиболее пессимистично настроенные среди нас предвидят вероятность того, что миро-хозяйственную инфраструктуру, в которую было вложено пять столетий труда и капитала, ждет судьба римских акведуков» [2003, с. 163–164].
Под этим углом зрения сомнительно определение такого конкретно-исторического состояния как завершенного Модерна. Скорее это Проект-обещание зрелости, чем его выполнение, «незавершенный проект» [Хабермас, 2003, 2005]. Если изложенный (поневоле краткий) очерк эпохи Модерна адекватен его смыслообразующему ядру, то приходится констатировать, что современный этап эволюции человечества принципиально не вышел из триединой системы координат, заданной Модерном, – его рационализма, редукционизма и преформистского эволюционизма. Тем не менее, триединая сущность Модерна претерпела такую эволюцию, которая дает основание для ее определения как зрелой стадии – неомодерна.
Перефразируя классика, следует признать, что «слухи» о Модерне как абсолютном «царстве Разума» или его конце в равной мере «сильно преувеличены». Бердяев недооценил, что «исторически сложившийся капитализм – и как способ производства, и как миросистема, и как цивилизация – вполне доказал свою изобретательность, гибкость и выносливость. Не следует недооценивать его способности защищаться» [Валлерстайн, 2003, с. 34].
«Последний довод» неомодерна, его способности не только воспроизводить себя, но и существенно трансформироваться в стремлении обеспечить себе «долгая лета», заключается в опоре на объективный по своему характеру и по сути инновационный процесс, который выражается полисемантическим термином «глобализация».
1.2. По ту сторону Модерна
«Ну что ты вынесла на рынок? // Ведь это заваль, старина! // Нет у тебя, кума, новинок? // Теперь иные времена»
И. В. Гете
«Мефистофель: Свершим мифологический подлог»
И. В. Гете
Софокл «впрягает миф в ярмо…»
Ф.Ницше
В богатейшем арсенале средств защиты/нападения общества Модерна все более заметна его способность к созданию мифологем.
Необходимо сразу уточнить, что речь идет не о классическом мифе или его постклассических ипостасях в формах ностальгии об утраченном «рае», а именно о мифологеме – продукте более или менее «чистой» рефлексии, но неизменно сознательной идеологической конструкции, в которой миф целенаправленно используется для заинтересованного обоснования квазиукорененного, архетипического характера определенных идей, отношений и структур. Эта проблематика заслуживает специального рассмотрения, и здесь приходится ограничиться критерием, который позволяет различать «Божий дар и яичницу» – миф и мифологему [Левяш, Базовые…, 2011; он же, Культурология, 2004] Этот критерий – отношение к творчеству. Миф – всегда самоцельно-бескорыстное, стихийное и синкретическое творчество, а мифологема – «целерациональное» (Вебер), функционально-расчетливое, осознанное и специализированное «производство».
Миф так же относится к мифологеме, как человек из материнского чрева – к гомункулюсу из пробирки. Разумеется, миф это творчество, также не лишенное моментов «производства» (технологий, структур), но мифологемное «производство» – всегда квази-творчество, независимое от клятв его апологетов в «души прекрасных порывах». Символично, что первое дело о смерти Гитлера называлось «Миф», а второе, более позднее – просто «Архив». Тем не менее ныне мифологемы – едва ли не всеобщий суррогат «духа эпохи», и у этого типа производства вполне респектабельные, возможно, решающие позиции в «просвещенный век» господства информации/дезинформации практически во всех сферах сознания.
1.3. Постиндустриальное общество
«Это не будет эпоха, которую можно будет обозначить как «пост» – нечто»
Л. Туроу
«Германия является чисто индустриальной страной, и решения там принимаются на основе индустриальных принципов»
А. Турен
«Нужно строить развитое индустриальное общество, которое одно и является предпосылкой постиндустриального»
В. Иноземцев
С позиций дифференцированного подхода к мифу и мифологеме достаточно прозрачны модели «общества всеобщего благоденствия», «посткапиталистического» (П. Дракер) или «технотронного» общества (З. Бжезинский), «третьей волны» (А. Тоффлер) и т. п. Среди них наиболее влиятельной оказалась концепция постиндустриального общества [Левяш, 2001]. В развернутом виде эта концепция представлена в книге американского социокультуролога Д. Белла «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования» (1973), и почти в неизменной редакции она переиздана русским изданием (1999) с обширным авторским предисловием. Однако произошло поистине чудесное превращение идеи «постиндустриального» общества не в один из возможных прогнозов, о чем свидетельствует уже название книги Белла, а в свершающуюся, если уже не свершившуюся, реальность.
Чем объяснить такую метаморфозу? Строго говоря, если под концепцией разуметь не просто идею, а систематизированное теоретическое моделирование сущности, закономерностей и тенденций определенной реальности, то «общественное мнение» в условиях идейного дефицита нашего времени взыскует не концептуальной основательности, прежде всего – соответствия реальности, а гипнотической идеи, в которой главное – не прозаическое сущее, а привлекательное должное, новый Град.
Пик популярности постидустриальной идеи Белла пришелся как раз на 70–80 гг. – период технократической эйфории и социальной динамики Запада, с одной стороны, и дискредитации марксистской методологии в тупике и распаде коммунистической системы – с другой. Согласно Беллу, «речь идет о концепции типа «как будто»… это плод моего воображения, логическая модель того, что могло бы быть, модель, с которой социальная реальность будущего сопоставляется, чтобы выявить факторы, которые в состоянии направить развитие общества по иному пути» [1999, с. 86]. Здесь не модель сопоставляется с реальностью, а наоборот, и это реальность будущего, т. е. фантом, который пока вовсе не достоверен. Но, оказывается, речь идет даже не о реальности, а о реальностях, поскольку автор предлагает «разъединить» общественные отношения и технологии, рассматривая их «как независимые исторические переменные. Так, по «оси» общественных отношений можно мысленно расположить рабовладельческий, феодальный и капиталистический строи (так в тексте – И. Л.), выделенные на основе общественных отношений, а по технологической «оси» – доиндустриальное, индустриальное и постидустриальное общества» [Там же, с. 94–98]. Но в таком ракурсе исчезает сам предмет обсуждения – общество, в том числе и постиндустриальное, как определенная целостность, и дело сводится лишь к версии его различных самодостаточных сегментов.
Нетривиальность и эвристическая ценность концепции Белла должна быть выверена как по степени соответствия парадигме состояния знания о перспективах общества, так и соответствия реалиям современности.
В первом ракурсе значима позиция ведущих мыслителей Запада. В центре обсуждения стоял вопрос В. Иноземцева: «Можно ли определить складывающийся сегодня в западных странах порядок в позитивных терминах, или же следует и далее пользоваться определениями, основанными на применении префикса «пост?». С точки зрения Л. Туроу, «сегодня у нас нет названия для этого нового этапа развития. Но это не будет эпоха, которую можно будет обозначить как «пост» – нечто. Это будет эпоха новых возможностей». М. Голдман определенно заявил, что «употребление термина «пост» стало неким анахронизмом… Я не думаю, что мы действительно находимся в постиндустриальной эре. Причиной является то, что промышленное производство не только остается весьма значимым, но и в определенной степени становится даже более важным, чем когда бы то ни было ранее, хотя технологические основы его и меняются… даже производство программного обеспечения… остается одной из отраслей промышленности». Ф. Фукуяма также полагал, что «мы не сможем найти позитивного обозначения, описывающего эру, в которой мы живем, вплоть до той поры, пока данное общество не будет замещено последующим». И в духе своей известной концепции «конца истории» завершил: «До этого момента мы можем… называть его постисторическим». Лишь Дж. Гэлбрейт дополнил свою теорию «единого индустриального общества» «в позитивных терминах. Таковыми… являются преодоление воинствующего национализма… глобальный характер современной экономической и культурной жизни» [МЭиМО, 1998, № 11, с. 7].
Абстрагируясь от оттенков, все опрошенные отрицательно ответили на возможность содержательно сформулировать смысл префикса «пост», поскольку, в отличие от Белла, не видят реальности выражаемого им объекта. Все они полагают, что мир погружен в индустриальное общество (с различной степенью его традиционности – это особенно четко у М. Голдмана – или новизны). В этом «параде звезд» показательны также суждения и оценки широко известного Р. Инглхардта, который последовательно оперирует понятиями «зрелое», или «передовое индустриальное общество».
Ему был посвящен доклад ученого на международной конференции в Москве в 1996 году [Полис, 1997, № 4]. А. Турен также счел за благо сосредоточиться «на феномене общества индустриального».
Чем объяснить такое солидарное неприятие вектора динамики современного общества как его «постидустриального» состояния? Для ответа достаточно выявить основные параметры наиболее «продвинутой» или «цивилизованной» ойкумены мира под углом зрения марксовского критерия: каков господствующий тип деятельности или «Как осуществляется свобода?».
Исходный среди этих параметров – технологический. В этом ракурсе никакие информационные новации, никакие интернеты не отменяют отмеченного Голдманом фундаментального факта: «Промышленное производство остается не только весьма значимым, но и в определенной степени даже более важным, чем когда бы то ни было ранее». Это утверждение не бесспорно, однако исчерпывающе убеждает довод американского социолога, что даже производство программного обеспечения компьютерных систем требует новых видов, но опять же индустриального производства. О конвейере – этой «железной лошади», которая требует от седока «функции одного движения» (Дракер) и загоняет его в седьмой пот, – уже не речь. Между тем конвейер, как и станок с ЧПУ – пока еще не технологические «динозавры», а массовые способы производства. До превращения непосредственнного индустриального труда в труд работника, как «контролера и регулировщика» (Маркс) комплексного автоматизированного и компьютеризированного труда, производства и управления, – целая историческая эпоха. Объективная тенденция к ней действительно есть, но пока она – лишь ручеек, вытекающий из разливанного моря господствующей индустриальной реальности.
Об этом свидетельствуют не только объективные индикаторы – индустриальные технологии, но и субъективные, прежде всего отношение к труду не как к творчеству – пробный камень подлинных инноваций в положении человека на производстве. В этом ракурсе сравним начало и конец XX столетия. «Духовные основы труда разложились, – констатировал Бердяев, – и еще не найдено новых… Дисциплина труда есть жизненный вопрос для современных обществ. Чтобы дальше жить, обанкротившимся народам придется, может быть, вступить на другой путь… Это не означает отрицания человеческой изобретательности и техники, но означает изменение ее роли, подчинение ее человеческому духу» [Т.1, с. 422].
В этом размышлении «что-то слышится родное», явно узнаваемое, но не архаика ли это доинформационного потопа? Послушаем Нестора современной американской цивилизации М. Лернера: «Деградация идеи труда, – отмечает он, – знаменует отступление на второй план всех стимулов к труду, кроме денег» [Т. 2, c. 294]. Отныне на авансцене рыцари не труда, а капитала, и не производительного (историческое значение которого высоко оценивал Маркс), а виртуального. Над ним постоянно нависает тень Командора великой катастрофы 1929 года. «Гении финансовых проделок» (Ленин), или с большим пиететом – «титаны» (Драйзер) видят в человеке труда женщину, которая «любит ушами». Они щедро плодят мифологемы своей «культуртрегерской миссии» и мультиплицируют их через вездесущие массмедиа – фабрики грез, конвейеры сказок для взрослых технотронного времени – «симулякров». Эти навязчивые имиджи виртуально перерастают в пленительный «пост», или царство торжествующего интеллекта – творца информации как основного капитала. Грандиозное действо подчинено политической установке «большой семерки» – ядра «золотого миллиарда»: «Избежать формирования двухклассового общества».
Фарисейский характер этой установки заключается в том, что такое общество – не просто тревожная перспектива, а непреходящая реальность и традиционное проклятие индустриального общества. Немецкий социолог К. Герман – явно в пику Беллу – ставит вопрос: «В какой мере развитие технологий отделено (обособлено) от социального развития?» [Социс, 1998, № 2, c. 68]. Иными словами, в какой мере прав Белл и его единомышленники, искусственно разводя технологическую и социальную «оси» и на этом сомнительном основании выстраивающие виртуальное царство «пост»? Автор ссылается, в частности, на успешный опыт освоения компьютерных технологий печально известным Ку-Клус-Кланом, который первым среди радикальных организаций снял сливки технотронной эры, на аналогичные успехи германских неокоричневых. В качестве еще одного штриха можно указать на глобальную информационную сеть бенладеновского Терроринтерна.