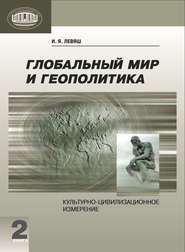По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Глобальный мир и геополитика. Культурно-цивилизационное измерение. Книга 1
Автор
Жанр
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
1.5. «Информационное общество»
«Что значит знать? Вот в чем вопрос»
И. В. Гете
Отмеченный А. Камю извечный дефицит знания о человеке и его мире, казалось бы, противоречит современному феномену всепроникающего «информационного взрыва». Утверждается, что ныне основным фактором производства становится информация как «сырье» креативного (творческого) субъекта труда, и это означает наступление власти времени над «сжатым» и покоренным пространством. Культурно-цивилизационные последствия триумфального шествия информатизации широко представлены на разных уровнях, начиная с оценки одного из ее командоров Б. Гейтса. Он предсказывает, что «бизнес собирается изменяться больше в следующие десять лет, чем в последние пятьдесят», и «эти изменения произойдут в силу простой обезоруживающей идеи – потока цифровой информации».
Такая аргументация перерастает в обоснование концепта «информационное общество» как инновационой и адекватной смыслообразующей парадигмы постижения глобализируемого мира. Более того, введенный в научный оборот в начале 60-х гг., этот термин в 90-х гг. уже нередко рассматривается как ключевой историософский концепт осмысления логоса современной эволюции человека и его мира.
Исторически первая модель человеческой деятельности характеризовалась господством природы над культурой. Следующий тип взаимоотношений связан с промышленной революцией и победой разума, когда культура возобладала над природой. Сегодня культура настолько подчинила себе природу, что ее приходится искусственно восстанавливать в качестве одной из «культурных форм». Сетевые информационные структуры одновременно выступают как ее продукты и средства. Они «составляют новую социальную морфологию наших обществ… парадигма новой информационной технологии обеспечивает материальную основу для всестороннего проникновения такой основы в структуру общества… Процессы преобразований, находящие свое выражение в идеальном типе сетевого общества, выходят за пределы социальных и технических производственных отношений: они глубоко вторгаются в сферы культуры и власти… Мы приблизились к созданию чисто культурной структуры социальных взаимодействий. Именно поэтому информация стала основным компонентом нашей социальной организации» [Кастельс, 1999, с. 494, 495, 503, 505].
Последнее положение спорно, но бесспорен следующий результат. ИР (информационная революция) – поистине инновационный феномен. Здесь термин «информация» употребляется не в общефилософском смысле, как атрибут всего живого, а как продукт производства знания с помощью интеллектуальных технологических систем. Эта революция вначале преодолевает непосредственную и жесткую связь человека с машиной, создает медиатора в форме гораздо более темпорального и гибкого промежуточного звена – счетно-решающего устройства и означает революцию в способе труда. Наблюдается тенденция к трансформации и экспансии такого способа деятельности далеко за пределы непосредственного труда – в масштабах всего производства и управления. Тем не менее материальным субстратом информационной революции остается машина, и «кибер» – почти идеальная и все же машина, в принципе способная бесконечно усиливать «разумный», поддающийся алгоритмизации, потенциал человека. В конечном счете, в производственно-технологическом смысле это наступление неомодерна как действительно «царства Разума», торжества принципа рациональности.
Таковы реалии и их пределы. В мифологемах же таких пределов нет. Их основная фабула в том, что благодаря господству информации находит свое разрешение извечная коллизия «натура – культура». Однако, в отличие от Гейтса, М. Кастельс – не апологет «информационного общества». Оно для него «не конец истории», которая «завершилась счастливым примирением человечества с самим собой. На деле все обстоит совсем иначе: история только начинается… Речь идет о начале иного бытия, о приходе нового, информационного века, отмеченного самостоятельностью культуры по отношению к материальной основе нашего существования. Но вряд ли это может послужить поводом для большой радости, ибо, оказавшись в нашем мире наедине с самими собой, мы должны будем посмотреть на свое отражение в зеркале исторической реальности. То, что мы увидим, вряд ли нам понравится» [1999, с. 505].
Креативность такого подхода все же снижается редукцией проблемы к дуальной оппозиции «натура – культура». В этой оппозиции остается не ясным, почему глобальная информационная культура не дает повода для оптимизма, тем более – для ее оценки как «осевого», т. е. смыслообразующего культурно-цивилизационного прорыва. Более того, парадокс в том,
безоглядная информатизация чревата… архаизацией человека и его мира. «Мы находимся во вселенной, в которой становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла, – пишет Ж. Бодрийяр. – Поскольку там, где, как мы полагаем, информация производит смысл, происходит обратное. Информация пожирает свои собственные содержания. Она пожирает коммуникацию и социальное» [1996, с. 41, 42].
Иными словами, мы снова вернулись к Гете: «Что значит знать? Вот в чем вопрос». Очевидно, разгадка парадокса может быть найдена путем рассмотрения противоречивого назначения информации в инвариантной триаде «культура – цивилизация – варварство».
В каноническом смысле информация – универсальный способ взаимодействия объектов путем передачи, хранения и преобразования их «следов». Сама по себе она является неупорядоченным потоком лишенных смысла «следов», которые познаваемые объекты оставляют в сознании субъекта (не говоря уже о специальной проблеме искажающих эти «следы» технологических и операциональных «шумов»). Прибегая к образу Аристотеля, оттиск на воске может представать чем угодно, если мы не знаем, что на нем отпечаток перстня. Информация – «черный ящик» хаоса таких «следов» – кодов, условных знаков. Их декодирование предполагает предварительное знание кодов и последующего оперирования ими для последующего преобразования информационного хаоса в познавательный логос.
Вопреки обыденному мнению, Знание не является продуктом простого «считывания» информации. «Знать – значит владеть информацией. Понимать – проникать за знания, сквозь информацию. Знание (информация) – это экран, который надо преодолеть, чтобы выйти к иному, сделать его своим. Освоить. Овладеть. Понимать – значит «владеть сутью». Большинство людей «знают, но не владеют» …ученые не любят, не верят, не чувствуют. Они только знают, что есть любовь, вера, чувства… Многие люди читают, чтобы не думать, – сказал Дидро» [ОНС, 1996, № 4, с. 134]. Отсюда – до сих пор не до конца понятое откровение Ницше: «Я изгнал бы из моего идеального государства так называемых «образованных»…это мой терроризм» [1998, т. 1, с. 772]. Характерен и диалог чеховских персонажей: «– Человек такая простая и немудреная машина… – Нет, доктор, в каждом из нас слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге… по двум-трем внешним признакам… Можно быть прекрасным врачом – и в то же время совсем не знать людей» [Т. 12, с. 56].
Вербальные и иные знаковые информационные потоки предварительно создаются, символически интерпретируются и транслируются в определенном смысловом контексте. «Ситуация, – подчеркивал К. Ясперс, – означает не только природно-закономерную, но скорее смысловую действительность, которая выступает не как физическая, не как психическая, а как конкретная действительность, включающая в себя оба эти момента» [1992, с. 9–10]. Эти смыслы – не в самом мире, а в способах связей человека с миром и самим собой. Если они построены на традиционном господстве «культуры» над «натурой», возникает «головокружение от успехов». Библейский Иосиф в известной версии Т. Манна говорит: «Всемогущество – это, если подумать, великий соблазн. Смотри на это как на пережиток хаоса!..
Тебе придется бороться с самим собой…, как когда-то с другим» [1991, т. 2, с. 503, 561].
Информация еще нередко интерпретируется как неограниченная свобода, и пока не существует полноты ответственности за нее. Сама по себе информация «равнодушна» к чьим-либо интересам, но их носители явно неравнодушны к ним. Недаром утверждают, что даже геометрические аксиомы опровергаются, если задевают интересы людей. Такая ситуация в условиях глобализации приводит к далеко идущим последствиям уже не культурного, а цивилизационного (в том числе и геополитического) характера – обусловленной не мессианскими, а миссионерскими мотивами направленности информационной мощи в целях установления контроля над миром. Поэтому «.неверно характеризовать глобализацию как некую политически нейтральную реальность, берущую начало в информационно-коммуникационных технологиях и безымянных силах, выступающих в пользу либерализации торговли и финансов» [Хаттон, 2004, с. 225].
Исследователи проблемы обращают внимание на то, что кибернетические системы способны оказывать активное воздействие на процессы, протекающие во внешней (внесистемной) среде. Объявляя Интернет «вектором демократизации», «свободной средой», даже по определению «зоной анархии», сторонники концепции информационного общества и виртуальной демократии явно недооценивают тот факт, что главными задачами этой технологии первоначально выступали контроль именно над удаленными объектами и управление информационными потоками. Прародительница Интернета – ARPANET – была предназначена для обеспечения связи между основными военными базами и разведывательными центрами США, и рассчитана на функционирование даже в условиях «глобального сбоя» информационной сферы Земли, т. е. ядерной войны. Не говоря уже о «феномене Бен Ладена», мир был потрясен тем, что США с помощью разведывательных космических систем не только визуально контролируют своих европейских союзников по НАТО, но и «взламывают» их суперсекретную информацию. «Однако не явится ли нам очередной Deus ex machina, причем в образе, далеком от демократии?» [Морозов, 2002, с. 134, 135].
Информационное пространство лишь по видимости Вавилон, в котором «всяк сущий язык» дает себе имена. Содержание информационных потоков предварительно создается, символически интерпретируется и передается в определенном контексте. Виртуально кибер-пространство, или «всемирная паутина», становится ареной геополитического миссионерства и цивилизационной экспансии, которые нивелируют социокультурные процессы во всех странах мира. «Содержание информационных потоков на всех уровнях… предварительно интерпретировано и символизировано и передается в определенном культурном контексте. Универсальные культурные стереотипы не отражают даже внешне действительные социокультурные, политические и экономические условия настоящего и исторического становления культуры стран, где эти информационные парадигмы теперь создаются и моделируются. В сущности, глобальные информационные стереотипы в культурном плане «зомбируют» сознание и деятельность широких масс, …игнорируют фундаментальные исторические корни экономического развития отдельных стран» [Саломон, 2000, с. 107, 109].
Неограниченные масштабы информационной интервенции сопряжены не только с конструированием стереотипов «коллективного бессознательного», но и с беспрецедентными масштабами и глубиной проникновения в духовный мир личности. В смутные времена мутации идеалов в идолы она не защищена и падка на внешне привлекательный товар, а в действительности «экскременты масскульта» (У. Эко). Этот неудержимый никакими законодательствами мутный поток хорошо описан, и достаточно воспроизвести мнение испанской газеты «El Pais»: «Самой заметной эпидемией начала XXI столетия является отнюдь не атипичная пневмония, а бесстыдство, вульгарность, примитивность, хамство, тиражируемые СМИ, и прежде всего телевидением. Весь земной шар, оплетенный постоянно повторяющимся видеорядом картинок, стал похож на метафору-буфф полового органа, вот-вот готового извергнуться семенем, или на зловонное публичное отправление естественных надобностей, сопровождаемое грубым гоготом» [Цит. по: ЛГ, 18–24.06.2003]. Человек-масса (более вежливо – «электорат») гораздо лучше знает цену голливудской Мадонны, чем бесценность Сикстинской Мадонны. Это не игра слов, а опасная игра с подменой смыслов.
Российский академик РАН В. Арнольд в своем докладе в Папской академии привел хрестоматийный пассаж. Лиз – студентка, изучающая историю искусства в Гарварде. На уроке французского языка ее спросили, была ли она во Франции («Да»), в Париже («Да»), видела ли Собор Парижской Богоматери («Да»), понравился ли он ей («Нет!»). «Почему?», – спросил преподаватель. «Он такой старый», наивно, но твердо ответила Лиз [Цит. по: Известия, 26.02.1999].
Круг замкнулся, и бедная Лиз – легитимная наследница Фауста, который мнил, что «мир не был до меня и создан мной». О. Уайльд, наблюдая только зарю этого «просвещения», с горечью заметил, что «уровень культуры общества зависит от того, чего люди не прочтут и не увидят». Увы, этим недугом поражена и та часть интеллектуальной элиты, которая много читает и видит, к примеру, Шекспира или Достоевского, но рискует не воспроизводить их на подмостках театров или в кинематографе (в меру своего творческого дара), а «интерпретировать», и в итоге неискушенный зритель или читатель уже воспринимает «быть или не быть» не Гамлета или братьев Карамазовых, а наших доморащенных талантов, жаждущих поклонников.
Каково общество, такова и информация. Дегуманизация современного общества зримо проявляется в том, что величайший плод человеческого гения – информатика утилизуется в целях взлома культурных кодов личности, целых социальных групп или общностей людей – и все это во имя доктринальной «свободы выбора». Поэтому недавно ушедший от нас польский классик Ч. Милош отказывал Модерну как «доктрине в праве оправдывать совершаемые во имя доктрины преступления», как и отказывал действующему от ее имени «современному человеку, который забывает о том, сколь он убог в сравнении с тем, чем человек может быть», отказывал «в праве мерить прошлое и будущее собственной мерой».
Представляется ясным, что концепт «информационная эпоха» это «свое-другое» модернизации, которая, при всех своих впечатляющих технологических новациях, по-прежнему не способна и, похоже, не стремится ответить на вопрос Пилата: «Что есть истина?».
1.6. Так что же мы?
«Кто мы? Откуда мы? Куда мы?»
П. Гоген
«Речь идет о необходимости преодоления таких клише, как «общество, основанное на знаниях», «информационное общество», «постиндустриальное общество», «общество услуг», «инновационное общество», и других с префиксом «пост-»
А. Ракитов
Если абстрагироваться от апологетики Модерна, то ответы мыслителей, которые, говоря словами И. Валлерстайна, делают за постмодернистов «работу» постижения сути Современности, можно условно подразделить на радикальные и умеренные.
Первая из таких интерпретаций возвращает к формуле Б. Латура «Мы никогда не были современными». Действительно, очень многое в Модерне – от отупляющего конвейерного труда, гетто изгоев мегаполисов, массовой безработицы, благотворительного «хлеба» и «зрелищ» масскульта, через каннибальский триумф Хиросимы и явление Зверя из бездны Освенцима, до культа «Разве я сторож брату своему?», массовых жертв террора, «шоковой терапии» и глобальных «гуманитарных интервенций» и т. п. – слишком многое свидетельствует скорее о возвращении и модернизации архаики и варварства, чем реальности Современности в сущностном смысле. Отсюда – заключение М. Фуко: «Скорее, чем пытаться различить «период современный» от эпох «до» или «постсовременных», стоило бы попытаться посмотреть, каким образом установка на современность… оказалась противостоящей по отношению к этим установкам на «антисовременность» [1996, с. 344–345].
Однако такой «приговор нашему времени» (так формулировал свое отношение к своей эпохе Ф. Ницше), возможно, связан с исходной мифологемой Модерна как «обетованной земли», которая обернулась «утраченным раем». Если, в терминах М. Вебера, вычленить целе– и ценностно-рациональное ядро Модерна, то приходится констатировать, что современный (в темпоральном смысле) этап эволюции человечества принципиально не вышел из триединой системы координат, заданной ранним Модерном, – его рационализма, редукционизма и эволюционизма. Он действительно сдержал свое Слово – создал величайшую цивилизацию, и в этом смысле сокрушение нью-йоркских Близнецов современное варварство, и понятная в этой связи символика террора никак не является его алиби.
Реальная проблема по критерию человекотворчества – в культурном измерении. Картезианский культ Разума оказался ящиком Пандоры. Из его фаустовского логоса вышел бентамовский Паноптикум, под которым мефистофелевский «хаос шевелится». Драма Модерна не оставляет сомнений, что человеческое творчество лишь начинается со свободы выбора, но она далеко не всегда есть выбор свободы. Человек не стал мерой всех вещей. Поэтому «остановить мгновение», даже если его вербальное имя – Современность, нет ни возможности, ни смысла.
В этом ракурсе глобализация пока по преимуществу изменила не сущность, а структуру и масштабы модернизации как процесса, придавая ему характер планетарной тенденции. Если принцип редукционизма сыграл с модернизацией по преимуществу дурную службу, то принцип эволюционизма сохраняет немалый позитивный потенциал. В целом это означает, что объективно перед нами – тенденция не к «пост», а к позднеиндустриальному обществу. Позднему – потому что знания, информационная революция принципиально не изменили архетип индустриальной цивилизации, не стали панацеей человекотворчества субъекта труда. Они лишь обостряют это глубинное противоречие позднеиндустриального мира. Цивилизация только входит в фазу развертывания этого противоречия, начиная от каждого человека и устремляясь в глобальную ойкумену. Эта фаза, если человечеству не изменит инстинкт самосохранения и оно не допустит техногенного экосуицида, необратимой мутации в безумии ауто-клонирования или тотальной террористической катастрофы, в обозримом будущем обещает быть длительной. Она непременно, порой до неузнаваемости, будет менять маски.
Такой вывод, на первый взгляд, противоречит реальности. Еще недавно общество Модерна представало в двух «масках» – капитализма и социализма как модальностях «единого» индустриального общества. Теоретически в его парадигму вписываются обе ипостаси. Однако «реальный социализм» оказался колоссом на глиняных ногах (оба слова в кавычках: это был не социализм, и уже поэтому – не реальный). Предметное обсуждение этой проблемы выходит за рамки замысла раздела [Левяш, 2004, гл. 13]. Здесь же, с позиций принципа развития, важно подчеркнуть, что основная причина катастрофы – нарастающее несоответствие этого «социализма» исходному постулату базового триединства Модерна – рациональности. Идеократия, с одной стороны, абсолютизировала редукционизм системы, а с другой – блокировала его эволюционный потенциал, неуклонно снижала его организационную способность адекватно отвечать на новые вызовы, прежде всего – глобализации. Как отмечал Н. Винер, мангуста успешно соперничает с коброй не потому, что она физически сильнее ее. «Секрет» в том, что «образ действия змеи сводится к одиночным… броскам, тогда как мангуста действует с учетом некоторого отрезка всего прошлого хода сражения… Смертоносность ее нападения основана на гораздо более высокой организации» [1968, с. 249].
Известные теоретики западного мира поспешили возвестить его «полный и окончательный» триумф и в этом смысле – «конец истории» (Фукуяма). «Самоуверенность силы» (Дж. Фулбрайт) позволяет роскошь благодушных шуток. Так, Д. Белл компенсировал неудачу своего прожекта «постиндустриального общества»… поражением социализма в СССР. «Да и чем был коммунизм, – остроумно, но не глубоко писал он, – если не «самым длинным в истории путем от капитализма к капитализму», как гласит одна русская шутка?» [2005, с. 16].
К сожалению, Белл пренебрег другой известной сентенцией: «Над кем смеетесь?». Самоназванный «реальный социализм» эволюционизирует отнюдь не к той модели капитализма, который, вопреки своим противоречиям, Маркс высоко оценивал на шкале общественного прогресса, а к его современной, глубоко деформированной засилием спекулятивного капитала, модели, которая бессильна быть маяком для народов, ищущих адекватную Современности модель общественного устройства.
Однако, если рассуждать без иронии – проблема на порядок сложнее, и ее точно формулирует американский футуролог Э. Тоффлер: «Мы присутствуем при распаде Системы. Не капиталистической системы и не коммунистической системы, а Системы, которая охватывает все» [1989, с. 31]. Тотальный характер распада успевших стать традиционными общественных систем свидетельствует об основном противоречии эпохи – переходе к позднему Модерну в ситуации глобального крупномасштабного и потенциально опасного разлома между зрелыми – средне – и неразвитыми субъектами мирового сообщества. Концептуальное постижение этого противоречия может быть адекватным только на базе целостной теории социального развития. Его формационная «анатомия» и культурно-цивилизационная «физиология» должны быть поставлены в контекст Современности, которая в условиях глобализации заметно обновляет свою сущность.
2. Сущность глобализации: формула креста
2.1. Кто Сфинкс, кто Эдип?
«Nomen est numen, numen est nomen» (лат. – «Называть значит знать, знать значит называть»)
«Кто же здесь, собственно, задает нам вопросы?… Кто из нас здесь Эдип? Кто сфинкс?»
Ф. Ницше
Если декодировать античную метафору, то Сфинкс – еще не ведающий себя Эдип, и вопрос, который она задает Эдипу, это его вопрос к самому себе. Перенесенный в «машине времени» в Современность, извечный вопрос мог бы звучать так: «Что есть человек в условиях глобализации?». Вопрос остается открытым, хотя интенсивность посвященных ей публикаций в конце XX – начале XXI столетий напоминает «большой взрыв». Он предстает как рассеянное проблемное поле, потому что его смысловой эпицентр трудноуловим. По преимуществу речь идет о некой анонимной «глобализации», но не о человеке в ее гераклитовом потоке. Как утверждает один из авторов, в дискуссиях на эту тему «за какофонией слов («глобализация», «глобальность», «глобализм», «глобалофобия» и пр.) скрыты споры о фундаментальных вещах» [Mingst, 1999, с. 87], включая отмеченную А. Тойнби тенденцию к смешению единообразных признаков (unification) с подлинным единством (unity) [Toynbee, 1934, с. 150] и даже тотальное отрицание предмета постижения [Bartless, 1998]. Отсюда озадачивающий вопрос: «Если наш язык беспомощен перед лицом реальности, что же тогда произошло?» [Бек, 2002, с. 10].
Назрела потребность в декодировании загадки Сфинкс – культурно-цивилизационном измерении проблемы глобализации. В первой части монографии сделана попытка обосновать философско-методологические предпосылки постижения этого феномена. Вторая часть посвящена анализу антропных истоков, оснований, структуры и динамики глобализации. Эта цель конкретизируется по принципу «бритвы Оккама» – минимизации совокупности задач соответственно структуре работы.
Очевидны планетарные масштабы, тектоническая энергетика, драматическая разновекторность и высокая степень неопределенности трансформации «глобального общества риска» [Бек, 2002, с. 10]. В первом приближении эти признаки дают основание метафорически представить это общество в гоголевском, вначале адресованном России, образе птицы-тройки, которая не дает ответа, куда она «несется». Ныне «тройка» достигла судьбоносного перекрестка – «равновероятия» планетарной революции в способе и обстоятельствах человеческой деятельности или утраты ее человекотворческого смысла, тотальной деградации и вполне предсказуемой антропологической катастрофы.
Такая нераздельность масштабов процесса и беспрецедентные для человечества риски его динамики могут быть адекватно выражены архетипическим символом Креста. Тем, кто еще не вышел из суровой атеистической «шинели», шитой недавними прокрустами, это может показаться лишь «воспоминанием о будущем» Голгофы и форой принципиальным антиглобалистам. В действительности же крест – «богатейший по значению, древнейший и широко распространенный символ… Крест является не только эмблемой христианской веры, но и более древним универсальным символом Космоса, сведенным к простейшей форме – две пересеченные линии символизируют четыре стороны света… Крест был также знаком, символизирующем Древо Жизни»… крест – это знак не только страдания и смерти, но и добра и бессмертия» [Трессидер, 2001, с. 169–170].
Единый, неделимый и вместе с тем амбивалентный по смыслам Крест – простейший и предельно напряженный символ хронотопа мира современного человека, средостение его пространства-времени. Его горизонталь, или топос – не предзаданное «вместилище вещей», а деятельно творимое жизненное пространство с не линейной и «монадно» не самодостаточной, а скорее матричной структурой субпространств авторов и актеров культурно-цивилизационной драмы. Вертикаль креста, или хронос, это также не предзаданное «вместилище событий», а деятельный процесс человекотворчества, обновления человека и его мира.
Пространственная и темпоральная организация мира претерпевает глубокую трансформацию. Она все более подтверждает теорию относительности, согласно которой пространство-время являются целостным континуумом их взаимодействия. Современный мир – не плоскость и даже не «шахматная доска» одномерной геополитики, а сфера. Т. де Шарден определял его геометрический образ в терминах «скручивания», «свертывания на себя», «мира, который свернулся». «Мир без границ, где утрачивают былое значение территории и расстояния, начинает обретать реальные очертания. В новом социальном пространстве время ускоряет свой бег…. Процесс социального взаимодействия интенсифицируется, приобретает невиданную ранее динамику» [Кувалдин, 2000, с. 13].
Такие кардинальные сдвиги приводят к полной переоценке представлений о хронотопе в условиях глобализации. Если до нее экономическое и политическое развитие было принято трактовать диахронно, как смену стадий или событий пространственно разделенных границами суверенных государств, то такое понимание сменилось синхронным видением, которое фиксирует события одновременно, не разделяя их пространством и временем [Ратленд, 2002, с. 15].
Человеческий род прошел действительно крестный путь – от доисторических первобытных анклавов до глобальных масштабов, переусложненной структуры и зримой динамики современности, путь все более смыслоемких падений и воскрешений. В наше время это путь глобализации как «крестной» целостности планетарного мета-пространства/мета-времени.
«Что значит знать? Вот в чем вопрос»
И. В. Гете
Отмеченный А. Камю извечный дефицит знания о человеке и его мире, казалось бы, противоречит современному феномену всепроникающего «информационного взрыва». Утверждается, что ныне основным фактором производства становится информация как «сырье» креативного (творческого) субъекта труда, и это означает наступление власти времени над «сжатым» и покоренным пространством. Культурно-цивилизационные последствия триумфального шествия информатизации широко представлены на разных уровнях, начиная с оценки одного из ее командоров Б. Гейтса. Он предсказывает, что «бизнес собирается изменяться больше в следующие десять лет, чем в последние пятьдесят», и «эти изменения произойдут в силу простой обезоруживающей идеи – потока цифровой информации».
Такая аргументация перерастает в обоснование концепта «информационное общество» как инновационой и адекватной смыслообразующей парадигмы постижения глобализируемого мира. Более того, введенный в научный оборот в начале 60-х гг., этот термин в 90-х гг. уже нередко рассматривается как ключевой историософский концепт осмысления логоса современной эволюции человека и его мира.
Исторически первая модель человеческой деятельности характеризовалась господством природы над культурой. Следующий тип взаимоотношений связан с промышленной революцией и победой разума, когда культура возобладала над природой. Сегодня культура настолько подчинила себе природу, что ее приходится искусственно восстанавливать в качестве одной из «культурных форм». Сетевые информационные структуры одновременно выступают как ее продукты и средства. Они «составляют новую социальную морфологию наших обществ… парадигма новой информационной технологии обеспечивает материальную основу для всестороннего проникновения такой основы в структуру общества… Процессы преобразований, находящие свое выражение в идеальном типе сетевого общества, выходят за пределы социальных и технических производственных отношений: они глубоко вторгаются в сферы культуры и власти… Мы приблизились к созданию чисто культурной структуры социальных взаимодействий. Именно поэтому информация стала основным компонентом нашей социальной организации» [Кастельс, 1999, с. 494, 495, 503, 505].
Последнее положение спорно, но бесспорен следующий результат. ИР (информационная революция) – поистине инновационный феномен. Здесь термин «информация» употребляется не в общефилософском смысле, как атрибут всего живого, а как продукт производства знания с помощью интеллектуальных технологических систем. Эта революция вначале преодолевает непосредственную и жесткую связь человека с машиной, создает медиатора в форме гораздо более темпорального и гибкого промежуточного звена – счетно-решающего устройства и означает революцию в способе труда. Наблюдается тенденция к трансформации и экспансии такого способа деятельности далеко за пределы непосредственного труда – в масштабах всего производства и управления. Тем не менее материальным субстратом информационной революции остается машина, и «кибер» – почти идеальная и все же машина, в принципе способная бесконечно усиливать «разумный», поддающийся алгоритмизации, потенциал человека. В конечном счете, в производственно-технологическом смысле это наступление неомодерна как действительно «царства Разума», торжества принципа рациональности.
Таковы реалии и их пределы. В мифологемах же таких пределов нет. Их основная фабула в том, что благодаря господству информации находит свое разрешение извечная коллизия «натура – культура». Однако, в отличие от Гейтса, М. Кастельс – не апологет «информационного общества». Оно для него «не конец истории», которая «завершилась счастливым примирением человечества с самим собой. На деле все обстоит совсем иначе: история только начинается… Речь идет о начале иного бытия, о приходе нового, информационного века, отмеченного самостоятельностью культуры по отношению к материальной основе нашего существования. Но вряд ли это может послужить поводом для большой радости, ибо, оказавшись в нашем мире наедине с самими собой, мы должны будем посмотреть на свое отражение в зеркале исторической реальности. То, что мы увидим, вряд ли нам понравится» [1999, с. 505].
Креативность такого подхода все же снижается редукцией проблемы к дуальной оппозиции «натура – культура». В этой оппозиции остается не ясным, почему глобальная информационная культура не дает повода для оптимизма, тем более – для ее оценки как «осевого», т. е. смыслообразующего культурно-цивилизационного прорыва. Более того, парадокс в том,
безоглядная информатизация чревата… архаизацией человека и его мира. «Мы находимся во вселенной, в которой становится все больше и больше информации и все меньше и меньше смысла, – пишет Ж. Бодрийяр. – Поскольку там, где, как мы полагаем, информация производит смысл, происходит обратное. Информация пожирает свои собственные содержания. Она пожирает коммуникацию и социальное» [1996, с. 41, 42].
Иными словами, мы снова вернулись к Гете: «Что значит знать? Вот в чем вопрос». Очевидно, разгадка парадокса может быть найдена путем рассмотрения противоречивого назначения информации в инвариантной триаде «культура – цивилизация – варварство».
В каноническом смысле информация – универсальный способ взаимодействия объектов путем передачи, хранения и преобразования их «следов». Сама по себе она является неупорядоченным потоком лишенных смысла «следов», которые познаваемые объекты оставляют в сознании субъекта (не говоря уже о специальной проблеме искажающих эти «следы» технологических и операциональных «шумов»). Прибегая к образу Аристотеля, оттиск на воске может представать чем угодно, если мы не знаем, что на нем отпечаток перстня. Информация – «черный ящик» хаоса таких «следов» – кодов, условных знаков. Их декодирование предполагает предварительное знание кодов и последующего оперирования ими для последующего преобразования информационного хаоса в познавательный логос.
Вопреки обыденному мнению, Знание не является продуктом простого «считывания» информации. «Знать – значит владеть информацией. Понимать – проникать за знания, сквозь информацию. Знание (информация) – это экран, который надо преодолеть, чтобы выйти к иному, сделать его своим. Освоить. Овладеть. Понимать – значит «владеть сутью». Большинство людей «знают, но не владеют» …ученые не любят, не верят, не чувствуют. Они только знают, что есть любовь, вера, чувства… Многие люди читают, чтобы не думать, – сказал Дидро» [ОНС, 1996, № 4, с. 134]. Отсюда – до сих пор не до конца понятое откровение Ницше: «Я изгнал бы из моего идеального государства так называемых «образованных»…это мой терроризм» [1998, т. 1, с. 772]. Характерен и диалог чеховских персонажей: «– Человек такая простая и немудреная машина… – Нет, доктор, в каждом из нас слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге… по двум-трем внешним признакам… Можно быть прекрасным врачом – и в то же время совсем не знать людей» [Т. 12, с. 56].
Вербальные и иные знаковые информационные потоки предварительно создаются, символически интерпретируются и транслируются в определенном смысловом контексте. «Ситуация, – подчеркивал К. Ясперс, – означает не только природно-закономерную, но скорее смысловую действительность, которая выступает не как физическая, не как психическая, а как конкретная действительность, включающая в себя оба эти момента» [1992, с. 9–10]. Эти смыслы – не в самом мире, а в способах связей человека с миром и самим собой. Если они построены на традиционном господстве «культуры» над «натурой», возникает «головокружение от успехов». Библейский Иосиф в известной версии Т. Манна говорит: «Всемогущество – это, если подумать, великий соблазн. Смотри на это как на пережиток хаоса!..
Тебе придется бороться с самим собой…, как когда-то с другим» [1991, т. 2, с. 503, 561].
Информация еще нередко интерпретируется как неограниченная свобода, и пока не существует полноты ответственности за нее. Сама по себе информация «равнодушна» к чьим-либо интересам, но их носители явно неравнодушны к ним. Недаром утверждают, что даже геометрические аксиомы опровергаются, если задевают интересы людей. Такая ситуация в условиях глобализации приводит к далеко идущим последствиям уже не культурного, а цивилизационного (в том числе и геополитического) характера – обусловленной не мессианскими, а миссионерскими мотивами направленности информационной мощи в целях установления контроля над миром. Поэтому «.неверно характеризовать глобализацию как некую политически нейтральную реальность, берущую начало в информационно-коммуникационных технологиях и безымянных силах, выступающих в пользу либерализации торговли и финансов» [Хаттон, 2004, с. 225].
Исследователи проблемы обращают внимание на то, что кибернетические системы способны оказывать активное воздействие на процессы, протекающие во внешней (внесистемной) среде. Объявляя Интернет «вектором демократизации», «свободной средой», даже по определению «зоной анархии», сторонники концепции информационного общества и виртуальной демократии явно недооценивают тот факт, что главными задачами этой технологии первоначально выступали контроль именно над удаленными объектами и управление информационными потоками. Прародительница Интернета – ARPANET – была предназначена для обеспечения связи между основными военными базами и разведывательными центрами США, и рассчитана на функционирование даже в условиях «глобального сбоя» информационной сферы Земли, т. е. ядерной войны. Не говоря уже о «феномене Бен Ладена», мир был потрясен тем, что США с помощью разведывательных космических систем не только визуально контролируют своих европейских союзников по НАТО, но и «взламывают» их суперсекретную информацию. «Однако не явится ли нам очередной Deus ex machina, причем в образе, далеком от демократии?» [Морозов, 2002, с. 134, 135].
Информационное пространство лишь по видимости Вавилон, в котором «всяк сущий язык» дает себе имена. Содержание информационных потоков предварительно создается, символически интерпретируется и передается в определенном контексте. Виртуально кибер-пространство, или «всемирная паутина», становится ареной геополитического миссионерства и цивилизационной экспансии, которые нивелируют социокультурные процессы во всех странах мира. «Содержание информационных потоков на всех уровнях… предварительно интерпретировано и символизировано и передается в определенном культурном контексте. Универсальные культурные стереотипы не отражают даже внешне действительные социокультурные, политические и экономические условия настоящего и исторического становления культуры стран, где эти информационные парадигмы теперь создаются и моделируются. В сущности, глобальные информационные стереотипы в культурном плане «зомбируют» сознание и деятельность широких масс, …игнорируют фундаментальные исторические корни экономического развития отдельных стран» [Саломон, 2000, с. 107, 109].
Неограниченные масштабы информационной интервенции сопряжены не только с конструированием стереотипов «коллективного бессознательного», но и с беспрецедентными масштабами и глубиной проникновения в духовный мир личности. В смутные времена мутации идеалов в идолы она не защищена и падка на внешне привлекательный товар, а в действительности «экскременты масскульта» (У. Эко). Этот неудержимый никакими законодательствами мутный поток хорошо описан, и достаточно воспроизвести мнение испанской газеты «El Pais»: «Самой заметной эпидемией начала XXI столетия является отнюдь не атипичная пневмония, а бесстыдство, вульгарность, примитивность, хамство, тиражируемые СМИ, и прежде всего телевидением. Весь земной шар, оплетенный постоянно повторяющимся видеорядом картинок, стал похож на метафору-буфф полового органа, вот-вот готового извергнуться семенем, или на зловонное публичное отправление естественных надобностей, сопровождаемое грубым гоготом» [Цит. по: ЛГ, 18–24.06.2003]. Человек-масса (более вежливо – «электорат») гораздо лучше знает цену голливудской Мадонны, чем бесценность Сикстинской Мадонны. Это не игра слов, а опасная игра с подменой смыслов.
Российский академик РАН В. Арнольд в своем докладе в Папской академии привел хрестоматийный пассаж. Лиз – студентка, изучающая историю искусства в Гарварде. На уроке французского языка ее спросили, была ли она во Франции («Да»), в Париже («Да»), видела ли Собор Парижской Богоматери («Да»), понравился ли он ей («Нет!»). «Почему?», – спросил преподаватель. «Он такой старый», наивно, но твердо ответила Лиз [Цит. по: Известия, 26.02.1999].
Круг замкнулся, и бедная Лиз – легитимная наследница Фауста, который мнил, что «мир не был до меня и создан мной». О. Уайльд, наблюдая только зарю этого «просвещения», с горечью заметил, что «уровень культуры общества зависит от того, чего люди не прочтут и не увидят». Увы, этим недугом поражена и та часть интеллектуальной элиты, которая много читает и видит, к примеру, Шекспира или Достоевского, но рискует не воспроизводить их на подмостках театров или в кинематографе (в меру своего творческого дара), а «интерпретировать», и в итоге неискушенный зритель или читатель уже воспринимает «быть или не быть» не Гамлета или братьев Карамазовых, а наших доморащенных талантов, жаждущих поклонников.
Каково общество, такова и информация. Дегуманизация современного общества зримо проявляется в том, что величайший плод человеческого гения – информатика утилизуется в целях взлома культурных кодов личности, целых социальных групп или общностей людей – и все это во имя доктринальной «свободы выбора». Поэтому недавно ушедший от нас польский классик Ч. Милош отказывал Модерну как «доктрине в праве оправдывать совершаемые во имя доктрины преступления», как и отказывал действующему от ее имени «современному человеку, который забывает о том, сколь он убог в сравнении с тем, чем человек может быть», отказывал «в праве мерить прошлое и будущее собственной мерой».
Представляется ясным, что концепт «информационная эпоха» это «свое-другое» модернизации, которая, при всех своих впечатляющих технологических новациях, по-прежнему не способна и, похоже, не стремится ответить на вопрос Пилата: «Что есть истина?».
1.6. Так что же мы?
«Кто мы? Откуда мы? Куда мы?»
П. Гоген
«Речь идет о необходимости преодоления таких клише, как «общество, основанное на знаниях», «информационное общество», «постиндустриальное общество», «общество услуг», «инновационное общество», и других с префиксом «пост-»
А. Ракитов
Если абстрагироваться от апологетики Модерна, то ответы мыслителей, которые, говоря словами И. Валлерстайна, делают за постмодернистов «работу» постижения сути Современности, можно условно подразделить на радикальные и умеренные.
Первая из таких интерпретаций возвращает к формуле Б. Латура «Мы никогда не были современными». Действительно, очень многое в Модерне – от отупляющего конвейерного труда, гетто изгоев мегаполисов, массовой безработицы, благотворительного «хлеба» и «зрелищ» масскульта, через каннибальский триумф Хиросимы и явление Зверя из бездны Освенцима, до культа «Разве я сторож брату своему?», массовых жертв террора, «шоковой терапии» и глобальных «гуманитарных интервенций» и т. п. – слишком многое свидетельствует скорее о возвращении и модернизации архаики и варварства, чем реальности Современности в сущностном смысле. Отсюда – заключение М. Фуко: «Скорее, чем пытаться различить «период современный» от эпох «до» или «постсовременных», стоило бы попытаться посмотреть, каким образом установка на современность… оказалась противостоящей по отношению к этим установкам на «антисовременность» [1996, с. 344–345].
Однако такой «приговор нашему времени» (так формулировал свое отношение к своей эпохе Ф. Ницше), возможно, связан с исходной мифологемой Модерна как «обетованной земли», которая обернулась «утраченным раем». Если, в терминах М. Вебера, вычленить целе– и ценностно-рациональное ядро Модерна, то приходится констатировать, что современный (в темпоральном смысле) этап эволюции человечества принципиально не вышел из триединой системы координат, заданной ранним Модерном, – его рационализма, редукционизма и эволюционизма. Он действительно сдержал свое Слово – создал величайшую цивилизацию, и в этом смысле сокрушение нью-йоркских Близнецов современное варварство, и понятная в этой связи символика террора никак не является его алиби.
Реальная проблема по критерию человекотворчества – в культурном измерении. Картезианский культ Разума оказался ящиком Пандоры. Из его фаустовского логоса вышел бентамовский Паноптикум, под которым мефистофелевский «хаос шевелится». Драма Модерна не оставляет сомнений, что человеческое творчество лишь начинается со свободы выбора, но она далеко не всегда есть выбор свободы. Человек не стал мерой всех вещей. Поэтому «остановить мгновение», даже если его вербальное имя – Современность, нет ни возможности, ни смысла.
В этом ракурсе глобализация пока по преимуществу изменила не сущность, а структуру и масштабы модернизации как процесса, придавая ему характер планетарной тенденции. Если принцип редукционизма сыграл с модернизацией по преимуществу дурную службу, то принцип эволюционизма сохраняет немалый позитивный потенциал. В целом это означает, что объективно перед нами – тенденция не к «пост», а к позднеиндустриальному обществу. Позднему – потому что знания, информационная революция принципиально не изменили архетип индустриальной цивилизации, не стали панацеей человекотворчества субъекта труда. Они лишь обостряют это глубинное противоречие позднеиндустриального мира. Цивилизация только входит в фазу развертывания этого противоречия, начиная от каждого человека и устремляясь в глобальную ойкумену. Эта фаза, если человечеству не изменит инстинкт самосохранения и оно не допустит техногенного экосуицида, необратимой мутации в безумии ауто-клонирования или тотальной террористической катастрофы, в обозримом будущем обещает быть длительной. Она непременно, порой до неузнаваемости, будет менять маски.
Такой вывод, на первый взгляд, противоречит реальности. Еще недавно общество Модерна представало в двух «масках» – капитализма и социализма как модальностях «единого» индустриального общества. Теоретически в его парадигму вписываются обе ипостаси. Однако «реальный социализм» оказался колоссом на глиняных ногах (оба слова в кавычках: это был не социализм, и уже поэтому – не реальный). Предметное обсуждение этой проблемы выходит за рамки замысла раздела [Левяш, 2004, гл. 13]. Здесь же, с позиций принципа развития, важно подчеркнуть, что основная причина катастрофы – нарастающее несоответствие этого «социализма» исходному постулату базового триединства Модерна – рациональности. Идеократия, с одной стороны, абсолютизировала редукционизм системы, а с другой – блокировала его эволюционный потенциал, неуклонно снижала его организационную способность адекватно отвечать на новые вызовы, прежде всего – глобализации. Как отмечал Н. Винер, мангуста успешно соперничает с коброй не потому, что она физически сильнее ее. «Секрет» в том, что «образ действия змеи сводится к одиночным… броскам, тогда как мангуста действует с учетом некоторого отрезка всего прошлого хода сражения… Смертоносность ее нападения основана на гораздо более высокой организации» [1968, с. 249].
Известные теоретики западного мира поспешили возвестить его «полный и окончательный» триумф и в этом смысле – «конец истории» (Фукуяма). «Самоуверенность силы» (Дж. Фулбрайт) позволяет роскошь благодушных шуток. Так, Д. Белл компенсировал неудачу своего прожекта «постиндустриального общества»… поражением социализма в СССР. «Да и чем был коммунизм, – остроумно, но не глубоко писал он, – если не «самым длинным в истории путем от капитализма к капитализму», как гласит одна русская шутка?» [2005, с. 16].
К сожалению, Белл пренебрег другой известной сентенцией: «Над кем смеетесь?». Самоназванный «реальный социализм» эволюционизирует отнюдь не к той модели капитализма, который, вопреки своим противоречиям, Маркс высоко оценивал на шкале общественного прогресса, а к его современной, глубоко деформированной засилием спекулятивного капитала, модели, которая бессильна быть маяком для народов, ищущих адекватную Современности модель общественного устройства.
Однако, если рассуждать без иронии – проблема на порядок сложнее, и ее точно формулирует американский футуролог Э. Тоффлер: «Мы присутствуем при распаде Системы. Не капиталистической системы и не коммунистической системы, а Системы, которая охватывает все» [1989, с. 31]. Тотальный характер распада успевших стать традиционными общественных систем свидетельствует об основном противоречии эпохи – переходе к позднему Модерну в ситуации глобального крупномасштабного и потенциально опасного разлома между зрелыми – средне – и неразвитыми субъектами мирового сообщества. Концептуальное постижение этого противоречия может быть адекватным только на базе целостной теории социального развития. Его формационная «анатомия» и культурно-цивилизационная «физиология» должны быть поставлены в контекст Современности, которая в условиях глобализации заметно обновляет свою сущность.
2. Сущность глобализации: формула креста
2.1. Кто Сфинкс, кто Эдип?
«Nomen est numen, numen est nomen» (лат. – «Называть значит знать, знать значит называть»)
«Кто же здесь, собственно, задает нам вопросы?… Кто из нас здесь Эдип? Кто сфинкс?»
Ф. Ницше
Если декодировать античную метафору, то Сфинкс – еще не ведающий себя Эдип, и вопрос, который она задает Эдипу, это его вопрос к самому себе. Перенесенный в «машине времени» в Современность, извечный вопрос мог бы звучать так: «Что есть человек в условиях глобализации?». Вопрос остается открытым, хотя интенсивность посвященных ей публикаций в конце XX – начале XXI столетий напоминает «большой взрыв». Он предстает как рассеянное проблемное поле, потому что его смысловой эпицентр трудноуловим. По преимуществу речь идет о некой анонимной «глобализации», но не о человеке в ее гераклитовом потоке. Как утверждает один из авторов, в дискуссиях на эту тему «за какофонией слов («глобализация», «глобальность», «глобализм», «глобалофобия» и пр.) скрыты споры о фундаментальных вещах» [Mingst, 1999, с. 87], включая отмеченную А. Тойнби тенденцию к смешению единообразных признаков (unification) с подлинным единством (unity) [Toynbee, 1934, с. 150] и даже тотальное отрицание предмета постижения [Bartless, 1998]. Отсюда озадачивающий вопрос: «Если наш язык беспомощен перед лицом реальности, что же тогда произошло?» [Бек, 2002, с. 10].
Назрела потребность в декодировании загадки Сфинкс – культурно-цивилизационном измерении проблемы глобализации. В первой части монографии сделана попытка обосновать философско-методологические предпосылки постижения этого феномена. Вторая часть посвящена анализу антропных истоков, оснований, структуры и динамики глобализации. Эта цель конкретизируется по принципу «бритвы Оккама» – минимизации совокупности задач соответственно структуре работы.
Очевидны планетарные масштабы, тектоническая энергетика, драматическая разновекторность и высокая степень неопределенности трансформации «глобального общества риска» [Бек, 2002, с. 10]. В первом приближении эти признаки дают основание метафорически представить это общество в гоголевском, вначале адресованном России, образе птицы-тройки, которая не дает ответа, куда она «несется». Ныне «тройка» достигла судьбоносного перекрестка – «равновероятия» планетарной революции в способе и обстоятельствах человеческой деятельности или утраты ее человекотворческого смысла, тотальной деградации и вполне предсказуемой антропологической катастрофы.
Такая нераздельность масштабов процесса и беспрецедентные для человечества риски его динамики могут быть адекватно выражены архетипическим символом Креста. Тем, кто еще не вышел из суровой атеистической «шинели», шитой недавними прокрустами, это может показаться лишь «воспоминанием о будущем» Голгофы и форой принципиальным антиглобалистам. В действительности же крест – «богатейший по значению, древнейший и широко распространенный символ… Крест является не только эмблемой христианской веры, но и более древним универсальным символом Космоса, сведенным к простейшей форме – две пересеченные линии символизируют четыре стороны света… Крест был также знаком, символизирующем Древо Жизни»… крест – это знак не только страдания и смерти, но и добра и бессмертия» [Трессидер, 2001, с. 169–170].
Единый, неделимый и вместе с тем амбивалентный по смыслам Крест – простейший и предельно напряженный символ хронотопа мира современного человека, средостение его пространства-времени. Его горизонталь, или топос – не предзаданное «вместилище вещей», а деятельно творимое жизненное пространство с не линейной и «монадно» не самодостаточной, а скорее матричной структурой субпространств авторов и актеров культурно-цивилизационной драмы. Вертикаль креста, или хронос, это также не предзаданное «вместилище событий», а деятельный процесс человекотворчества, обновления человека и его мира.
Пространственная и темпоральная организация мира претерпевает глубокую трансформацию. Она все более подтверждает теорию относительности, согласно которой пространство-время являются целостным континуумом их взаимодействия. Современный мир – не плоскость и даже не «шахматная доска» одномерной геополитики, а сфера. Т. де Шарден определял его геометрический образ в терминах «скручивания», «свертывания на себя», «мира, который свернулся». «Мир без границ, где утрачивают былое значение территории и расстояния, начинает обретать реальные очертания. В новом социальном пространстве время ускоряет свой бег…. Процесс социального взаимодействия интенсифицируется, приобретает невиданную ранее динамику» [Кувалдин, 2000, с. 13].
Такие кардинальные сдвиги приводят к полной переоценке представлений о хронотопе в условиях глобализации. Если до нее экономическое и политическое развитие было принято трактовать диахронно, как смену стадий или событий пространственно разделенных границами суверенных государств, то такое понимание сменилось синхронным видением, которое фиксирует события одновременно, не разделяя их пространством и временем [Ратленд, 2002, с. 15].
Человеческий род прошел действительно крестный путь – от доисторических первобытных анклавов до глобальных масштабов, переусложненной структуры и зримой динамики современности, путь все более смыслоемких падений и воскрешений. В наше время это путь глобализации как «крестной» целостности планетарного мета-пространства/мета-времени.