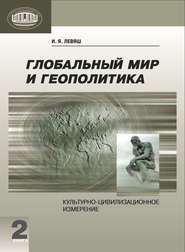По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Глобальный мир и геополитика. Культурно-цивилизационное измерение. Книга 1
Автор
Жанр
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Уже этого – по-своему планетарного – свидетельства достаточно, чтобы убедиться в том, что глобализация ныне это по преимуществу стихийный и разнонаправленный, но не анонимный процесс. Он развивается и не по законам игры за «шахматной доской». Мы деятельно сопричастны формированию уникального феномена – глобосферы как современной арены, универсума и конкретно-исторической ступени мирового развития, планетарного масштаба и глубины выявления таких его признаков, как:
– системный характер его пространственно-временного континуума; – обострение противоречивости взаимодействия культуры и цивилизации, поступательное, возвратное и отноплоскостное движение;
– необратимость, единство преемственности и отрицания; – повышение сложности, нарастание разнообразия элементов системы и вместе с тем их интеграции;
– упрочение культурной зрелости и политической организации; – усиление цивилизационной динамики процесса; – в конечном счете, качественное обновление мира и повышение его целостности вплоть до становления единого и неделимого мира человека.
4.2. Методологические основания геоглобалистского знания
«Обществоведение должно признать, что оно ищет не простое, а наиболее адекватную интерпретацию сложного»
И. Валлерстайн
Глобализация – такой феномен, к которому неприменима логика «совы Минервы» – постижения в целом завершенного процесса, во всеоружии традиционного знания об основных закономерностях взаимодействия его субъектов. Невозможно применить к ней и дедуктивную логику Маркса, выраженную афоризмом: «Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны». Но глобализация – уже не terra incognita, и информация по этой проблеме нарастает по экспоненте. Однако в авторских позициях за терминами «глобализация», «глобализм», «глобофобия» и пр. скрыты «споры о фундаментальных вещах» [Mingst, 1999]. Исходными являются методологические основания постижения глобализации. Вероятно, наиболее спорным среди них является априорный императив панглобализма как постулат, согласно которому «глобализация – термин, который должен занять ключевое место в лексиконе общественных наук» [Гидденс, 1999].
На первый взгляд, панорама состояния общественных наук подверждает нарастающую тенденцию движения к этой парадигме. Первичные импульсы, логика и структура процесса и связанное с ней многообразие смыслов достаточно полно и во многом точно представлены в исследованиях [Чешков, 1998, 1999]. Парадокс в том, что предмет глобалистики, начиная с работ Римского клуба, одновременно определялся, с одной стороны, на уровне спекулятивного философского абстрагирования, как Человечество в процессе эволюции Вселенной, а с другой – не только в его проблематичном постдисциплинарном статусе, но и параллельно и «реально» – в русле различных дисциплин. Коммуникация между такими уровнями и в итоге – формирование «совокупного образа» глобализации – не могут быть достигнуты суммативным путем простого добавления одного вида знания к другому. Не дают такого образа и претензии представителей той или иной дисциплины на главенствующую роль, будь то экономистов или культурологов, а в последнее время также психологов и историков. Вместе с тем, «все дисциплины, имеющие отношение к нашей теме, выходят к мировому, планетарному уровню исследования независимо от того, идет ли речь о глобальных экономике, культуре или социуме. Столь же очевидна и ограниченность специально-дисциплинарных средств обращения, хотя и в разной степени, к самому широкому контексту, который предстает в виде то ли мирового социума/культуры, то ли человечества».
Менее ясно выражено, но все же заметно движение или, точнее, потребность движения от частно-научного знания к философскому знанию [Wallerstein, 1991, с. 139–145]. Однако «современная глобалистика далека от реализации идеи целостного видения мира. В ней глобальность выступает как одно из измерений различных дисциплин, каждая из которых конструирует «свою» глобальность в виде мировой глобализирующейся экономики, мировой глобализирующейся культуры, мирового порядка или хаоса. Поэтому глобалистике угрожает расчленение ее предмета или, точнее, необретение такового» [Чешков, 1999, с. 44].
В целом современное состояние глобалистики отмечено неизбежным для любого становящегося знания методологическим парадоксом – неразличением объекта и предмета и в итоге, с одной стороны панглобализмом, «поглощением» глобалистской проблематикой мирового развития в целом, но с другой – в силу неразработанности «последних оснований» – редукцией многоликости глобализации к той или иной из ее ипостасей, которая ныне задает тон или претендует на лидерство. Директор отделения общественных наук при ЮНЕСКО А. Казанджегил отмечал, что состояние изучения «экономических, социальных, политических и культурных процессов, предоставляющих социальным наукам предметы исследований, ставит перед социальными науками сложные задачи. Они выглядят лишенными связи и менее способными, чем прежде, поспевать за ними. В то время как объяснение и проверка глобальных явлений требуют адекватных теорий, методов и приемов научных изысканий, социальные науки поражены большой парадигматической фрагментацией (курсив мой – И. Л.)…Нужны соответствующие способы научных изысканий, качественные данные и подходящие теоретические модели» [МЖСН, февраль 1999, с. 114].
Существует, отмечает М. Чешков, угроза «расчленения» предмета глобалистики или, точнее, необретение такового. Вместе с тем сдвиги внутри отдельных дисциплин, развитие междисциплинарного подхода, постепенное размывание научных стереотипов, – все это, вместе взятое, образует предпосылки, необходимые для выработки обобщенного, или постдисциплинарного, образа глобализации [1999]. Следует заметить, что этот термин в разных вариантах – «меж– или «наддисциплинарного» знания – конкурирует с предложением новой терминологии. Согласно М. Догану, «сети перекрестных влияний таковы, что они стирают старую классификацию социальных наук… Слово «междисциплинарный» необходимо… заменить терминами «мультиспециальность» или «гибридизация научного знания» [1998, с. 169]. Однако необходимость в такой смене понятий не убеждает: суммативное мультизнание, или знание-гибрид не может претендовать на знание более высокого порядка.
Настоятельным становится предметное постижение универсальной и вместе с тем специфической сущности глобализации. Глобалистика – зреющий плод освоения этого суперсложного универсума. Не отвергая необходимого аналитического описания фрагментов процесса, она призвана быть синтезом результатов развития основных ветвей научного знания – обществоведения, естествознания и техникознания – с целью исследования логоса – истоков, сущности, структуры, технологий и вероятностных тенденций процесса глобализации.
Какое знание в принципе обладает методологией, адекватной постижению этого неведомого ранее хронотопа? Назрела необходимость в метазнании, способном к постижению процесса в контексте его «последних оснований». В этом смысле уже дезавуированы претензии эконом– социо– и, в узком смысле, политцентризма. Изучаемые ими сегменты – не более, чем ипостаси деятельностной природы человека и его мира как триединства культуры, цивилизации и варваризации.
Испытанной альтернативой «парадигматической фрагментации» в постижении глобального мира в контексте его очевидной суперсложности является системная методология. Ее эффективная эпистемологическая интенция – в представлении об определенной сложности как целостности, которая не сводима к сумме своих составных частей. Между тем «система» это не расхожий термин, а «генерализующий принцип» (П. Сорокин). Системный анализ исходит из того, что всякая система есть сумма, но сумма – не обязательно система. Она нередко может быть и досистемной, агрегатным состоянием объекта или процесса. Системный подход предполагает первостепенное внимание к способу взаимосвязей подсистем и их компонентов целого как целостности.
Всем памятный пример из школьной химии – графит и алмаз. Они состоят из одних и те же элементов, но различные способы связи между ними приводят к совершенно разным качествам. Другой – и поучительный – пример приводит Энгельс на материале колониальных войн европейцев в Африке. Один мамелюк (арабский всадник), как правило, наносил поражение одному французскому воину, 10 мамелюков сражались с 10 французами уже с переменным успехом, но 100 французских воинов неизменно побеждали 100 мамелюков. Прибегая к образу Экзюпери, оставившего образцы системного лингвоанализа, «Собор отличается от груды камней, из которых он построен. В мире внешнем и внутреннем мы можем попытаться уловить и выразить лишь связи и соотношения. «Структуры», как сказали бы физики. Проанализируйте поэтический образ. Смысл его иного порядка, чем смысл выражающих его слов. Он не заключен ни в одном из элементов, которые в нем связаны или сопоставлены: смысл поэтического образа определяется типом связи, которую он создает, той внутренней настроенностью, которую вызывает в вас данная структура» [1964, с. 569]. Отсюда и знаменитый диалог по поводу возведения Шартского собора. В ответ на вопрос: что делают его строители, первый сказал, что зарабатывает насущный хлеб, второй – носит кирпичи, и лишь третий – что строит Собор.
В пределах системной методологии особого внимания заслуживает концепт центрогенеза как выражения процесса и результата разделения и кооперации деятельности в пределах целого, который превосходит простую сумму своих составных частей. Эффективность такой синергии подчеркивал Гете, цитируя своего современника и друга Гамана: «Что бы человек ни задумал совершить…, должно проистекать из объединения всех сил; разрозненное – порочно». Великолепная максима, но руководствоваться ею нелегко» [Т. 3, с. 433]. Такие затруднения нередко приводят не к реконструкции, а к постмодернистской деструкции, и тогда – «как друзья вы ни садитесь, в музыканты не годитесь».
Главное – такая взаимообусловленность компонентов связи, которая ведет к оптимизации их потенциала, т. е. все более полному соответствию между функциями компонентов и целями (а в социокультурном мире – ценностями и смыслами) их реализации. Такая взаимосвязь, по мере развития потребностей системы, способна не только преобразовать ее компоненты, но и творить новые, необходимые для ее дальнейшего развития как системы. «Органическая система, – писал Маркс, – как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества и создать из него еще недостающие ей органы» [Т. 46, ч. 1, с. 229].
Несомненно, системная логика во многом позволяет минимизировать необъятные фрагменты очевидного глобального хаоса, приблизиться к постижению космоса структурно-эволюционных взаимосвязей между ними, формировать определенные гипотезы целостности процесса.
Системный подход, примененный к анализу сложных и противоречивых процессов развития, привел к их интерпретации как тенденций, которые не действуют в «чистом виде» и пробивают себе путь сквозь внешний хаос вероятностей. Эта нелинейная логика нашла свое выражение в синергетической методологии (от греч. synergeia – сотрудничество, содружество, или взаимодействие различных потенций и видов энергий в целостном действии). Термин «синергетика» в 1973 г. ввел профессор Штудгартского университета Г. Хаген. С точки зрения фундаторов синергетики (г. Хаген,
И. Пригожин, И. Стенгерс), «любая попытка «привести вещи в порядок» сводится к оперированию вероятностями тех или иных событий… Постижение вероятностей и тем самым волшебное превращение хаоса в порядок есть чудо, которое повседневно вершится культурой» [Бауман, 2002, с. 40]. Мир человека не является ни абсолютным Космосом, ни абсолютным Хаосом.
Линейный редукционизм противопоказан пониманию этих процессов. Уже античная мысль дополняла фатализм рока (судьбы) фортуной, а Н. Макиавелли возвел их взаимосвязь в генерализующий принцип. Гете писал, что «в ряде случаев законы безмолвствуют и не приходят на помощь отдельному человеку, предоставляя ему на свой страх и риск выпутываться из беды» [Т. 3, с. 122]. Постепенно то, что было интуицией, обретало форму аналитической логики. Сразу после открытия внутриатомного мира и вероятностного «поведения» элементарных частиц известный представитель польской логико-философской мысли XX в. Ян Лукасевич в 1918 г. заявил в Варшавском университете, что ему удалось построить и обосновать систему трехзначной логики, в которой вводится промежуточное значение между «истиной» и «ложью», интерпретируемое как «возможно». Вскоре Лукашевич расширил идею трехзначной логики до n-значной логики, где «0 интерпретируется как ложь, 1 – как истина, а другие числа в интервале между 0 и 1 – как степени вероятности, соответствующие различным возможностям» [Lukasiewicz, 1970, с. 130].
Основная идея И. Пригожина наследует вероятностную логику. Она символически выражена на обложке его книги «Конец определенности»: летящая стрела подрезает плодоножку яблока. Падающее яблоко – символ ньютоновского видения мира, его тяготения к определенности, жесткой необходимости. Летящая стрела – конец этой определенности, бергсоновская творческая свобода. Для ньютоновских законов время – лишь вместилище событий, и оно «равнодушно» к своей вариативности. Физик Эйнштейн ревизовал этот постулат, обнаружив относительность временной определенности, ее детерминацию структурой пространственно-временного континуума. «Физик» и в равной мере «лирик» Пригожин выявил связь преходящих и непреходящих моментов развития.
И. Пригожин в обращении к участникам посвященных его трудам XIV Международных чтений (Минск, 1998) отметил, что «неожиданным результатом оказалось открытие новых пространственно-временных структур в состояниях, далеких от равновесного… новое представление динамики разрушает временную симметрию, и для нее основной величиной является вероятность» [Ilya Prigogine, 1998]. На Чтениях отмечалось, что синергетический хаос не есть известный в мифологии первозданный хаос с нулевой информацией. Хаос – не распад в абсолютное ничто. Он – не вся реальность, а лишь промежуточная фаза от порядка «до» к порядку «после». Это хаос, под которым и над которым огромный массив прежнего порядка и становления нового. Хаос имеет своей предысторией определенную организацию и порядок, и сам является предпосылкой, фазой движения, перехода к будущему новому порядку.
С точки зрения И. Валлерстайна, «даже строго описываемые естественными науками динамические механические системы управляются стрелой времени и неизбежно отклоняются далеко от равновесия. Эти новые взгляды получили название теории неравновесности как потому, что они строятся на том, что ньютоновская определенность имеет место только в очень ограниченных и простых системах, так и потому, что, согласно им, Вселенная демонстрирует эволюционное нарастание сложности, и подавляющее большинство ситуаций не может быть объяснено исходя из тезисов о линейном равновесии и обратимости времени» [2003, с. 8].
Бифуркация – понятие, которое выражает стохастическое, предельно зыбкое и заключающее в себе веер возможностей, состояние неопределенности: любая ничтожная причина способна привести к радикальному изменению пути развития процесса. Случайность играет порой удивительную по мощи роль. Всеобщий характер таких критических моментов в развитии давно подмечен в самых разных сферах знания. Интересно, что Достоевский в «Записках из мертвого дома» описывает обычай, бытовавший среди ссыльных заключенных в России: они в буквальном смысле менялись местами на очередном этапе и затем шли каждый по новому маршруту, не надеясь что-то выгадать, а просто стремясь, как они говорили, «сменить судьбу». Другой пример: рассыпанный типографский шрифт в принципе может воссоздать любой известный текст. Вероятность крайне мала, но отлична от нуля. Однако мороз, рисующий на окне причудливые пейзажи, – гораздо более «упорядоченный» феномен.
Вместе с тем, далекий от равновесия («стабильности»), динамический хаос и самоорганизация, или порядок, – относительные противоположности. Они взаимодействуют в броуновском движении разнонаправленных, а также обратимых и необратимых агентов. Крайне важно, что в их неоднозначной совокупности «необратимость есть источник порядка на всех уровнях. Необратимость есть тот механизм, который создает порядок из хаоса» [Пригожин…, 1986, с. 363]. Проблема – в характере нового порядка, требующего выяснения степени его соответствия/несоответствия критериям общественного развития.
Эвристический потенциал и методологическая ценность синергетической методологии отчетливо выявляются в формировании метазнания о современном мире. Характерно, что Валлерстайн на основе синергетики делает «выводы и заключения политического характера». Один из них в том, что «вера в определенность – фундаментальная посылка модернити – обманчива и вредна». Напротив, «неопределенность прекрасна, а определенность, имей она место на самом деле, означала бы моральную смерть… Если же ничего не предопределено окончательно, то будущее открыто для творчества – как человеческого, так и всей природы. Оно открыто навстречу возможностям, а значит – и лучшему миру. Но мы можем войти к него, если только окажемся готовы ради его достижения затратить нашу… энергию и если будем готовы бороться с теми, кто под каким бы то ни было видом и любым предлогом предпочитает неэгалитарный, недемократический мир» [2003, с. 7, 9].
Стохастический характер современного развития и вместе с тем основания для поиска его вектора подчеркивает Н. Дж. Смелзер. Он обращает внимание на то, что «широкие преобразования в нынешнем мире… вырастают из индивидуальных и коллективных, сравнительно кратковременных реакций каких-то стран на их ближайшее экономическое и политическое окружение; при этом не слишком учитываются их долговременные последствия. Более долговременные преобразования (даже революции) – это чаще всего неожидавшиеся побочные эффекты более кратковременных реакций… можно сказать, космическое вырастает из банальности». Тем не менее, он пишет о «пульсациях истории», «главнейших всемирных преобразованиях», о том, что «мир движется вперед рывками, циклами, если не фазами». Описав развитие событий после Второй мировой войны, Смелзер отмечает, что они «образовали ситуационную среду для дальнейших действий государств», но и «имели результатом транснациональные тенденции». Далее – уже на языке «метаповествований» – анализируются «всемирные преобразования», как «революция в экономическом росте…демократическая революция…, революция солидарности и самобытности» и – скорее из области желаемого, чем действительного, «революция среды обитания» [1998, с. 17, 19, 22].
Пожалуй, самое радикальное из таких обобщений заключается в том, что вслед за А. Туреном Н. Смелзер отмечает «одно давнишнее и хорошо знакомое противоречие: тенденция победоносной войны международного капитализма увековечить, если не усугубить, крайнее неравенство среди классов и групп внутри государств, а также… между государствами. Хотя ныне Маркс не в моде в большей части мира, этот аспект марксистской мысли не должен выйти из моды» [1998, с. 22]. Показательно, что постижение такой закономерности мэтры современного знания в равной мере связывают как с марксистской, так и синергетической методологией.
Здесь уместно отметить принципиальное совпадение отношения творцов инновационных методологий к их эвристическому потенциалу. Выше уже отмечалось критическое отношение Маркса к априорному и доктринерскому манипулированию его методом. Характерно, что И. Пригожин также не возводит синергетику в абсолют и предупреждает, что универсализированная синергетическая методология провоцирует «ущербную онтологию» [Ilya…, 1998, с. 89, 90].
Это означает, что рассмотренные методологии, даже взятые в совокупности, не освобождают от конкретно-исторического постижения глобализации в современную эпоху, как и от претензии адептов представить глобализацию как постсовременную эпоху. Является ли глобализация качественно новой исторической эпохой, если исходить из того, что в когнитивном смысле эпоха – фундаментальное понятие для выражения предельно широкого (после масштаба всемирной истории), целостного и емкого хронотопа, или пространственно-временной структуры. Характер эпохи определяется ее зависимостью от специфических способов деятельности, присущей каждому из них мерой разрешения основного всемирно-исторического противоречия между гуманизаций/дегуманизацией, освобождением/отчуждением и в результате – основной направленностью развития ценностного, смыслообразующего ядра этих процессов.
Есть смысл акцентировать понятие переходной эпохи для выражения притяжения/отталкивания различных способов деятельности, смыслообразующих ядер нисходящих и восходящих культурно-цивилизационных комплексов (КЦК), их соперничества, в котором формируется и нарастает объективная тенденция перехода к новой исторической эпохе. В результате происходит переход от множества к единой планетарной цивилизации, и он означает испытание способности различных КЦК выжить на основе креативного Знания или погибнуть – не в последнюю очередь от неадекватно понятых вызовов глобализации.
Часть II
Современность как проблема глобализации
1. Фантомы и реалии глобализации
1.1. Какой Модерн не завершен?
«Порядок идей должен следовать за порядком вещей»
Дж. Вико
«Мы не могли расстаться с надеждой, что со временем будем делаться все разумнее, все независимее от внешних обстоятельств, более того – от самих себя. Слово «свобода» звучит так прекрасно, что от него невозможно отказаться, хотя бы оно и обозначало лишь заблуждение»
И. В. Гете
«Вывод витает в воздухе: проект модерна, по всей видимости, провалился»
У. Бек
Ставшая девизом этого раздела максима Дж. Вико трансформируется в не утративший акутальности вопрос классика: «Какое, милые, тысячелетье на дворе?». Физически – начало третьего миллениума, XXI столетия. Но по сути необходим концептуальный ответ на соотношение понятия «глобализация», претендующего на ключевую объяснительную роль, с важнейшими и претерпевающими существенное обновление концептами «модернити», «модернизм», «модернизация».
Изначально термин «модерн» (фр. modern – современный) был употреблен в V веке н. э. для различения официального статуса христианства, как официальной государственной идеологии в настоящем, и языческого прошлого Рима. С тех пор «модерным» принято считать все новое.
Интересное различение связанных с Модерном концептов предложил Д. Белл. С его точки зрения, «модернити – это отношение к миру. Даже в античных Афинах имелись серьезные элементы модернити. Первым, кого можно считать воплощением открытости миру, был Диоген. Модернити – это принятие открытости миру (оказывается, даже философствоваание в бочке не мешает открытости миру – И. Л.)… Напротив, модернизм – это исторически определенный культурный феномен… метод экспериментирования, способ восприятия различных жанров как таковых. Модернизация – еще один совершенно особый термин, обозначающий определенную форму рационализации, сведения воедино административных, политических и культурных элементов (везде курсив мой – И. Л.)» [Белл, Иноземцев, 2007, с. 206].
Затруднения в связи с выяснением иерархии этих понятий обусловлены по преимуществу традиционным временным (темпоральным) подходом. Согласно ему, модернизация – это решительно все процессы, которые протекают в условиях настоящего времени. Здесь сущностный анализ процессов подменяется апелляцией к тому, что они, независимо от своего характера, совершаются «здесь и сейчас». Открытой остается задача установления тех ценностей и смыслов, институтов и практик, которые являются определяющими для характеристики эпохи термином «современная». «Требуется ввести те или иные сущностные параметры… какие обычаи и институты современны, а какие – нет. Общество современно только при условии, что ряд ключевых для него институтов и типов поведения правомерно называть современными» [Виттрок, 2001, с. 141].
Основной источник затруднений – в ньютоновской редукции представлений об антропном времени как «вместилище событий», недооценке глубинных культурно-цивилизационных оснований прямых и обратных взаимосвязей между модернизацией и глобализацией.
Еще в 30-х гг. прошлого века английский политолог Б. Латур в книге «Мы никогда не были современными» поставил под сомнение сущностный смысл понятия Модерн – Современность [Latour, 1933]. С его точки зрения, «никто никогда не был современным. Эпоха модернити никогда не начиналась. Современного мира никогда не существовало. Здесь важно использование настоящего совершенного времени, так как речь идет о ретроспективном чувстве, о новом прочтении нашей истории. Я не говорю о том, что мы вступаем в новую эру; напротив, нам больше не нужно продолжать участие в безрассудной гонке пост-пост-постмодернистов, мы более не обязаны цепляться за авангард авангарда… постмодернисты утверждают, что они живут после эпохи, которая никогда не начиналась!… Нет, вместо этого мы обнаруживаем, что никогда не начинали вступать в современную эру» [Ibid., с. 47]. В этом смысле B. Валлерстайн обоснованно пишет, что «Латура ошибочно считают одним из представителей постмодернизма… Латур с равной силой критикует тех, кого называет антимодернистами, модернистами и постмодернистами. Для Латура все три группы едины в том, что считают мир, в котором мы живем последние несколько столетий, «современным», приписывая модернити «ускорение, прорыв, переворот во времени (в противоположность) архаичному и стабильному прошлому» [2003, с. 321].
Но, возможно, Латур не заметил слона? Согласно С. Хантингтону, мост из «отсталости» в «современность» лежит через модернизацию. Он называет главные характеристики модернизации: комплексный процесс, ибо он не сводится к какому-то одному аспекту, одной стороне, одному измерению общественной жизни: она охватывает общество полностью; системный процесс, потому что изменения одного фактора, одного фрагмента системы побуждают и определяют изменения в других факторах и фрагментах, и в результате происходит целостный системный переворот; революционный процесс, ибо он предполагает кардинальный характер изменений, радикальную и тотальную смену всех институтов, систем, структур общества и человеческой жизни; темпоральный процесс. Темпы изменений сейчас возрастают, но все равно модернизация требует времени, она происходит в течение жизни нескольких поколений; константный, ступенчатый процесс. Все общества, модернизируясь, должны пройти одни и те же стадии. Сколько каждому обществу осталось идти по пути модернизации, зависит от того, на какой стадии оно находится, когда начинает модернизационный процесс; гомогенизирующий процесс. Современные общества в основных своих структурах и проявлениях одинаковы; глобальный процесс. Зародившись в Европе, она приобретает ныне глобальный размах. Все страны были традиционными, все страны ныне либо стали современными, либо находятся в процессе движения к этому состоянию; наконец, необратимый процесс [Хантингтон, 1999].
– системный характер его пространственно-временного континуума; – обострение противоречивости взаимодействия культуры и цивилизации, поступательное, возвратное и отноплоскостное движение;
– необратимость, единство преемственности и отрицания; – повышение сложности, нарастание разнообразия элементов системы и вместе с тем их интеграции;
– упрочение культурной зрелости и политической организации; – усиление цивилизационной динамики процесса; – в конечном счете, качественное обновление мира и повышение его целостности вплоть до становления единого и неделимого мира человека.
4.2. Методологические основания геоглобалистского знания
«Обществоведение должно признать, что оно ищет не простое, а наиболее адекватную интерпретацию сложного»
И. Валлерстайн
Глобализация – такой феномен, к которому неприменима логика «совы Минервы» – постижения в целом завершенного процесса, во всеоружии традиционного знания об основных закономерностях взаимодействия его субъектов. Невозможно применить к ней и дедуктивную логику Маркса, выраженную афоризмом: «Анатомия человека – ключ к анатомии обезьяны». Но глобализация – уже не terra incognita, и информация по этой проблеме нарастает по экспоненте. Однако в авторских позициях за терминами «глобализация», «глобализм», «глобофобия» и пр. скрыты «споры о фундаментальных вещах» [Mingst, 1999]. Исходными являются методологические основания постижения глобализации. Вероятно, наиболее спорным среди них является априорный императив панглобализма как постулат, согласно которому «глобализация – термин, который должен занять ключевое место в лексиконе общественных наук» [Гидденс, 1999].
На первый взгляд, панорама состояния общественных наук подверждает нарастающую тенденцию движения к этой парадигме. Первичные импульсы, логика и структура процесса и связанное с ней многообразие смыслов достаточно полно и во многом точно представлены в исследованиях [Чешков, 1998, 1999]. Парадокс в том, что предмет глобалистики, начиная с работ Римского клуба, одновременно определялся, с одной стороны, на уровне спекулятивного философского абстрагирования, как Человечество в процессе эволюции Вселенной, а с другой – не только в его проблематичном постдисциплинарном статусе, но и параллельно и «реально» – в русле различных дисциплин. Коммуникация между такими уровнями и в итоге – формирование «совокупного образа» глобализации – не могут быть достигнуты суммативным путем простого добавления одного вида знания к другому. Не дают такого образа и претензии представителей той или иной дисциплины на главенствующую роль, будь то экономистов или культурологов, а в последнее время также психологов и историков. Вместе с тем, «все дисциплины, имеющие отношение к нашей теме, выходят к мировому, планетарному уровню исследования независимо от того, идет ли речь о глобальных экономике, культуре или социуме. Столь же очевидна и ограниченность специально-дисциплинарных средств обращения, хотя и в разной степени, к самому широкому контексту, который предстает в виде то ли мирового социума/культуры, то ли человечества».
Менее ясно выражено, но все же заметно движение или, точнее, потребность движения от частно-научного знания к философскому знанию [Wallerstein, 1991, с. 139–145]. Однако «современная глобалистика далека от реализации идеи целостного видения мира. В ней глобальность выступает как одно из измерений различных дисциплин, каждая из которых конструирует «свою» глобальность в виде мировой глобализирующейся экономики, мировой глобализирующейся культуры, мирового порядка или хаоса. Поэтому глобалистике угрожает расчленение ее предмета или, точнее, необретение такового» [Чешков, 1999, с. 44].
В целом современное состояние глобалистики отмечено неизбежным для любого становящегося знания методологическим парадоксом – неразличением объекта и предмета и в итоге, с одной стороны панглобализмом, «поглощением» глобалистской проблематикой мирового развития в целом, но с другой – в силу неразработанности «последних оснований» – редукцией многоликости глобализации к той или иной из ее ипостасей, которая ныне задает тон или претендует на лидерство. Директор отделения общественных наук при ЮНЕСКО А. Казанджегил отмечал, что состояние изучения «экономических, социальных, политических и культурных процессов, предоставляющих социальным наукам предметы исследований, ставит перед социальными науками сложные задачи. Они выглядят лишенными связи и менее способными, чем прежде, поспевать за ними. В то время как объяснение и проверка глобальных явлений требуют адекватных теорий, методов и приемов научных изысканий, социальные науки поражены большой парадигматической фрагментацией (курсив мой – И. Л.)…Нужны соответствующие способы научных изысканий, качественные данные и подходящие теоретические модели» [МЖСН, февраль 1999, с. 114].
Существует, отмечает М. Чешков, угроза «расчленения» предмета глобалистики или, точнее, необретение такового. Вместе с тем сдвиги внутри отдельных дисциплин, развитие междисциплинарного подхода, постепенное размывание научных стереотипов, – все это, вместе взятое, образует предпосылки, необходимые для выработки обобщенного, или постдисциплинарного, образа глобализации [1999]. Следует заметить, что этот термин в разных вариантах – «меж– или «наддисциплинарного» знания – конкурирует с предложением новой терминологии. Согласно М. Догану, «сети перекрестных влияний таковы, что они стирают старую классификацию социальных наук… Слово «междисциплинарный» необходимо… заменить терминами «мультиспециальность» или «гибридизация научного знания» [1998, с. 169]. Однако необходимость в такой смене понятий не убеждает: суммативное мультизнание, или знание-гибрид не может претендовать на знание более высокого порядка.
Настоятельным становится предметное постижение универсальной и вместе с тем специфической сущности глобализации. Глобалистика – зреющий плод освоения этого суперсложного универсума. Не отвергая необходимого аналитического описания фрагментов процесса, она призвана быть синтезом результатов развития основных ветвей научного знания – обществоведения, естествознания и техникознания – с целью исследования логоса – истоков, сущности, структуры, технологий и вероятностных тенденций процесса глобализации.
Какое знание в принципе обладает методологией, адекватной постижению этого неведомого ранее хронотопа? Назрела необходимость в метазнании, способном к постижению процесса в контексте его «последних оснований». В этом смысле уже дезавуированы претензии эконом– социо– и, в узком смысле, политцентризма. Изучаемые ими сегменты – не более, чем ипостаси деятельностной природы человека и его мира как триединства культуры, цивилизации и варваризации.
Испытанной альтернативой «парадигматической фрагментации» в постижении глобального мира в контексте его очевидной суперсложности является системная методология. Ее эффективная эпистемологическая интенция – в представлении об определенной сложности как целостности, которая не сводима к сумме своих составных частей. Между тем «система» это не расхожий термин, а «генерализующий принцип» (П. Сорокин). Системный анализ исходит из того, что всякая система есть сумма, но сумма – не обязательно система. Она нередко может быть и досистемной, агрегатным состоянием объекта или процесса. Системный подход предполагает первостепенное внимание к способу взаимосвязей подсистем и их компонентов целого как целостности.
Всем памятный пример из школьной химии – графит и алмаз. Они состоят из одних и те же элементов, но различные способы связи между ними приводят к совершенно разным качествам. Другой – и поучительный – пример приводит Энгельс на материале колониальных войн европейцев в Африке. Один мамелюк (арабский всадник), как правило, наносил поражение одному французскому воину, 10 мамелюков сражались с 10 французами уже с переменным успехом, но 100 французских воинов неизменно побеждали 100 мамелюков. Прибегая к образу Экзюпери, оставившего образцы системного лингвоанализа, «Собор отличается от груды камней, из которых он построен. В мире внешнем и внутреннем мы можем попытаться уловить и выразить лишь связи и соотношения. «Структуры», как сказали бы физики. Проанализируйте поэтический образ. Смысл его иного порядка, чем смысл выражающих его слов. Он не заключен ни в одном из элементов, которые в нем связаны или сопоставлены: смысл поэтического образа определяется типом связи, которую он создает, той внутренней настроенностью, которую вызывает в вас данная структура» [1964, с. 569]. Отсюда и знаменитый диалог по поводу возведения Шартского собора. В ответ на вопрос: что делают его строители, первый сказал, что зарабатывает насущный хлеб, второй – носит кирпичи, и лишь третий – что строит Собор.
В пределах системной методологии особого внимания заслуживает концепт центрогенеза как выражения процесса и результата разделения и кооперации деятельности в пределах целого, который превосходит простую сумму своих составных частей. Эффективность такой синергии подчеркивал Гете, цитируя своего современника и друга Гамана: «Что бы человек ни задумал совершить…, должно проистекать из объединения всех сил; разрозненное – порочно». Великолепная максима, но руководствоваться ею нелегко» [Т. 3, с. 433]. Такие затруднения нередко приводят не к реконструкции, а к постмодернистской деструкции, и тогда – «как друзья вы ни садитесь, в музыканты не годитесь».
Главное – такая взаимообусловленность компонентов связи, которая ведет к оптимизации их потенциала, т. е. все более полному соответствию между функциями компонентов и целями (а в социокультурном мире – ценностями и смыслами) их реализации. Такая взаимосвязь, по мере развития потребностей системы, способна не только преобразовать ее компоненты, но и творить новые, необходимые для ее дальнейшего развития как системы. «Органическая система, – писал Маркс, – как совокупное целое имеет свои предпосылки, и ее развитие в направлении целостности состоит именно в том, чтобы подчинить себе все элементы общества и создать из него еще недостающие ей органы» [Т. 46, ч. 1, с. 229].
Несомненно, системная логика во многом позволяет минимизировать необъятные фрагменты очевидного глобального хаоса, приблизиться к постижению космоса структурно-эволюционных взаимосвязей между ними, формировать определенные гипотезы целостности процесса.
Системный подход, примененный к анализу сложных и противоречивых процессов развития, привел к их интерпретации как тенденций, которые не действуют в «чистом виде» и пробивают себе путь сквозь внешний хаос вероятностей. Эта нелинейная логика нашла свое выражение в синергетической методологии (от греч. synergeia – сотрудничество, содружество, или взаимодействие различных потенций и видов энергий в целостном действии). Термин «синергетика» в 1973 г. ввел профессор Штудгартского университета Г. Хаген. С точки зрения фундаторов синергетики (г. Хаген,
И. Пригожин, И. Стенгерс), «любая попытка «привести вещи в порядок» сводится к оперированию вероятностями тех или иных событий… Постижение вероятностей и тем самым волшебное превращение хаоса в порядок есть чудо, которое повседневно вершится культурой» [Бауман, 2002, с. 40]. Мир человека не является ни абсолютным Космосом, ни абсолютным Хаосом.
Линейный редукционизм противопоказан пониманию этих процессов. Уже античная мысль дополняла фатализм рока (судьбы) фортуной, а Н. Макиавелли возвел их взаимосвязь в генерализующий принцип. Гете писал, что «в ряде случаев законы безмолвствуют и не приходят на помощь отдельному человеку, предоставляя ему на свой страх и риск выпутываться из беды» [Т. 3, с. 122]. Постепенно то, что было интуицией, обретало форму аналитической логики. Сразу после открытия внутриатомного мира и вероятностного «поведения» элементарных частиц известный представитель польской логико-философской мысли XX в. Ян Лукасевич в 1918 г. заявил в Варшавском университете, что ему удалось построить и обосновать систему трехзначной логики, в которой вводится промежуточное значение между «истиной» и «ложью», интерпретируемое как «возможно». Вскоре Лукашевич расширил идею трехзначной логики до n-значной логики, где «0 интерпретируется как ложь, 1 – как истина, а другие числа в интервале между 0 и 1 – как степени вероятности, соответствующие различным возможностям» [Lukasiewicz, 1970, с. 130].
Основная идея И. Пригожина наследует вероятностную логику. Она символически выражена на обложке его книги «Конец определенности»: летящая стрела подрезает плодоножку яблока. Падающее яблоко – символ ньютоновского видения мира, его тяготения к определенности, жесткой необходимости. Летящая стрела – конец этой определенности, бергсоновская творческая свобода. Для ньютоновских законов время – лишь вместилище событий, и оно «равнодушно» к своей вариативности. Физик Эйнштейн ревизовал этот постулат, обнаружив относительность временной определенности, ее детерминацию структурой пространственно-временного континуума. «Физик» и в равной мере «лирик» Пригожин выявил связь преходящих и непреходящих моментов развития.
И. Пригожин в обращении к участникам посвященных его трудам XIV Международных чтений (Минск, 1998) отметил, что «неожиданным результатом оказалось открытие новых пространственно-временных структур в состояниях, далеких от равновесного… новое представление динамики разрушает временную симметрию, и для нее основной величиной является вероятность» [Ilya Prigogine, 1998]. На Чтениях отмечалось, что синергетический хаос не есть известный в мифологии первозданный хаос с нулевой информацией. Хаос – не распад в абсолютное ничто. Он – не вся реальность, а лишь промежуточная фаза от порядка «до» к порядку «после». Это хаос, под которым и над которым огромный массив прежнего порядка и становления нового. Хаос имеет своей предысторией определенную организацию и порядок, и сам является предпосылкой, фазой движения, перехода к будущему новому порядку.
С точки зрения И. Валлерстайна, «даже строго описываемые естественными науками динамические механические системы управляются стрелой времени и неизбежно отклоняются далеко от равновесия. Эти новые взгляды получили название теории неравновесности как потому, что они строятся на том, что ньютоновская определенность имеет место только в очень ограниченных и простых системах, так и потому, что, согласно им, Вселенная демонстрирует эволюционное нарастание сложности, и подавляющее большинство ситуаций не может быть объяснено исходя из тезисов о линейном равновесии и обратимости времени» [2003, с. 8].
Бифуркация – понятие, которое выражает стохастическое, предельно зыбкое и заключающее в себе веер возможностей, состояние неопределенности: любая ничтожная причина способна привести к радикальному изменению пути развития процесса. Случайность играет порой удивительную по мощи роль. Всеобщий характер таких критических моментов в развитии давно подмечен в самых разных сферах знания. Интересно, что Достоевский в «Записках из мертвого дома» описывает обычай, бытовавший среди ссыльных заключенных в России: они в буквальном смысле менялись местами на очередном этапе и затем шли каждый по новому маршруту, не надеясь что-то выгадать, а просто стремясь, как они говорили, «сменить судьбу». Другой пример: рассыпанный типографский шрифт в принципе может воссоздать любой известный текст. Вероятность крайне мала, но отлична от нуля. Однако мороз, рисующий на окне причудливые пейзажи, – гораздо более «упорядоченный» феномен.
Вместе с тем, далекий от равновесия («стабильности»), динамический хаос и самоорганизация, или порядок, – относительные противоположности. Они взаимодействуют в броуновском движении разнонаправленных, а также обратимых и необратимых агентов. Крайне важно, что в их неоднозначной совокупности «необратимость есть источник порядка на всех уровнях. Необратимость есть тот механизм, который создает порядок из хаоса» [Пригожин…, 1986, с. 363]. Проблема – в характере нового порядка, требующего выяснения степени его соответствия/несоответствия критериям общественного развития.
Эвристический потенциал и методологическая ценность синергетической методологии отчетливо выявляются в формировании метазнания о современном мире. Характерно, что Валлерстайн на основе синергетики делает «выводы и заключения политического характера». Один из них в том, что «вера в определенность – фундаментальная посылка модернити – обманчива и вредна». Напротив, «неопределенность прекрасна, а определенность, имей она место на самом деле, означала бы моральную смерть… Если же ничего не предопределено окончательно, то будущее открыто для творчества – как человеческого, так и всей природы. Оно открыто навстречу возможностям, а значит – и лучшему миру. Но мы можем войти к него, если только окажемся готовы ради его достижения затратить нашу… энергию и если будем готовы бороться с теми, кто под каким бы то ни было видом и любым предлогом предпочитает неэгалитарный, недемократический мир» [2003, с. 7, 9].
Стохастический характер современного развития и вместе с тем основания для поиска его вектора подчеркивает Н. Дж. Смелзер. Он обращает внимание на то, что «широкие преобразования в нынешнем мире… вырастают из индивидуальных и коллективных, сравнительно кратковременных реакций каких-то стран на их ближайшее экономическое и политическое окружение; при этом не слишком учитываются их долговременные последствия. Более долговременные преобразования (даже революции) – это чаще всего неожидавшиеся побочные эффекты более кратковременных реакций… можно сказать, космическое вырастает из банальности». Тем не менее, он пишет о «пульсациях истории», «главнейших всемирных преобразованиях», о том, что «мир движется вперед рывками, циклами, если не фазами». Описав развитие событий после Второй мировой войны, Смелзер отмечает, что они «образовали ситуационную среду для дальнейших действий государств», но и «имели результатом транснациональные тенденции». Далее – уже на языке «метаповествований» – анализируются «всемирные преобразования», как «революция в экономическом росте…демократическая революция…, революция солидарности и самобытности» и – скорее из области желаемого, чем действительного, «революция среды обитания» [1998, с. 17, 19, 22].
Пожалуй, самое радикальное из таких обобщений заключается в том, что вслед за А. Туреном Н. Смелзер отмечает «одно давнишнее и хорошо знакомое противоречие: тенденция победоносной войны международного капитализма увековечить, если не усугубить, крайнее неравенство среди классов и групп внутри государств, а также… между государствами. Хотя ныне Маркс не в моде в большей части мира, этот аспект марксистской мысли не должен выйти из моды» [1998, с. 22]. Показательно, что постижение такой закономерности мэтры современного знания в равной мере связывают как с марксистской, так и синергетической методологией.
Здесь уместно отметить принципиальное совпадение отношения творцов инновационных методологий к их эвристическому потенциалу. Выше уже отмечалось критическое отношение Маркса к априорному и доктринерскому манипулированию его методом. Характерно, что И. Пригожин также не возводит синергетику в абсолют и предупреждает, что универсализированная синергетическая методология провоцирует «ущербную онтологию» [Ilya…, 1998, с. 89, 90].
Это означает, что рассмотренные методологии, даже взятые в совокупности, не освобождают от конкретно-исторического постижения глобализации в современную эпоху, как и от претензии адептов представить глобализацию как постсовременную эпоху. Является ли глобализация качественно новой исторической эпохой, если исходить из того, что в когнитивном смысле эпоха – фундаментальное понятие для выражения предельно широкого (после масштаба всемирной истории), целостного и емкого хронотопа, или пространственно-временной структуры. Характер эпохи определяется ее зависимостью от специфических способов деятельности, присущей каждому из них мерой разрешения основного всемирно-исторического противоречия между гуманизаций/дегуманизацией, освобождением/отчуждением и в результате – основной направленностью развития ценностного, смыслообразующего ядра этих процессов.
Есть смысл акцентировать понятие переходной эпохи для выражения притяжения/отталкивания различных способов деятельности, смыслообразующих ядер нисходящих и восходящих культурно-цивилизационных комплексов (КЦК), их соперничества, в котором формируется и нарастает объективная тенденция перехода к новой исторической эпохе. В результате происходит переход от множества к единой планетарной цивилизации, и он означает испытание способности различных КЦК выжить на основе креативного Знания или погибнуть – не в последнюю очередь от неадекватно понятых вызовов глобализации.
Часть II
Современность как проблема глобализации
1. Фантомы и реалии глобализации
1.1. Какой Модерн не завершен?
«Порядок идей должен следовать за порядком вещей»
Дж. Вико
«Мы не могли расстаться с надеждой, что со временем будем делаться все разумнее, все независимее от внешних обстоятельств, более того – от самих себя. Слово «свобода» звучит так прекрасно, что от него невозможно отказаться, хотя бы оно и обозначало лишь заблуждение»
И. В. Гете
«Вывод витает в воздухе: проект модерна, по всей видимости, провалился»
У. Бек
Ставшая девизом этого раздела максима Дж. Вико трансформируется в не утративший акутальности вопрос классика: «Какое, милые, тысячелетье на дворе?». Физически – начало третьего миллениума, XXI столетия. Но по сути необходим концептуальный ответ на соотношение понятия «глобализация», претендующего на ключевую объяснительную роль, с важнейшими и претерпевающими существенное обновление концептами «модернити», «модернизм», «модернизация».
Изначально термин «модерн» (фр. modern – современный) был употреблен в V веке н. э. для различения официального статуса христианства, как официальной государственной идеологии в настоящем, и языческого прошлого Рима. С тех пор «модерным» принято считать все новое.
Интересное различение связанных с Модерном концептов предложил Д. Белл. С его точки зрения, «модернити – это отношение к миру. Даже в античных Афинах имелись серьезные элементы модернити. Первым, кого можно считать воплощением открытости миру, был Диоген. Модернити – это принятие открытости миру (оказывается, даже философствоваание в бочке не мешает открытости миру – И. Л.)… Напротив, модернизм – это исторически определенный культурный феномен… метод экспериментирования, способ восприятия различных жанров как таковых. Модернизация – еще один совершенно особый термин, обозначающий определенную форму рационализации, сведения воедино административных, политических и культурных элементов (везде курсив мой – И. Л.)» [Белл, Иноземцев, 2007, с. 206].
Затруднения в связи с выяснением иерархии этих понятий обусловлены по преимуществу традиционным временным (темпоральным) подходом. Согласно ему, модернизация – это решительно все процессы, которые протекают в условиях настоящего времени. Здесь сущностный анализ процессов подменяется апелляцией к тому, что они, независимо от своего характера, совершаются «здесь и сейчас». Открытой остается задача установления тех ценностей и смыслов, институтов и практик, которые являются определяющими для характеристики эпохи термином «современная». «Требуется ввести те или иные сущностные параметры… какие обычаи и институты современны, а какие – нет. Общество современно только при условии, что ряд ключевых для него институтов и типов поведения правомерно называть современными» [Виттрок, 2001, с. 141].
Основной источник затруднений – в ньютоновской редукции представлений об антропном времени как «вместилище событий», недооценке глубинных культурно-цивилизационных оснований прямых и обратных взаимосвязей между модернизацией и глобализацией.
Еще в 30-х гг. прошлого века английский политолог Б. Латур в книге «Мы никогда не были современными» поставил под сомнение сущностный смысл понятия Модерн – Современность [Latour, 1933]. С его точки зрения, «никто никогда не был современным. Эпоха модернити никогда не начиналась. Современного мира никогда не существовало. Здесь важно использование настоящего совершенного времени, так как речь идет о ретроспективном чувстве, о новом прочтении нашей истории. Я не говорю о том, что мы вступаем в новую эру; напротив, нам больше не нужно продолжать участие в безрассудной гонке пост-пост-постмодернистов, мы более не обязаны цепляться за авангард авангарда… постмодернисты утверждают, что они живут после эпохи, которая никогда не начиналась!… Нет, вместо этого мы обнаруживаем, что никогда не начинали вступать в современную эру» [Ibid., с. 47]. В этом смысле B. Валлерстайн обоснованно пишет, что «Латура ошибочно считают одним из представителей постмодернизма… Латур с равной силой критикует тех, кого называет антимодернистами, модернистами и постмодернистами. Для Латура все три группы едины в том, что считают мир, в котором мы живем последние несколько столетий, «современным», приписывая модернити «ускорение, прорыв, переворот во времени (в противоположность) архаичному и стабильному прошлому» [2003, с. 321].
Но, возможно, Латур не заметил слона? Согласно С. Хантингтону, мост из «отсталости» в «современность» лежит через модернизацию. Он называет главные характеристики модернизации: комплексный процесс, ибо он не сводится к какому-то одному аспекту, одной стороне, одному измерению общественной жизни: она охватывает общество полностью; системный процесс, потому что изменения одного фактора, одного фрагмента системы побуждают и определяют изменения в других факторах и фрагментах, и в результате происходит целостный системный переворот; революционный процесс, ибо он предполагает кардинальный характер изменений, радикальную и тотальную смену всех институтов, систем, структур общества и человеческой жизни; темпоральный процесс. Темпы изменений сейчас возрастают, но все равно модернизация требует времени, она происходит в течение жизни нескольких поколений; константный, ступенчатый процесс. Все общества, модернизируясь, должны пройти одни и те же стадии. Сколько каждому обществу осталось идти по пути модернизации, зависит от того, на какой стадии оно находится, когда начинает модернизационный процесс; гомогенизирующий процесс. Современные общества в основных своих структурах и проявлениях одинаковы; глобальный процесс. Зародившись в Европе, она приобретает ныне глобальный размах. Все страны были традиционными, все страны ныне либо стали современными, либо находятся в процессе движения к этому состоянию; наконец, необратимый процесс [Хантингтон, 1999].