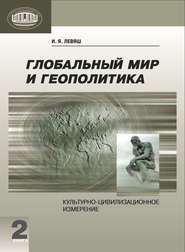По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Глобальный мир и геополитика. Культурно-цивилизационное измерение. Книга 1
Автор
Жанр
Год написания книги
2012
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Но, возможно, это более или менее впечатляющие феномены, которые можно интерпретировать как паразитирование на плодах запрограммированной на общественное благо информационной революции? Отнюдь. Немецкий эксперт отмечает, что, вопреки программной установке «большой семерки» на общество без классов, реалии таковы: «Доходы среднего класса, а также 20 % населения, составляющих низший слой американского общества, стабильно сокращаются, тогда как основной капитал сосредотачивается в руках высших социальных слоев, составляющих примерно 1/5 населения. В экономическом развитии Италии, Франции и Германии наблюдаются аналогичные тенденции». И далее – в глобальном ракурсе: «Опасения, что в результате такой политики может сложиться двухклассовое информационное общество, похоже, оправдываются… На мировом уровне проявляются контрасты в возможностях доступа к информационным системам между богатыми и бедными странами. Они имеют многообразные проявления в политике, экономике и культуре» [Там же, c. 72, 74].
Обратим внимание на системный характер выводов, к которым пришли независимые эксперты. Речь идет не об экзотических частностях или отчаянных контртенденциях в духе ретро, а о неспособности современного западного общества решить практико-гуманистическую сверхзадачу социального освобождения человека труда от всех исторически сложившихся в индустриальной цивилизации форм отчуждения – технологических и экономических, социальных и духовных, национальных и глобальных.
Отсюда и возврат к реализму недавних фундаторов и подвижников «постиндустриализма». Умолчание о нем характерно для последних работ Д. Белла. Интересно, что в совместной книге Д. Белла и В. Иноземцева «Эпоха разобщенности» [М., 2007], построенной в форме диалога, известный российский эксперт «в качестве основной темы предложил «вопросы технологического развития и эволюции постиндустриального общества», но «Белл ответил, что считает эту проблематику пройденным этапом» (с. 12). Это редкостный парадокс: еще в 1999 г. Д. Белл в предисловии к русскому изданию книги с обязывающим названием «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования», писал об этом, по крайней мере в заголовках, в futurum, а буквально через несколько лет уже назвал свою концепцию «пройденным этапом» (!).
В свою очередь, В. Иноземцев констатирует: «80-е годы принесли с собой множество перемен, которые воспринимались в основном в позитивном ключе; тогда и возникли многие теории, обращенные в будущее. Они как бы «подводили черту» под прошлым. Но затем оказалось, что изменилось немногое: мы никуда не ушли ни от экономического неравенства, ни от разделенности мира на «Север» и «Юг», ни даже от «советскости» постсоветского пространства… В мире существуют прежняя экономика и прежние социальные проблемы» [Белл, Иноземцев, Эпоха…, 2007, с. 74]. Теперь российский эксперт уже утверждает: «Нужно строить развитое индустриальное общество, которое одно и является предпосылкой постиндустриального» [Иноземцев, 2008].
Против такой логики в принципе нет возражений, но определение исторической перспективы не просто как неопределенного темпорального «пост», а в позитивных содержательных терминах, еще впереди. Это вовсе не означает, что у парадигмы «постиндустриального общества» вовсе нет оснований в современной реальности. Они заключаются в том, что в наиболее развитых обществах возникли и все более крепнут элементы действительно постиндустриального уклада, в котором снимаются традиционные противоречия и сущностные черты индустриального общества. Этот социотехнологический уклад основан на освобождении человекотворческого креативного потенциала и предполагает его интегральное, а не социально-дифференцированное расширенное воспроизводство. Нестрого его называют «обществом знаний», хотя от уклада, который здесь подразумевается, до действительно постиндустриального господствующего способа общественного производства – еще историческая «дистанция огромного размера».
1.4. Между логосом Модерна и хаокосмосом постмодерна
Мефистофель – Фаусту: «Ну что ж, дерзай, сверхчеловек!»
И. В. Гете
«Знать цену всему, но не придавать ценности ничему»
О. Уайльд
Многие исследователи глобализации обращают внимание на фундаментальный парадокс – чем больше гомогенности этот процесс продуцирует, тем больше гетерогенности выявляется на различных уровнях – региональных и локальных, групповых и индивидуальных. Особенно беспокоит распад традиционных социокультурных связей, атоматизация общества.
З. Бауман, по сути глобо-скептик, перевернул символические песочные часы и назвал свою книгу «Индивидуализированное общество» [2002].
Менее однозначна интерпретация глобального мира французским культур-социологом А. Туреном. С его точки зрения, «мы сталкиваемся с более сложным и более фундаментальным обособлением мира, чем это было известно Европе XIX столетия… мы видим усиление роста конфликтов на глобальном, национальном и индивидуальном уровнях между противоречивыми интерпретациями индивидуализации… эти проблемы оказываются более культурными, чем социальными… то, что мы сейчас ищем, практически оказывается точно тем же, как и мечта XVIII столетия, еще во времена Канта. Это означает необходимость вновь обрести ощущение мира, ощущение целостности мира, который не должен быть обособленным… И в первую очередь мы должны попытаться воссоединить то, что обособлено, и подвести к примирению… Тогда вот наши задачи – слом институциональных, социальных и культурных оков, освобождение индивидуализма, восприятие наслаждения, счастья и индивидуализации» [1998, с. 16].
Новая проблемная ситуация – поиска целостности мира в реалиях культурной «множественности миров» – противоборство мировоззрения Модерна со своим взбунтовавшимся Эдипом – постмодерном. Постмодерн (лат. postmodern – постсовременность) – широко распространенное, но крайне проблематичное и многозначное понятие, которое претендует на роль вербального символа конца эпохи Большого Модерна, в некоторых вариантах – эквивалента концепта «постиндустриального общества», но неизменно – как развертывание процесса тотального обновления социума, его движения к неопределенно новому состоянию или уже его достижения [Левяш, 2004, гл. 14]. Это течение включает множество взаимоисключающих версий. Широка амплитуда колебаний между умеренными и радикальными вариантами постмодерна, а тексты его адептов не лишены неосознанных противоречий и сознательного эпатажа. Все это затрудняет постижение его «лица необщего выраженья» как доктринального «изма». Ситуацию осложняет и «затемненная терминология сегодняшнего постмодернизма» (Р. Барт).
Постмодернистское неприятие Единого, или Абсолюта, представленного в культурно-цивилизационных текстах как меганарративы, – плод сомнений в содержательных смыслах целостных, связных, пронизанных сквозной логикой и претендующих на истинность, вербальных и иных символических повествований о картине мира человека и человека в мире.
Ж.-Ф. Лиотар с необычной для постмодерного стиля ясностью объясняет «неверие в меганарративы, разочарование в них» тем, что «мы заплатили достаточно высокую цену за ностальгию по целому и единому… Под благопристойными призывами к примирению мы можем расслышать… дыхание жажды вернуться к террору… Наш ответ: дайте нам вести нашу войну с тотальностью, с целым…дайте нам не сглаживать, а обострять различия и спасти честь имени» [Цит. по: Бернстайн, 2000, с. 118].
На гильотину такого радикализма выводятся практически все претендующие на истинность концепты. Они теряют «великую цель» и «высшие смыслы». С точки зрения Ж. Бодрийяра, происходит полная их «имплозия» – взрыв не вовне, а внутрь, не распространение взрывающегося вещества на окружающее, а его провал в себя и уничтожение [2000, с. 15].
Безапелляционность этих доводов – на этот раз уже постмодернистский меганарратив тотального скепсиса и отрицания. Этот феномен Ю. Хабермас называет кошмаром меганарративов. Радикальный постмодерн отрицает их в принципе. Однако здесь, вероятно, нечто большее – воспроизведение с обратным знаком, в иной форме «насилия и террора», или в терминах Р. Дж. Бернстайна, «трансагрессивный постмодернизм».
Конец «тотальной» философии не есть конец философии вообще. Такой подход, подчеркивает Бернстайн, означает, что «философия дает нам всеохватный внеисторический контекст, в котором всякий другой дискурс получает строго отведенное ему место и ранг» [2000, с. 113]. Возрождение философии, не порывающей с традицией Просвещения и вместе с тем адаптированной к новым реалиям «множественности миров», требует «отдать должное одновременно и универсальности и партикулярности (всеобщности и частности), …целостности и фрагментарности, научиться жить среди них, но не дать ни одной из них поглотить себя».
В обновленном идеале универсальные законы существуют «в пределах определенных исторических контекстов». Модерн является таким контекстом, который принуждает к изменению телеологических представлений об истории. По Э. Гидденсу, она «не вовсе, а лишь менее предсказуема». Это не «конец истории», а снижение статуса идеи прогресса, как линейного процесса. Вместо постмодернистской версии «смерти субъекта» (в рациональном виде – атомарного индивида эпохи Просвещения) происходит переосмысление его роли как раз благодаря эволюции Модерна.
В таком ракурсе манифестация Постмодерна-сына против своего отца-Модерна является радикальной лишь по-видимости. Об этом свидетельствует компромиссный смысл одного из базовых концептов постмодерна – ризома (франц. rhizome – корневище). Он манифестируется как альтернатива классического центрированного образа мира-древа, мира-корня как космоса Единого. Принцип древа-корня объявляется «теоремой диктатуры». В действительности оно всегда раздваивается на ось-стержень и более или менее многочисленную периферию-ветвления.
Основные свойства ризомы заключаются в том, что она «не сводится ни к Единому, ни к множественному. Это – не Единое… Но это и не множественное, которое происходит из Единого… Она состоит не из единств, а из измерений, точнее, из движущихся линий. У нее нет ни начала, ни конца, только середина, из которой она растет и выходит за ее пределы. Она образует многомерные линеарные множества без субъекта и объекта» [Философия…, 1996, с. 20, 21, 27].
Как протест против засилия мира-корня, «равновесия ради», можно понять лозунг: «Да здравствует множественное!». Но, оказывается, возможно и его примирение с Единым. Такая тенденция обнаруживается в идее равновесия корневой и ризомной моделей, их скрытой потребности «в более содержательном единстве» и «комплементарности». Реальны и такие ситуации, когда «субъект более не способен порождать дихотомию, зато он получил доступ к более высокому единству, …в измерении, дополнительном к измерению его объекта». Его назначение – создание, вместо космоцентричного образа мира-корня, образа хаосмоса. По У. Эко, ризома так устроена, что в ней нет центра, периферии и выхода. Потенциально такая структура безгранична.
Однако, столкнувшись с реалиями компаративного анализа Запада – Востока, постмодернисты уже не могут свести первый к древу, а второй – к ризоме и признают их «пересечение». Теперь, пишут Ж. Делез и Ф. Гваттари, «важно то, что дерево-корень и ризома-канал не противостоят друг другу как две модели», а сводимы к формуле «ПЛЮРАЛИЗМ=МОНИЗМ… Речь идет о модели, которая продолжает формироваться и углубляться, и о процессе, который развивается, совершенствуется…» [Там же, с. 26, 27].
Перед нами – очевидный софистический прием «подмены основания». Диалектический монизм предполагает плюрализм, но по определению не «равен» ему, поскольку первый всегда – инвариант своих взаимозаменяемых вариантов. Так, изложенные идеи – моменты постмодерна, представимого и без них и в иной форме, но духовная ситуация нашего времени уже не представима без постмодерна как относительно единого феномена. Если же, согласно авторам, познание мира – все же «процесс» (в единственном числе!), который «развивается, совершенствуется», то это категории чистопородного монизма, который не только не отвергает плюрализм – открытый, поливариантный характер любой модели, но и предполагает его. Так, ризома определяется, с одной стороны, как «система без Генерала, без… центрального автомата», а с другой – в ее «середине» помещается более определенное «плато… протяженное силовое поле, которое… формирует и распространяет ризому… природная реальность проявляется в недоразвитости главного корня, но его единство все-таки поддерживается насколько это возможно» [Там же, с. 11, 28].
Спроецированный на реалии глобализации, постмодерн пошатнул образ мира, как центрированного «Генерала» или «центрального автомата», и дополнил его децентрированным миром, но формула «монизм=плюрализм» и производная от нее модель мира, как «хаокосмоса», оказалась ненадежным инструментарием в интертекстуальном постижении мира как древовидного единства в ризоматическом многообразии. Напротив, такой когнитивный подход воспроизвел модель несмешиваемых и вместе с тем неустранимых индигриентов «кровавой Мэри», известных в манихейской традиции рядоположенных Добра и Зла, а со времен Канта – как неустранимые антиномии.
Характерный подход к глобализации в таком ключе представил российский политолог Ю. Красин. С его точки зрения, «трудности понимания и интерпретации процесса глобализации… во многом объясняются ярко выраженной антиномичностью развития мирового сообщества. Не просто наличием противоречий, которые снимаются переходом в новое качество, а именно антиномий, в которых противоположные тенденции сохраняют однопорядковые субстанциональные основы для своего постоянного воспроизводства. С одной стороны, тенденция к целостности человеческого социума, обусловленная интеграционными процессами. С другой стороны, тенденция к многообразию, обусловленная динамикой альтернативных форм жизнедеятельности и спецификой истории раскрытия потенциала, заложенного в разных социокультурных практиках и традициях… Мы находимся не просто в целостном мире, а в «мире миров».
Далее Красин констатировал, что в таком контексте «далеко не случайно появилась концепция постмодернизма. Она вырастает из процесса осознания бесконечного многообразия мира и, следовательно, релятивности общественных структур и способов жизнедеятельности, в том числе и международных реальностей. Постмодернизм доводит реальные тенденции до абсурда, до отрицания самой возможности социальной теории… Прежние социальные концепции и категории (антропоцентристское видение мира, отводящее природе и космосу роль «среды» в общественном процессе) перестают «работать», во всяком случае, в полной мере. Все острее ощущается нужда в новой системе взглядов…».
В отличие от постмодерна, автор отмечает «реальность глобализации… сегодня общество вышло на рубеж, возможно, самого крутого поворота к новой цивилизации, и именно этим определяется сама постановка вопроса о новой социальной теории, …ее содержания, методов познания, способов и форм развития, ее места и роли в общественной жизни, словом, методологии концептуального видения той действительности, которую мы обозначаем термином «социальное» [Актуальные…, 1999, с. 42, 44].
Но если это верно, то противоречия глобализации – отнюдь не антиномии, и первые, объективно существующие, могут быть постигнуты в обновленной теории и методологии. Эпицентром дискуссий в этой связи является проблема взаимоотношений между смыслообразующими концептами «модернизация» и «глобализация», хотя пока больше ясности в том, что объединяет, а не разъединяет эти феномены.
С позиций профессора университета Уэсли П. Ратленда, «до наступления глобализации экономическое и политическое развитие было принято трактовать диахронно, как смену стадий или событий пространственно разделенных границами суверенных государств. С приходом глобализации такое понимание истории человечества сменилось синхронным видением, которое фиксирует события одновременно, не разделяя их пространством и временем. Глобализация пришла на смену модернизации, которая была стадиальной теорией истории» [2002, с. 15].
Российские исследователи ставят такую стадиальную «смену» под сомнение, хотя и не отождествляют по объему модернизацию и глобализацию. М. Чешков полагает, что индустриально-модернистская форма глобального бытия и сознания, «достигая пика в середине XX в., …перерастает или переходит где-то на рубеже 70–80-х гг. в новую историческую разновидность глобальной общности человечества, которую, по аналогии с первой, можно определить как информационно-глобалистскую. В 80–90-х годы на наших глазах происходит трансформация первой формы во вторую или, точнее, одного исторического типа глобальной общности в другой ее тип» [1999, с. 45]. Означает ли это, что «вторая» глобализация – «по ту сторону» Модерна, или качественно новая стадия – информационный постмодерн?
На этой смысловой оси актуализируется рассмотренная выше проблема понимания сущности и смысла Модерна, как исторически определенной эпохи, и модернизации, как процесса становления и эволюции этой эпохи. В таком контексте закономерна планетарная экспансия Модерна, начиная от Великих географических открытий и уже в зрелом виде – в Новое время классического колониализма. Модерн создает систему «всеобщего общественного обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций» [Маркс…, т. 46, ч. I, с. 100–101]. Эта тенденция нашла свое выражение в жестко монистической гегелевской спирали восхождения мирового духа от восточного к греческому духу и, наконец, к германскому абсолютному духу. Однако, вопреки линеарной фаустовской интенции Модерна, такие мыслители, как Монтескье, Гердер, Руссо, позднее – Данилевский, Леонтьев, Шпенглер, Тойнби, Сорокин, развенчали миф о не знающей аналогов европоцентристской Цивилизации и представили мир в «цветущей сложности» культур.
С точки зрения В. Федотовой, «развитие… в условиях глобализации» означает, что «западные страны вступили в новую модернизацию, а незападные еще не завершили старой» [2002, с. 57]. В такой трактовке глобализация – симбиоз неомодернизации и интенции к завершению классической модернизации. Однако ее способы имеют альтернативный характер, включая попытки более «продвинутой» группы стран к «выпрямлению спирали» эволюции эпохи. Эта фундаментальная коллизия выражается в соотношении модернизации и вестернизации.
А. Уткин полагал, что это, «возможно, самая крупная мировая проблема сегодня», в решении которой сформировались два подхода. С позиций первого, глобализация – процесс более широкий, чем вестернизация. Такой точки зрения придерживаются А. Гидденс, Р. Робертсон, М. Олброу, У. Конноли. Восточноазиатские страны убедительно продемонстрировали потенциал тех обществ, где модернизация не коснулась их основополагающих устоев. Индустриализация во многом возможна без вестернизации. С позиции второго подхода, опирающегося прежде всего на теории С. Амина и Л. Бентона, глобализация представляет собой глобальную диффузию западного модернизма, то есть расширенную модернизацию, распространение западного капитализма и западных институтов… Когда мы говорим о «глобализации культуры», мы имеем в виду влияние культуры западной цивилизации, в особенности Америки, на все прочие цивилизации мира. «Основная проблема… в самой сути вопроса: может ли незападный мир вступить в фазу глобализации, не пережив предварительно вестернизации, не отказавшись от своей культуры ради достижения эффективных цивилизационных основ вестернизма?» [Уткин, 2000, с. 33, 35–36].
На этот вопрос отвечает Хантингтон: «С культурой, – на его взгляд, – происходит то же, что с мощью и влиянием. Если в незападных обществах культура Запада вновь займет главенствующее положение, то произойдет это только в результате западной экспансии. Империализм с необходимостью логически вытекает из универсализма, но лишь немногие приверженцы универсализма выступают за милитаризацию и применение силы, требующиеся для достижения их цели. Кроме того, будучи цивилизацией, приближающейся к зрелости, Запад уже не обладает достаточным экономическим или демографическим динамизмом, чтобы навязывать свою волю другим обществам… любые попытки такого рода противоречат западным ценностям самоопределения и демократии». И наконец: «Мир в своей основе становится все более современным и все менее западным» (Курсив мой – И. Л.)» [1996].
По мнению Хантингтона, модель вестернизации без модернизации (Египет, Филиппины) показала свою несостоятельность; модель модернизации без вестернизации (Юго-Восточная Азия) – свою ограниченность, недолговременность; догоняющая модель (Россия, Турция, Мексика) сегодня осложнена тем, что Запад перестал быть образцом развития для незападных стран, перешагнув в информационный мир. Остается одна модель – национальных модернизаций, которые могут быть осуществлены на уровне прежде осуществленных вестернизаций. В этом смысле Россия достаточно вестернизирована, хотя она и может еще заимствовать некоторые западные структуры. Ряд исследователей показали, что «Запад теряет статус модели развития, он выдвигает концепцию множества модернизмов, то есть национальных моделей модернизации» [Федотова, 2002, с. 57].
Следует ли из этого, что феномен множественности модернизмов объясняется влиянием постмодерна? Если они приводят к неразрешимым противоречиям – антиномиям и имплозии – распаду и взрыву «вовнутрь», возможно, да. Но в целом единство в многообразии – феномен столь же древний, как мир. Кстати, до и без всякого постмодерна, различные модели модерна, к примеру, французская или японская, не говоря уже об американской, обладают не только родовыми, но ярко выраженными видовыми свойствами. Гегель был проницателен в своей символике развития: «Большое старое дерево все больше разветвляется, не становясь тем самым новым деревом, однако безрассудно было бы не сажать новых деревьев только потому, что могут появиться новые ветви» [1990, с. 254].
Создается впечатление, что противоборство Модерна со своим Эдипом идет с переменным успехом. Однако иллюзии неуместны. Многие из нас, выламывающиеся из «цементированного Единого» былой моноидеологии, испытывают «влеченье – род недуга» к широковещательному имиджу постмодерна как богоборца – Прометея нашего времени. Он идентифицирует себя как бунт против диктатуры Единого и его проекции в мире царства Мамонны. Это действительно бунт, но на коленях, оппозиция всеядных интеллектуалов, отравленных скепсисом и озабоченных не столько переоценкой ценностей, сколько отрицанием любых ценностей и вместе с тем утилизацией их суррогатов. Это уже не союз Фауста с Мефистофелем во имя истины. Апеллируя к «среднему», но платежеспособному человеку-массе, постмодерн заключил с ним потребительский «союз».
Не должно быть заблуждений относительно программного в постмодерне прагматизма, утилитарных истоков постмодерной «культуры симулякрума», припавшей к истоку «полезности». Этот исток – организация общества, в котором меновая стоимость подменяет собой потребительскую стоимость. В такой среде «образ стал крайней формой товарного овеществления», а наиболее рентабельным – виртуальный капитал. Постмодерн, пишет Ф. Джеймисон, несет ответственность за то, что духовное производство «сегодня встроилось в товарное производство в целом: бешеная экономическая потребность производства… предписывает… все более существенную структурную функцию и место (в производстве)… нововведениям и экспериментам. Такие экономические потребности находят отклик в различных формах институциональной поддержки» [1996, с. 120]. Перед нами – далеко не всегда «постмодернистско-прагматическое недомогание» [ОНС, 1996. № 5, с. 130]. Это именно домогание коммерческо-прагматической полезности и, по Ж. Бодрийяру, «завороженность» ею на порядок девальвирует ценность постмодерна для культуры. Его вопрос: «Как быть с симуляцией добродетели?» – остается обращенным не только к миру, но и к самому себе.
Ответ постмодерна на адресованный Современности гамлетовский вопрос свидетельствует о глубокой противоречивости, «блеске и нищете» этого «ризомного», без видимых берегов, течения. Ариаднина нить его постижения, видимо, в том, что социуму раннего Модерна уже не быть, а быть ли его зрелому состоянию – открытая проблема с беспрецедентной степенью неопределенности. В этой многоликой одиссее причудливо притягивают и отталкивают друг друга ценности и смыслы уходящего мира, призрачного конца одной истории и тем более – совершенно неясного начала terra incognita.
Постмодерн – легитимное дитя декаданса не «силы», а «слабости» (по классификации Ницше), ситуации на грани бытия/небытия традиционных культурных ценностей и смыслов, свидетельство их системного несоответствия изменившейся культурно-цивилизационной реальности. Традиционная моно-истина, говоря ленинским присловьем, «крахнула». Но ее отрицание не стало кардинальной «переоценкой ценностей» как «снятием» их позитивного смысла и утверждением новых смыслов. Это главным образом отрицание ради отрицания, десакрализация во имя отказа от всякой сакральности, иными словами, «смерть» культуры.
Какова степень сопричастности постмодерна к этой «смерти»? Какую роль он объективно играет – одного из гробовщиков или даже виновников? Ответ не столь однозначен, но менее неопределенен, чем об этом вещают адепты постмодерна. Впрочем, неопределенность не как момент поиска истины и ценностей, а тотальное отрицание их смысла – если не кредо постмодерна, то одна из его «линий». В этом ключе он подобен панцирю черепахи. Попытка ее перевернуть открывает по меньшей мере две возможности видения этого феномена.
Как одна из форм мифологемного духовного производства, встроенного в систему товарных отношений и заигрывания с потребительскими стереотипами человека-массы и его респектабельных благотворителей, постмодерн вовсе не подобен господину Журдену, который свою прозу принимал за стихи. Необычная по форме прагматическая «проза» – цивилизационный феномен «восстания» той части гуманитарной элиты, которая домогается своей доли пирога от потребительского «восстания масс». Она сознательно ставит не на подлинную инновацию – преобразование ценностей и смыслов, а лишь интерпретирует их в неклассической интертекстуальности и «карнавальной» игре форм.
В таком русле постмодерн не создал ни единой принципиально новой фундаментальной ценности, тем более – смыслов. Это, писал по аналогичному поводу Гете, стиль «водянистой, расплывчатой, нулевой эпохи… Стиль, господствовавший доселе, не давал даже возможности отличить низкопробное от более высокого, ибо все влеклось к одинаково плоскому». И еще: «Плющ не имеет ствола, тем не менее, к чему бы он ни прильнул, он стремится играть главную роль. На старых стенах плющ вполне уместен, там уже нечего портить, но с новых строений его срывают… Из деревьев он высасывает соки. Но всего невыносимее… он становится тогда, когда, взобравшись на столб, старается нас уверить, что это живой столб, ибо он прикрыл его листвою» [Т. 3, с. 227, 463].
Во многом постмодерн – «величайшее мастерство и полное безлюдье» (Ортега-и-Гассет), симулякрумное производство, которое мимикрирует под культурное творчество. На его фронтоне – девиз О. Уайльда: «Знать цену всему, но не придавать ценности ничему». Кардинальная подмена творческого духа щедро оплачиваемым квазидуховным производством живо напоминает замечание Аристотеля о том, что «искать повсюду лишь одной пользы менее всего приличествует свободнорожденным и людям высоких душевных качеств». Если постмодерн не более чем производство «пользы», домогание не сути вещей, а «вещественности сути», то для его номинации с большой буквы, как следующей за Современностью эпохи Постсовременности, никаких веских оснований нет.
Если же постмодерн – все же поиск сути вещей, и, по Бодрийяру, не избежал «соблазна» культуротворчества, то оно – лишь технологично (и следует признать, включая высокие образцы). Это не означает, что он не является важным сегментом современной культурной ситуации. Постмодерн – все-таки бунт, и даже на коленях он наголову выше нирваны «слепой легитимации». Нельзя не видеть, что теоретики постмодерна обнажают существенные грани противоречий современного социума, по Ж.-Ф. Лиотару, «чужды разочарованию» и нередко не могут «вообразить себе радикальной критики, которая не мотивировалась бы в конечном счете каким-либо утверждением, сознается в этом критик или нет». В такой ипостаси, отмечает З. Бауман, постмодерн это еретик, который в своей эволюции стремится не отрицанию гуманизма, а скорее к переосмыслению его современной идеи [2002, с. 120].
Эти тенденции обогащают понимание Единого как не только причинно-следственной, но и функциональной, «ризомной» детерминации, стимулируют поливариативность постижения интертекстов, различения в них реалий и симулякров гиперреальности, побуждают к переосмыслению культурно-ценностного и цивилизационно-прагматического в человеческой деятельности.
В конечном счете, постмодерн гораздо больше, чем его прагматика, но заметно меньше, чем его претензия на роль Колумба новой эпохи. Постмодерн в русле Современности «поперек», но никак не за ее пределами. По сути он – одна из ипостасей постклассического Модерна, его по преимуществу «негативная диалектика», контркультура последнего поколения кризиса исторически первой формы модернизации, ее переосмысления на более зрелой стадии. Это течение не способно ни «отменить»центрированный, древовидный гештальт нашего времени, ни утвердить господство над ним децентрированного, ризомного гештальта. Однако это действительно нетривиальный ответ на угрозу «цветущей сложности» культуры в условиях становления планетарной цивилизации.
Характеризуя «блеск и нищету» постмодерна, Валлерстайн пишет: «Мне близки многие их (постмодернистов – И. Л.) критические позиции (к большинству из которых мы, однако, пришли раньше и сформулировали их более четко). Однако я в целом не считаю таковые ни достаточно «пост»-модернистскими, ни достаточно серьезно реконструирующими основы методологии. Их сторонники, и в этом можно быть уверенными, не сделают за нас нашу работу» [2003, с. 265]. Такая работа требует других альтернатив. Они заключаются в творческом переосмыслении классического наследия с целью постижения новых, порожденных глобализацией, закономерностей. На фронтоне этого труда девиз А. Камю: «За гранью нигилизма, среди развалин все мы готовим возрождение. Но мало кто об этом знает» [Камю, 1990, с. 355].
Обратим внимание на системный характер выводов, к которым пришли независимые эксперты. Речь идет не об экзотических частностях или отчаянных контртенденциях в духе ретро, а о неспособности современного западного общества решить практико-гуманистическую сверхзадачу социального освобождения человека труда от всех исторически сложившихся в индустриальной цивилизации форм отчуждения – технологических и экономических, социальных и духовных, национальных и глобальных.
Отсюда и возврат к реализму недавних фундаторов и подвижников «постиндустриализма». Умолчание о нем характерно для последних работ Д. Белла. Интересно, что в совместной книге Д. Белла и В. Иноземцева «Эпоха разобщенности» [М., 2007], построенной в форме диалога, известный российский эксперт «в качестве основной темы предложил «вопросы технологического развития и эволюции постиндустриального общества», но «Белл ответил, что считает эту проблематику пройденным этапом» (с. 12). Это редкостный парадокс: еще в 1999 г. Д. Белл в предисловии к русскому изданию книги с обязывающим названием «Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования», писал об этом, по крайней мере в заголовках, в futurum, а буквально через несколько лет уже назвал свою концепцию «пройденным этапом» (!).
В свою очередь, В. Иноземцев констатирует: «80-е годы принесли с собой множество перемен, которые воспринимались в основном в позитивном ключе; тогда и возникли многие теории, обращенные в будущее. Они как бы «подводили черту» под прошлым. Но затем оказалось, что изменилось немногое: мы никуда не ушли ни от экономического неравенства, ни от разделенности мира на «Север» и «Юг», ни даже от «советскости» постсоветского пространства… В мире существуют прежняя экономика и прежние социальные проблемы» [Белл, Иноземцев, Эпоха…, 2007, с. 74]. Теперь российский эксперт уже утверждает: «Нужно строить развитое индустриальное общество, которое одно и является предпосылкой постиндустриального» [Иноземцев, 2008].
Против такой логики в принципе нет возражений, но определение исторической перспективы не просто как неопределенного темпорального «пост», а в позитивных содержательных терминах, еще впереди. Это вовсе не означает, что у парадигмы «постиндустриального общества» вовсе нет оснований в современной реальности. Они заключаются в том, что в наиболее развитых обществах возникли и все более крепнут элементы действительно постиндустриального уклада, в котором снимаются традиционные противоречия и сущностные черты индустриального общества. Этот социотехнологический уклад основан на освобождении человекотворческого креативного потенциала и предполагает его интегральное, а не социально-дифференцированное расширенное воспроизводство. Нестрого его называют «обществом знаний», хотя от уклада, который здесь подразумевается, до действительно постиндустриального господствующего способа общественного производства – еще историческая «дистанция огромного размера».
1.4. Между логосом Модерна и хаокосмосом постмодерна
Мефистофель – Фаусту: «Ну что ж, дерзай, сверхчеловек!»
И. В. Гете
«Знать цену всему, но не придавать ценности ничему»
О. Уайльд
Многие исследователи глобализации обращают внимание на фундаментальный парадокс – чем больше гомогенности этот процесс продуцирует, тем больше гетерогенности выявляется на различных уровнях – региональных и локальных, групповых и индивидуальных. Особенно беспокоит распад традиционных социокультурных связей, атоматизация общества.
З. Бауман, по сути глобо-скептик, перевернул символические песочные часы и назвал свою книгу «Индивидуализированное общество» [2002].
Менее однозначна интерпретация глобального мира французским культур-социологом А. Туреном. С его точки зрения, «мы сталкиваемся с более сложным и более фундаментальным обособлением мира, чем это было известно Европе XIX столетия… мы видим усиление роста конфликтов на глобальном, национальном и индивидуальном уровнях между противоречивыми интерпретациями индивидуализации… эти проблемы оказываются более культурными, чем социальными… то, что мы сейчас ищем, практически оказывается точно тем же, как и мечта XVIII столетия, еще во времена Канта. Это означает необходимость вновь обрести ощущение мира, ощущение целостности мира, который не должен быть обособленным… И в первую очередь мы должны попытаться воссоединить то, что обособлено, и подвести к примирению… Тогда вот наши задачи – слом институциональных, социальных и культурных оков, освобождение индивидуализма, восприятие наслаждения, счастья и индивидуализации» [1998, с. 16].
Новая проблемная ситуация – поиска целостности мира в реалиях культурной «множественности миров» – противоборство мировоззрения Модерна со своим взбунтовавшимся Эдипом – постмодерном. Постмодерн (лат. postmodern – постсовременность) – широко распространенное, но крайне проблематичное и многозначное понятие, которое претендует на роль вербального символа конца эпохи Большого Модерна, в некоторых вариантах – эквивалента концепта «постиндустриального общества», но неизменно – как развертывание процесса тотального обновления социума, его движения к неопределенно новому состоянию или уже его достижения [Левяш, 2004, гл. 14]. Это течение включает множество взаимоисключающих версий. Широка амплитуда колебаний между умеренными и радикальными вариантами постмодерна, а тексты его адептов не лишены неосознанных противоречий и сознательного эпатажа. Все это затрудняет постижение его «лица необщего выраженья» как доктринального «изма». Ситуацию осложняет и «затемненная терминология сегодняшнего постмодернизма» (Р. Барт).
Постмодернистское неприятие Единого, или Абсолюта, представленного в культурно-цивилизационных текстах как меганарративы, – плод сомнений в содержательных смыслах целостных, связных, пронизанных сквозной логикой и претендующих на истинность, вербальных и иных символических повествований о картине мира человека и человека в мире.
Ж.-Ф. Лиотар с необычной для постмодерного стиля ясностью объясняет «неверие в меганарративы, разочарование в них» тем, что «мы заплатили достаточно высокую цену за ностальгию по целому и единому… Под благопристойными призывами к примирению мы можем расслышать… дыхание жажды вернуться к террору… Наш ответ: дайте нам вести нашу войну с тотальностью, с целым…дайте нам не сглаживать, а обострять различия и спасти честь имени» [Цит. по: Бернстайн, 2000, с. 118].
На гильотину такого радикализма выводятся практически все претендующие на истинность концепты. Они теряют «великую цель» и «высшие смыслы». С точки зрения Ж. Бодрийяра, происходит полная их «имплозия» – взрыв не вовне, а внутрь, не распространение взрывающегося вещества на окружающее, а его провал в себя и уничтожение [2000, с. 15].
Безапелляционность этих доводов – на этот раз уже постмодернистский меганарратив тотального скепсиса и отрицания. Этот феномен Ю. Хабермас называет кошмаром меганарративов. Радикальный постмодерн отрицает их в принципе. Однако здесь, вероятно, нечто большее – воспроизведение с обратным знаком, в иной форме «насилия и террора», или в терминах Р. Дж. Бернстайна, «трансагрессивный постмодернизм».
Конец «тотальной» философии не есть конец философии вообще. Такой подход, подчеркивает Бернстайн, означает, что «философия дает нам всеохватный внеисторический контекст, в котором всякий другой дискурс получает строго отведенное ему место и ранг» [2000, с. 113]. Возрождение философии, не порывающей с традицией Просвещения и вместе с тем адаптированной к новым реалиям «множественности миров», требует «отдать должное одновременно и универсальности и партикулярности (всеобщности и частности), …целостности и фрагментарности, научиться жить среди них, но не дать ни одной из них поглотить себя».
В обновленном идеале универсальные законы существуют «в пределах определенных исторических контекстов». Модерн является таким контекстом, который принуждает к изменению телеологических представлений об истории. По Э. Гидденсу, она «не вовсе, а лишь менее предсказуема». Это не «конец истории», а снижение статуса идеи прогресса, как линейного процесса. Вместо постмодернистской версии «смерти субъекта» (в рациональном виде – атомарного индивида эпохи Просвещения) происходит переосмысление его роли как раз благодаря эволюции Модерна.
В таком ракурсе манифестация Постмодерна-сына против своего отца-Модерна является радикальной лишь по-видимости. Об этом свидетельствует компромиссный смысл одного из базовых концептов постмодерна – ризома (франц. rhizome – корневище). Он манифестируется как альтернатива классического центрированного образа мира-древа, мира-корня как космоса Единого. Принцип древа-корня объявляется «теоремой диктатуры». В действительности оно всегда раздваивается на ось-стержень и более или менее многочисленную периферию-ветвления.
Основные свойства ризомы заключаются в том, что она «не сводится ни к Единому, ни к множественному. Это – не Единое… Но это и не множественное, которое происходит из Единого… Она состоит не из единств, а из измерений, точнее, из движущихся линий. У нее нет ни начала, ни конца, только середина, из которой она растет и выходит за ее пределы. Она образует многомерные линеарные множества без субъекта и объекта» [Философия…, 1996, с. 20, 21, 27].
Как протест против засилия мира-корня, «равновесия ради», можно понять лозунг: «Да здравствует множественное!». Но, оказывается, возможно и его примирение с Единым. Такая тенденция обнаруживается в идее равновесия корневой и ризомной моделей, их скрытой потребности «в более содержательном единстве» и «комплементарности». Реальны и такие ситуации, когда «субъект более не способен порождать дихотомию, зато он получил доступ к более высокому единству, …в измерении, дополнительном к измерению его объекта». Его назначение – создание, вместо космоцентричного образа мира-корня, образа хаосмоса. По У. Эко, ризома так устроена, что в ней нет центра, периферии и выхода. Потенциально такая структура безгранична.
Однако, столкнувшись с реалиями компаративного анализа Запада – Востока, постмодернисты уже не могут свести первый к древу, а второй – к ризоме и признают их «пересечение». Теперь, пишут Ж. Делез и Ф. Гваттари, «важно то, что дерево-корень и ризома-канал не противостоят друг другу как две модели», а сводимы к формуле «ПЛЮРАЛИЗМ=МОНИЗМ… Речь идет о модели, которая продолжает формироваться и углубляться, и о процессе, который развивается, совершенствуется…» [Там же, с. 26, 27].
Перед нами – очевидный софистический прием «подмены основания». Диалектический монизм предполагает плюрализм, но по определению не «равен» ему, поскольку первый всегда – инвариант своих взаимозаменяемых вариантов. Так, изложенные идеи – моменты постмодерна, представимого и без них и в иной форме, но духовная ситуация нашего времени уже не представима без постмодерна как относительно единого феномена. Если же, согласно авторам, познание мира – все же «процесс» (в единственном числе!), который «развивается, совершенствуется», то это категории чистопородного монизма, который не только не отвергает плюрализм – открытый, поливариантный характер любой модели, но и предполагает его. Так, ризома определяется, с одной стороны, как «система без Генерала, без… центрального автомата», а с другой – в ее «середине» помещается более определенное «плато… протяженное силовое поле, которое… формирует и распространяет ризому… природная реальность проявляется в недоразвитости главного корня, но его единство все-таки поддерживается насколько это возможно» [Там же, с. 11, 28].
Спроецированный на реалии глобализации, постмодерн пошатнул образ мира, как центрированного «Генерала» или «центрального автомата», и дополнил его децентрированным миром, но формула «монизм=плюрализм» и производная от нее модель мира, как «хаокосмоса», оказалась ненадежным инструментарием в интертекстуальном постижении мира как древовидного единства в ризоматическом многообразии. Напротив, такой когнитивный подход воспроизвел модель несмешиваемых и вместе с тем неустранимых индигриентов «кровавой Мэри», известных в манихейской традиции рядоположенных Добра и Зла, а со времен Канта – как неустранимые антиномии.
Характерный подход к глобализации в таком ключе представил российский политолог Ю. Красин. С его точки зрения, «трудности понимания и интерпретации процесса глобализации… во многом объясняются ярко выраженной антиномичностью развития мирового сообщества. Не просто наличием противоречий, которые снимаются переходом в новое качество, а именно антиномий, в которых противоположные тенденции сохраняют однопорядковые субстанциональные основы для своего постоянного воспроизводства. С одной стороны, тенденция к целостности человеческого социума, обусловленная интеграционными процессами. С другой стороны, тенденция к многообразию, обусловленная динамикой альтернативных форм жизнедеятельности и спецификой истории раскрытия потенциала, заложенного в разных социокультурных практиках и традициях… Мы находимся не просто в целостном мире, а в «мире миров».
Далее Красин констатировал, что в таком контексте «далеко не случайно появилась концепция постмодернизма. Она вырастает из процесса осознания бесконечного многообразия мира и, следовательно, релятивности общественных структур и способов жизнедеятельности, в том числе и международных реальностей. Постмодернизм доводит реальные тенденции до абсурда, до отрицания самой возможности социальной теории… Прежние социальные концепции и категории (антропоцентристское видение мира, отводящее природе и космосу роль «среды» в общественном процессе) перестают «работать», во всяком случае, в полной мере. Все острее ощущается нужда в новой системе взглядов…».
В отличие от постмодерна, автор отмечает «реальность глобализации… сегодня общество вышло на рубеж, возможно, самого крутого поворота к новой цивилизации, и именно этим определяется сама постановка вопроса о новой социальной теории, …ее содержания, методов познания, способов и форм развития, ее места и роли в общественной жизни, словом, методологии концептуального видения той действительности, которую мы обозначаем термином «социальное» [Актуальные…, 1999, с. 42, 44].
Но если это верно, то противоречия глобализации – отнюдь не антиномии, и первые, объективно существующие, могут быть постигнуты в обновленной теории и методологии. Эпицентром дискуссий в этой связи является проблема взаимоотношений между смыслообразующими концептами «модернизация» и «глобализация», хотя пока больше ясности в том, что объединяет, а не разъединяет эти феномены.
С позиций профессора университета Уэсли П. Ратленда, «до наступления глобализации экономическое и политическое развитие было принято трактовать диахронно, как смену стадий или событий пространственно разделенных границами суверенных государств. С приходом глобализации такое понимание истории человечества сменилось синхронным видением, которое фиксирует события одновременно, не разделяя их пространством и временем. Глобализация пришла на смену модернизации, которая была стадиальной теорией истории» [2002, с. 15].
Российские исследователи ставят такую стадиальную «смену» под сомнение, хотя и не отождествляют по объему модернизацию и глобализацию. М. Чешков полагает, что индустриально-модернистская форма глобального бытия и сознания, «достигая пика в середине XX в., …перерастает или переходит где-то на рубеже 70–80-х гг. в новую историческую разновидность глобальной общности человечества, которую, по аналогии с первой, можно определить как информационно-глобалистскую. В 80–90-х годы на наших глазах происходит трансформация первой формы во вторую или, точнее, одного исторического типа глобальной общности в другой ее тип» [1999, с. 45]. Означает ли это, что «вторая» глобализация – «по ту сторону» Модерна, или качественно новая стадия – информационный постмодерн?
На этой смысловой оси актуализируется рассмотренная выше проблема понимания сущности и смысла Модерна, как исторически определенной эпохи, и модернизации, как процесса становления и эволюции этой эпохи. В таком контексте закономерна планетарная экспансия Модерна, начиная от Великих географических открытий и уже в зрелом виде – в Новое время классического колониализма. Модерн создает систему «всеобщего общественного обмена веществ, универсальных отношений, всесторонних потребностей и универсальных потенций» [Маркс…, т. 46, ч. I, с. 100–101]. Эта тенденция нашла свое выражение в жестко монистической гегелевской спирали восхождения мирового духа от восточного к греческому духу и, наконец, к германскому абсолютному духу. Однако, вопреки линеарной фаустовской интенции Модерна, такие мыслители, как Монтескье, Гердер, Руссо, позднее – Данилевский, Леонтьев, Шпенглер, Тойнби, Сорокин, развенчали миф о не знающей аналогов европоцентристской Цивилизации и представили мир в «цветущей сложности» культур.
С точки зрения В. Федотовой, «развитие… в условиях глобализации» означает, что «западные страны вступили в новую модернизацию, а незападные еще не завершили старой» [2002, с. 57]. В такой трактовке глобализация – симбиоз неомодернизации и интенции к завершению классической модернизации. Однако ее способы имеют альтернативный характер, включая попытки более «продвинутой» группы стран к «выпрямлению спирали» эволюции эпохи. Эта фундаментальная коллизия выражается в соотношении модернизации и вестернизации.
А. Уткин полагал, что это, «возможно, самая крупная мировая проблема сегодня», в решении которой сформировались два подхода. С позиций первого, глобализация – процесс более широкий, чем вестернизация. Такой точки зрения придерживаются А. Гидденс, Р. Робертсон, М. Олброу, У. Конноли. Восточноазиатские страны убедительно продемонстрировали потенциал тех обществ, где модернизация не коснулась их основополагающих устоев. Индустриализация во многом возможна без вестернизации. С позиции второго подхода, опирающегося прежде всего на теории С. Амина и Л. Бентона, глобализация представляет собой глобальную диффузию западного модернизма, то есть расширенную модернизацию, распространение западного капитализма и западных институтов… Когда мы говорим о «глобализации культуры», мы имеем в виду влияние культуры западной цивилизации, в особенности Америки, на все прочие цивилизации мира. «Основная проблема… в самой сути вопроса: может ли незападный мир вступить в фазу глобализации, не пережив предварительно вестернизации, не отказавшись от своей культуры ради достижения эффективных цивилизационных основ вестернизма?» [Уткин, 2000, с. 33, 35–36].
На этот вопрос отвечает Хантингтон: «С культурой, – на его взгляд, – происходит то же, что с мощью и влиянием. Если в незападных обществах культура Запада вновь займет главенствующее положение, то произойдет это только в результате западной экспансии. Империализм с необходимостью логически вытекает из универсализма, но лишь немногие приверженцы универсализма выступают за милитаризацию и применение силы, требующиеся для достижения их цели. Кроме того, будучи цивилизацией, приближающейся к зрелости, Запад уже не обладает достаточным экономическим или демографическим динамизмом, чтобы навязывать свою волю другим обществам… любые попытки такого рода противоречат западным ценностям самоопределения и демократии». И наконец: «Мир в своей основе становится все более современным и все менее западным» (Курсив мой – И. Л.)» [1996].
По мнению Хантингтона, модель вестернизации без модернизации (Египет, Филиппины) показала свою несостоятельность; модель модернизации без вестернизации (Юго-Восточная Азия) – свою ограниченность, недолговременность; догоняющая модель (Россия, Турция, Мексика) сегодня осложнена тем, что Запад перестал быть образцом развития для незападных стран, перешагнув в информационный мир. Остается одна модель – национальных модернизаций, которые могут быть осуществлены на уровне прежде осуществленных вестернизаций. В этом смысле Россия достаточно вестернизирована, хотя она и может еще заимствовать некоторые западные структуры. Ряд исследователей показали, что «Запад теряет статус модели развития, он выдвигает концепцию множества модернизмов, то есть национальных моделей модернизации» [Федотова, 2002, с. 57].
Следует ли из этого, что феномен множественности модернизмов объясняется влиянием постмодерна? Если они приводят к неразрешимым противоречиям – антиномиям и имплозии – распаду и взрыву «вовнутрь», возможно, да. Но в целом единство в многообразии – феномен столь же древний, как мир. Кстати, до и без всякого постмодерна, различные модели модерна, к примеру, французская или японская, не говоря уже об американской, обладают не только родовыми, но ярко выраженными видовыми свойствами. Гегель был проницателен в своей символике развития: «Большое старое дерево все больше разветвляется, не становясь тем самым новым деревом, однако безрассудно было бы не сажать новых деревьев только потому, что могут появиться новые ветви» [1990, с. 254].
Создается впечатление, что противоборство Модерна со своим Эдипом идет с переменным успехом. Однако иллюзии неуместны. Многие из нас, выламывающиеся из «цементированного Единого» былой моноидеологии, испытывают «влеченье – род недуга» к широковещательному имиджу постмодерна как богоборца – Прометея нашего времени. Он идентифицирует себя как бунт против диктатуры Единого и его проекции в мире царства Мамонны. Это действительно бунт, но на коленях, оппозиция всеядных интеллектуалов, отравленных скепсисом и озабоченных не столько переоценкой ценностей, сколько отрицанием любых ценностей и вместе с тем утилизацией их суррогатов. Это уже не союз Фауста с Мефистофелем во имя истины. Апеллируя к «среднему», но платежеспособному человеку-массе, постмодерн заключил с ним потребительский «союз».
Не должно быть заблуждений относительно программного в постмодерне прагматизма, утилитарных истоков постмодерной «культуры симулякрума», припавшей к истоку «полезности». Этот исток – организация общества, в котором меновая стоимость подменяет собой потребительскую стоимость. В такой среде «образ стал крайней формой товарного овеществления», а наиболее рентабельным – виртуальный капитал. Постмодерн, пишет Ф. Джеймисон, несет ответственность за то, что духовное производство «сегодня встроилось в товарное производство в целом: бешеная экономическая потребность производства… предписывает… все более существенную структурную функцию и место (в производстве)… нововведениям и экспериментам. Такие экономические потребности находят отклик в различных формах институциональной поддержки» [1996, с. 120]. Перед нами – далеко не всегда «постмодернистско-прагматическое недомогание» [ОНС, 1996. № 5, с. 130]. Это именно домогание коммерческо-прагматической полезности и, по Ж. Бодрийяру, «завороженность» ею на порядок девальвирует ценность постмодерна для культуры. Его вопрос: «Как быть с симуляцией добродетели?» – остается обращенным не только к миру, но и к самому себе.
Ответ постмодерна на адресованный Современности гамлетовский вопрос свидетельствует о глубокой противоречивости, «блеске и нищете» этого «ризомного», без видимых берегов, течения. Ариаднина нить его постижения, видимо, в том, что социуму раннего Модерна уже не быть, а быть ли его зрелому состоянию – открытая проблема с беспрецедентной степенью неопределенности. В этой многоликой одиссее причудливо притягивают и отталкивают друг друга ценности и смыслы уходящего мира, призрачного конца одной истории и тем более – совершенно неясного начала terra incognita.
Постмодерн – легитимное дитя декаданса не «силы», а «слабости» (по классификации Ницше), ситуации на грани бытия/небытия традиционных культурных ценностей и смыслов, свидетельство их системного несоответствия изменившейся культурно-цивилизационной реальности. Традиционная моно-истина, говоря ленинским присловьем, «крахнула». Но ее отрицание не стало кардинальной «переоценкой ценностей» как «снятием» их позитивного смысла и утверждением новых смыслов. Это главным образом отрицание ради отрицания, десакрализация во имя отказа от всякой сакральности, иными словами, «смерть» культуры.
Какова степень сопричастности постмодерна к этой «смерти»? Какую роль он объективно играет – одного из гробовщиков или даже виновников? Ответ не столь однозначен, но менее неопределенен, чем об этом вещают адепты постмодерна. Впрочем, неопределенность не как момент поиска истины и ценностей, а тотальное отрицание их смысла – если не кредо постмодерна, то одна из его «линий». В этом ключе он подобен панцирю черепахи. Попытка ее перевернуть открывает по меньшей мере две возможности видения этого феномена.
Как одна из форм мифологемного духовного производства, встроенного в систему товарных отношений и заигрывания с потребительскими стереотипами человека-массы и его респектабельных благотворителей, постмодерн вовсе не подобен господину Журдену, который свою прозу принимал за стихи. Необычная по форме прагматическая «проза» – цивилизационный феномен «восстания» той части гуманитарной элиты, которая домогается своей доли пирога от потребительского «восстания масс». Она сознательно ставит не на подлинную инновацию – преобразование ценностей и смыслов, а лишь интерпретирует их в неклассической интертекстуальности и «карнавальной» игре форм.
В таком русле постмодерн не создал ни единой принципиально новой фундаментальной ценности, тем более – смыслов. Это, писал по аналогичному поводу Гете, стиль «водянистой, расплывчатой, нулевой эпохи… Стиль, господствовавший доселе, не давал даже возможности отличить низкопробное от более высокого, ибо все влеклось к одинаково плоскому». И еще: «Плющ не имеет ствола, тем не менее, к чему бы он ни прильнул, он стремится играть главную роль. На старых стенах плющ вполне уместен, там уже нечего портить, но с новых строений его срывают… Из деревьев он высасывает соки. Но всего невыносимее… он становится тогда, когда, взобравшись на столб, старается нас уверить, что это живой столб, ибо он прикрыл его листвою» [Т. 3, с. 227, 463].
Во многом постмодерн – «величайшее мастерство и полное безлюдье» (Ортега-и-Гассет), симулякрумное производство, которое мимикрирует под культурное творчество. На его фронтоне – девиз О. Уайльда: «Знать цену всему, но не придавать ценности ничему». Кардинальная подмена творческого духа щедро оплачиваемым квазидуховным производством живо напоминает замечание Аристотеля о том, что «искать повсюду лишь одной пользы менее всего приличествует свободнорожденным и людям высоких душевных качеств». Если постмодерн не более чем производство «пользы», домогание не сути вещей, а «вещественности сути», то для его номинации с большой буквы, как следующей за Современностью эпохи Постсовременности, никаких веских оснований нет.
Если же постмодерн – все же поиск сути вещей, и, по Бодрийяру, не избежал «соблазна» культуротворчества, то оно – лишь технологично (и следует признать, включая высокие образцы). Это не означает, что он не является важным сегментом современной культурной ситуации. Постмодерн – все-таки бунт, и даже на коленях он наголову выше нирваны «слепой легитимации». Нельзя не видеть, что теоретики постмодерна обнажают существенные грани противоречий современного социума, по Ж.-Ф. Лиотару, «чужды разочарованию» и нередко не могут «вообразить себе радикальной критики, которая не мотивировалась бы в конечном счете каким-либо утверждением, сознается в этом критик или нет». В такой ипостаси, отмечает З. Бауман, постмодерн это еретик, который в своей эволюции стремится не отрицанию гуманизма, а скорее к переосмыслению его современной идеи [2002, с. 120].
Эти тенденции обогащают понимание Единого как не только причинно-следственной, но и функциональной, «ризомной» детерминации, стимулируют поливариативность постижения интертекстов, различения в них реалий и симулякров гиперреальности, побуждают к переосмыслению культурно-ценностного и цивилизационно-прагматического в человеческой деятельности.
В конечном счете, постмодерн гораздо больше, чем его прагматика, но заметно меньше, чем его претензия на роль Колумба новой эпохи. Постмодерн в русле Современности «поперек», но никак не за ее пределами. По сути он – одна из ипостасей постклассического Модерна, его по преимуществу «негативная диалектика», контркультура последнего поколения кризиса исторически первой формы модернизации, ее переосмысления на более зрелой стадии. Это течение не способно ни «отменить»центрированный, древовидный гештальт нашего времени, ни утвердить господство над ним децентрированного, ризомного гештальта. Однако это действительно нетривиальный ответ на угрозу «цветущей сложности» культуры в условиях становления планетарной цивилизации.
Характеризуя «блеск и нищету» постмодерна, Валлерстайн пишет: «Мне близки многие их (постмодернистов – И. Л.) критические позиции (к большинству из которых мы, однако, пришли раньше и сформулировали их более четко). Однако я в целом не считаю таковые ни достаточно «пост»-модернистскими, ни достаточно серьезно реконструирующими основы методологии. Их сторонники, и в этом можно быть уверенными, не сделают за нас нашу работу» [2003, с. 265]. Такая работа требует других альтернатив. Они заключаются в творческом переосмыслении классического наследия с целью постижения новых, порожденных глобализацией, закономерностей. На фронтоне этого труда девиз А. Камю: «За гранью нигилизма, среди развалин все мы готовим возрождение. Но мало кто об этом знает» [Камю, 1990, с. 355].