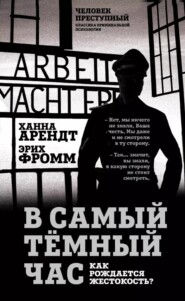По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Гаус: Такой была ваша реакция, когда вы приехали в 1949 году?
Арендт: Более или менее. И сегодня, когда все вернулось на свои места, дистанция, которую я ощущаю, стала больше, чем раньше, когда я воспринимала те вещи очень эмоционально.
Гаус: Потому что все вернулось на свои места слишком быстро, по вашему мнению?
Арендт: Да. И часто на то место, с которым я не согласна. Но я не чувствую себя ответственной за это. Я теперь смотрю на это извне. И это означает, что я гораздо меньше вовлечена, чем тогда. Возможно, из-за времени. Послушайте, пятнадцать лет – это не шутка!
Гаус: Вы стали более равнодушны?
Арендт: Дистанцирована… равнодушна – это слишком. Но есть дистанция.
Гаус: Госпожа Арендт, ваша книга о процессе над Эйхманом в Иерусалиме была опубликована этой осенью в ФРГ. Со времени ее публикации в Америке вашу книгу горячо обсуждали. Особенно с еврейской стороны прозвучали возражения, которые, как вы говорите, частично основываются на неверном понимании и частично на умышленной политической кампании. Прежде всего, людей оскорбил поднимаемый вами вопрос, насколько евреи сами виноваты в их пассивном приятии массовых убийств в Германии или насколько сотрудничество определенных еврейских советов практически раскрывает их собственную вину. В любом случае к портрету Ханны Арендт, так сказать, эта книга ставит ряд вопросов. Если можно, я начну с такого: критика, что в вашей книге не хватает любви к евреям, болезненна для вас?
Арендт: Прежде всего, я должна, при всем дружелюбии, заметить, что вы сами стали жертвой этой кампании. Нигде в моей книге я не обвиняю еврейский народ в непротивлении. Другие делали это на процессе Эйхмана, а именно господин Хауснер из израильской прокуратуры. Я назвала такие вопросы, обращенные к свидетелям в Иерусалиме глупыми и жестокими.
Гаус: Я читал книгу. Я знаю это. Но часть критики основывается на тоне, каким написаны многие пассажи.
Арендт: Ладно, это другое дело. Что я могу сказать? Кроме того, я не хочу что-то говорить. Если люди думают, что можно написать об этих вещах торжественным тоном… Смотрите, есть люди, которые обиделись – и в какой-то степени я могу это понять, – что, например, я все еще могу смеяться. Но я действительно считала, что Эйхман – дурак. Я расскажу вам: я читала стенограмму его допроса, три тысячи шестьсот страниц, читала ее очень внимательно, и я не знаю, сколько раз я смеялась – и громко! У многих такая реакция вызвала неприязнь. Я ничего не могу с этим поделать. Но я знаю одну вещь: за три минуты до смерти я, возможно, снова засмеюсь. И это, говорят они, тон. Что тон голоса особенно ироничен – полная правда. Тон же в этом случае действительно личный. Когда люди упрекают меня в обвинении еврейского народа, это злобная ложь и пропаганда, и ничего больше. Однако недовольство тоном – это недовольство лично мною. И я не могу с этим ничего поделать.
Гаус: Вы готовы смириться с этим?
Арендт: Да, готова. Что еще можно сделать? Я не могу сказать людям: вы меня неправильно поняли и на самом деле в душе у меня происходит то-то и то-то. Это смешно.
Гаус: В связи с этим я бы хотел вернуться к вашему заявлению. Вы сказали: «Я никогда в моей жизни не „любила“ людей или общества: ни немцев, ни французов, ни американцев, ни рабочий класс или что-то в этом роде. Я в действительности люблю только моих друзей, и это единственный род любви, который я знаю и в который верю, – это любовь к конкретным людям. Более того, эта „любовь к евреям“ кажется мне, поскольку я сама еврейка, чем-то довольно подозрительным»[49 - Арендт – Шолему, 24 июля 1963 г. – Прим. ред.]. Можно я кое-что спрошу? Как политически действующее существо, не нуждается ли человек в привязанности к группе, привязанности, которая до некоторой степени может называться любовью? Вы не боитесь, что ваше отношение может быть политически бесплодным?
Арендт: Нет. Надо сказать, это другое отношение, которое политически бесплодно. В первую очередь, принадлежность к группе – это естественное состояние. Ты всегда принадлежишь к некоей группе по рождению. Но принадлежать к группе так, как вы подразумеваете, в другом смысле, означает создать организованную группу или присоединиться к ней, а это что-то совсем другое. Этот вид организации связан с отношением к миру. Люди, которых организуют, имеют нечто общее, что обычно называется интересами. Непосредственно личное отношение, где можно говорить о любви, конечно, существует прежде всего в настоящей любви и в определенном смысле в дружбе. Там напрямую обращаешься к личности, независимо от отношения к миру. Так, люди в самых противоположных организациях могут оставаться друзьями. Но если вы путаете эти вещи, если вы приносите любовь на стол переговоров, грубо говоря, я считаю это фатальным.
Гаус: Вы находите это аполитичным?
Арендт: Я нахожу это аполитичным. Я нахожу это безмирным. И я действительно считаю это огромной катастрофой. Я признаю, что евреи – классический пример безмирного народа, сохранявшегося тысячелетиями.
Гаус: «Мир» понимается в смысле вашей терминологии как пространство для политики.
Арендт: Как пространство для политики.
Гаус: Таким образом евреи – аполитичны?
Арендт: Я бы не сказала об этом именно так, потому что общины бывали, конечно, до определенной степени также политическими. Еврейская религия – это национальная религия. Но понятие политического было применимо только с большими оговорками. Эта безмирность, от которой евреи страдали, пребывая в рассеянии, и которая – как у всех народов-парий – создает особенное тепло среди тех, кто к ним принадлежит, изменилась с основанием государства Израиль.
Гаус: Было ли что-то утеряно, то есть что-то, о чем вы жалеете?
Арендт: Да, за свободу платят дорого. Специфически еврейская человечность, основанная на их безмирности, была чем-то очень прекрасным. Вы слишком молоды, чтобы это испытать. Но это было что-то очень прекрасное, это стояние вне всех социальных связей, полная открытость ума и отсутствие предубеждений, которое я испытала, особенно с моей матерью, так же относилось ко всему еврейскому сообществу. Конечно, многое с тех пор было потеряно. За освобождение приходится платить. Я однажды сказала в моей речи о Лессинге…
Гаус: в Гамбурге в 1959 году…[50 - См. речь Арендт на вручении премии Лессинга от свободного города Гамбурга: Ханна Арендт, «О человечности в темные времена: мысли о Лессинге», в: Ханна Арендт, Люди в темные времена (Москва: Московская школа политических исследований, 2003), с. 11–44. – Прим. ред.]Арендт: Да, там я сказала, что «человечность… никогда еще не переживала час освобождения даже на минуту». Видите, что это произошло и с нами.
Гаус: Вы не хотели бы изменить это?
Арендт: Нет. Я знаю, что за свободу надо платить высокую цену. Но я не могу сказать, что мне нравится за нее платить.
Гаус: Госпожа Арендт, не считаете ли вы своим долгом – публиковать все, к чему вы пришли в результате политико-философских размышлений или социологического анализа? Или есть причины молчать о чем-то, что вы знаете?
Арендт: Да, это очень тяжелая проблема. Она лежит в основе единственного вопроса, который меня интересует во всей полемике о книге об Эйхмане. Но это вопрос, который никогда бы не встал, если бы я не подняла его. Это единственный серьезный вопрос, все остальное – пустая пропаганда. Итак, fiat veritas, et pereat mundus [пусть даже рухнет мир, но истина должна восторжествовать]? Но книга об Эйхмане де-факто даже не касалась этих вещей. Книга на самом деле не задевает ничьих легитимных интересов. Она была только задумана такой.
Гаус: Вы должны оставить вопрос о том, что легитимно, открытым для обсуждения.
Арендт: Да, действительно. Вы правы. Вопрос о том, что легитимно, все еще открыт для обсуждения. Я вероятно под «легитимностью» имею в виду нечто другое, чем еврейские организации. Но давайте предположим, что на кону были реальные интересы, которые даже я признаю.
Гаус: Можно ли умолчать об истине?
Арендт: Могла ли я? Да! Конечно, я могла написать это… Но смотрите, кто-то спросил меня, если я принимала участие в том или этом, разве я не должна была написать книгу об Эйхмане по-другому? Я ответила: Нет. Я столкнулась с выбором: писать или не писать. Потому что можно держать язык за зубами.
Гаус: Да.
Арендт: Не всегда надо говорить. Но сейчас мы пришли к вопросу, который в XVIII веке называли «правда факта». Это действительно вопрос правды факта. Это не вопрос мнений. Исторические науки в университетах являются хранителями правды факта.
Гаус: Они не всегда были лучшими.
Арендт: Нет. Они потерпели крах. Они контролируются государством. Мне рассказывали, что историк заметил по поводу какой-то книги об истоках Первой мировой войны: «Я никому не дам запятнать память о таком духоподъемном времени!» Вот человек, который не знает, кто он такой. Но это не так интересно. Де-факто он хранитель исторической правды, правды фактов. И мы знаем, как важны эти хранители на примере большевиков, где история переписывалась каждые пять лет и факты остаются неизвестными: например, что был когда-то Троцкий. Это то, чего мы хотим? В этом заинтересовано правительство?
Гаус
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера: