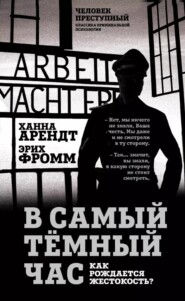По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Для Арендт революцией в философии было обращение внутрь, не в интроспективном, психологическом смысле, а вследствие того, что ее мышление освободилось от систематических рационализаций природного и исторического миров, унаследованных от предыдущего столетия. Она испытала то, что называла «философским шоком»: чистое удивление существованием, резко отличающееся от всего лишь любопытства. Из этого шока выросло напряженное самоосмысление, или мышление с собой, которое стало для нее с тех пор отличительной чертой всякого подлинного философствования. Так, вдобавок к содержанию мысли Хайдеггера и Ясперса, юной Арендт открылся внутренний духовный мир, невидимый и нематериальный, в котором она могла в буквальном смысле обитать в одиночестве.
Противоположное движение имело место во внешнем, явном мире, и его радикальными интенциями было не изменение, а разрушение структур и институтов гражданской ассоциации, развивавшихся веками. Она называла рост этого политически революционного движения «шоком реальности».
Нельзя сказать, что Арендт переживала уход сознания от мира в самосозерцание и приход национал-социализма по отдельности. Она была молодой и далеко не единственной из «профессиональных» интеллектуалов, кто смог покинуть Германию и в более свободной стране по-прежнему продолжать работать в своих областях. Но она была шокирована той легкостью, с которой некоторые представители интеллектуального сообщества предпочли плыть по течению, а не против него, или вообще не пытаться выбраться из него. Некоторое недоверие по отношению к склонности интеллектуалов отдаваться политическим течениям, куда бы они ни стремились, останется с нею на всю жизнь.
Арендт однажды заметила, что она не была «прирожденным писателем», имея под этим в виду то, что она не была одной из «тех, кто с самого начала своей жизни, с ранней юности, знали, что они хотели именно этого – быть писателем или стать художником». По ее словам, она стала писателем случайно, из-за «чрезвычайных событий этого века»[27 - Арендт сказала это по случаю своего официального вступления в должность в Национальном институте искусств и литературы 20 мая 1964 г.]. Она имела в виду, что это не было вопросом выбора: она не могла не попытаться понять и осудить тоталитаризм. Иными словами, именно на ее сознание, сформированное уходом от мира, в конце 1920-х и начале 1930-х гг. охваченный бурями мир оказал неизбежное воздействие.
Это был мир, в котором, как она позднее скажет, даже до прихода Гитлера к власти она «осознавала обреченность германского еврейства», конец того «уникального явления», чья история и культура была ее собственной. Тем самым она осознала нечто отличное от тех форм антисемитизма, которые веками причиняли страдания еврейскому народу и с которыми он каким-то образом справлялся. (Позднее Арендт осознает, что не только чудовищные масштабы уничтожения европейского еврейства отличали нацистский тоталитаризм от старых форм преследований, но и то, что антисемитизм был всего лишь одним из аспектов расистской идеологии).
Оригинальность ее политической мысли определяется тем, что феноменально открывшееся ей как новое и беспрецедентное на самом деле происходило сейчас, в обычном мире, который ранее имел мало значения для ее рефлексивной жизни. Поэтому политическое стало для нее реальным не только как арена «политического процесса», в котором политики продолжают заниматься делами управления, применения власти, определения целей и формулирования и реализации средств для их достижения, но еще и как сфера, в которой так или иначе может возникнуть нечто новое и в которую ввергнуты условия человеческой свободы и несвободы. Так или иначе, политическая реальность с тех пор будет ориентиром для всех ее попыток понять – и не в последней степени тогда, когда, в конце своей жизни, она обратилась к рефлексивной ментальной деятельности мышления, воления и суждения как к источнику этого понимания.
Арендт однажды написала, что «эссе как литературный жанр имеет естественное родство с… упражнениями в политической мысли в том виде, в каком она вытекает из актуальных политических событий». Она продолжила в предисловии к «Между прошлым и будущим», что единство опубликованных там эссе «это не единство целого, а единство последовательности частей, написанных, как и в музыкальных сюитах, в одной и той же тональности либо в соотносящихся друг с другом»[28 - Ханна Арендт, Между прошлым и будущим (Москва: Издательство Института Гайдара, 2014), 25, 26.]. Эти слова также частично характеризуют и другие книги Арендт; «Истоки тоталитаризма», «Люди в темные времена», «Кризис республики» и, в меньшей степени, Vita activa, «О революции» и «Жизнь ума» являются работами, составленными-сплетенными из эссе и лекций, в более ранних версиях напечатанных в журналах или прочитанных публично. За одним исключением содержание этого тома составлено из ее неопубликованных и неотобранных специально для публикации в одной книге текстов, написанных с 1930 по 1954 г. Это не книга, которую она когда-либо планировала опубликовать. Ей принадлежат слова, но не структура. Она организована по большей части хронологически, и главная цель в том, чтобы показать развитие ее мысли с двадцать четвертого по сорок восьмой год ее жизни.
Всемирный авторитет Арендт сегодня таков, что практически все, что написано ею, интересно широкой общественности и исследователям. Более двух десятилетий она находится в центре внимания ученых, и критические комментарии к ее работам поражают радикальными разногласиями – не только относительно точности ее разграничений и суждений (чего и следовало ожидать), но и о том, что она имела под ними в виду и как они сходятся вместе. Несмотря на разнообразие и несовместимость написанного исследователями, интерес к ее работам продолжает расти. То, что Арендт трудно интерпретировать, в основном связано с ее оригинальностью как мыслителя и в меньшей степени с тем, что она была взращена на классических и европейских источниках, часто незнакомых современным читателям. Тем не менее страстность, независимость, поэтичность ее работ и в особенности признание ею того, что политические события нашего времени не имеют исторических прецедентов, гарантировали ей место среди наиболее плодовитых и притягательных мыслителей XX в.
Английский политический теоретик Маргарет Канован написала глубокую и проницательную, избегающую полемики книгу «Ханна Арендт: новая интерпретация ее политической мысли». Она формулирует свою цель с обманчивой простотой: «открыть и объяснить, чему посвящена политическая мысль Арендт». Особый интерес представляет ее тезис о том, что, когда полное понимание того, что Арендт имела в виду под «элементами тоталитаризма» – все множество обозначаемых так явлений – рассматривается в качестве ее основы, политическая мысль Арендт оказывается в центре внимания как целое. Она имела в виду не то, что с разграничениями и суждениями Арендт необходимо соглашаться, а то, что они обретают целостность, когда рассматриваются в связи с ее фундаментальными исследованиями условий возникновения тоталитаризма как формы власти. Эти условия, однако, не были причиной тоталитарных режимов и не исчезли с их падением, и, в двух словах (как это формулировала сама Арендт), в этом заключается кризис нашего времени. Это наш кризис, состоящий из наших затруднений, и это делает мысль Арендт столь же актуальной сегодня, как и когда-либо в прошлом.
По удачному выражению Канован, основные работы Арендт «поднимаются, подобно островам, из частично затопленного континента мысли, отчасти содержащейся в малоизвестных статьях, отчасти только в неопубликованных произведениях», и нигде это не имело наибольших последствий, чем в «Истоках тоталитаризма». Этот странный шедевр – исторический, политический, философский и полный литературных аллюзий; его трехчастная структура и даже смысл его заголовка часто являются предметом дискуссий; его явный дисбаланс в трактовке нацизма и большевизма породил значительные споры. Канован утверждает, что, когда «затопленный» контекст тоталитаризма выводится на свет, основания для непонимания книги устраняются и в новом ракурсе открывается дальнейшее развитие мысли Арендт. Возможно, наиважнейшая из нескольких «траекторий», прослеживаемых в настоящем томе, простирается с середины 1940-х гг., когда обширный проект «Истоков тоталитаризма» формировался в сознании Арендт, вплоть до тех лет, что последовали за его публикацией в 1951 г. Это были годы интенсивных размышлений над книгой, отчасти ее разъяснения, отчасти исправления ее дисбаланса по мере того, как становилось доступным больше информации о Сталине и Советском Союзе, и отчасти углубления и закрепления ее теоретических оснований.
Хронологический порядок этих дополнительных работ должен побудить читателей создать в своем воображении иллюстративную личность, путешественника, проходящего через важнейшие события XX в., что позволит им обрести видение этих событий, а также ощущение их развертывания. Острота взора Арендт и честность суждений – даже то, что может показаться их скоропалительностью – порождают понимание неотложности политики. Она читала курс под названием «Политический опыт XX века» – с акцентом на слове опыт, – воздействие которого должно было остановить волну политической апатии, наступающей вслед за разочарованием в политических идеалах и убеждениях.
Этот том с самого начала замышлялся как избранное, а не полное издание разрозненных и неопубликованных работ Арендт за охватываемый им период. В него не включены лекционные материалы, в которых повторяются или содержатся менее точные или хлесткие формулировки схожих идей, высказанных в других местах. В нескольких случаях герои эссе – Адам Мюллер, Адальберт Штифтер, Роберт Гилберт – показались слишком малоизвестными в Америке, чтобы включить их в этот сборник. Эссе о «Смерти Вергилия» Германа Броха, шедевр, крайне важный для Арендт, было включено, но рецензия на его «Сомнамбул» – нет. Два эссе о Бертольде Брехте не вошли в книгу, поскольку они представляются предварительными исследованиями для написанного в 1966 г. великолепного эссе Арендт «Бертольд Брехт, 1898–1956», включенного в ее книгу «Люди в темные времена». Трудным решением было не публиковать большое эссе о «Дуинских элегиях» Рильке, написанное в 1930 г. в сотрудничестве с Гюнтером Штерном (Андерсом), первым мужем Арендт. Несмотря на его историческое значение (в то время, всего четыре года спустя после его смерти, Рильке был едва известен в Германии), содержащийся в эссе детальный анализ просодии и стиля «Элегий» был бы недоступен негерманским читателям; более того, неясно, какую часть текста действительно написала Арендт. Но содержащийся в эссе акцент на внутренний мир и отчуждение влюбленного от преходящего мира и предлагаемое в нем прочтение стихотворений как «сознательного отречения от того, чтобы быть услышанным», трансформирующее «элегию» в сущностный «голос потерянности, а не скорбь по тому, что потеряно», – все это соответствует духу других эссе Арендт того же времени, в особенности посвященного Кьеркегору. Действительно, «отчаяние» «Элегий» рассматривается как «последний остаток религии».
Важнейшей из неопубликованных работ периода, охватываемого этим томом, и не включенной в него является серия лекций 1953 г. под названием «Карл Маркс и традиция западной политической мысли». Эти лекции положили начало исследованиям в той области, которой Арендт занималась в последующий период, невероятно продуктивный в ее интеллектуальной жизни. Некоторые из более поздних эссе в этом томе уже показывают фундаментальную перемену в ее отношении к большевистской версии тоталитаризма, растущее осознание того, что она была реализована полнее, чем та, что имела место в гитлеровской Германии, хотя ее истоки казались «благородными» в сравнении с нацизмом. Поскольку Советский Союз возник из марксистского революционного движения, и поскольку мысль Маркса претендовала на то, чтобы исправить всю западную политическую философию, реализовав справедливость и свободу здесь-и-сейчас, перед ней открылся масштабный проект. Чем именно была та традиция политической мысли, которая началась с Платона и Аристотеля в Древней Греции и достигла кульминации в Марксе? Какое отношение имела она к форме правления, настолько ужасной, что ее нельзя даже уподобить тирании? Если эта традиция потерпела банкротство, какое значение имеет это для оснований политики, человеческой свободы и спонтанного действия? Что это говорит о философии как таковой, об отношении, если таковое имеет место, уединенности к множественности и, следовательно, о политической мысли вообще? Эти вопросы были в числе главных для Арендт с середины 1950-х гг. до начала 1960-х; этот период охватывает том, озаглавленный «Обещание политики»[29 - Hannah Arendt, The Promise of Politics (New York: Schoken, 2005).].
Многие обращения к теме евреев как жертв тоталитаризма неизбежно фигурируют при рассмотрении тоталитаризма в данном томе, но отдельный сборник неопубликованных и разрозненных эссе содержит работы Арендт по таким темам, как еврейский вопрос в соотношении с германским Просвещением, современная еврейская история и культура, антисемитизм, сионизм, евреи во время Второй мировой войны, еврейская политика и формирование государства Израиль и еврейско-арабские отношения[30 - Hannah Arendt, The Jewish Writings (New York: Schocken, 2007).].
При редактировании этих текстов применялись некоторые общие принципы. По разрозненным эссе видно, что некоторые журналы редактировали первоначально очень неуклюжий английский язык Арендт более тщательно, чем другие (по прибытии в Нью-Йорк ее знание языка состояло из «одного сонета Шекспира», но годом позже она публиковала статьи, написанные на английском). Были предприняты усилия по достижению ясности и некоторой однородности стиля. Неопубликованные работы – совсем другое дело. В открывающем книгу интервью Арендт говорит о том, что она часто писала так быстро, как только могла печатать, и рукописи являются тому свидетельством. Они были по большей части подготовлены для лекций, с множеством повторений и эллипсисов, скорее немецких, чем английских грамматических конструкций, включая предложения длиной в страницу, и трудные, а порой не поддающиеся расшифровке рукописные поправки и добавления по меньшей мере на пяти языках. Более того, рукописи часто находятся в плохом состоянии. Поскольку Арендт использовала метод компоновки работ при помощи вырезания частей текста и соединения их скотчем, а скотч давно отклеился, для пометок, сделанных на первых страницах, приходилось находить соответствия с пометками на далеко отстоящих от них частях рукописи или даже в других рукописях. Там, где редактирование было необходимо, главной заботой было сохранить в неприкосновенности «голос» Арендт, а также суть того, о чем она говорила.
Редакционные комментарии и текстовые примечания добавлялись только тогда, когда представлялось необходимым пояснение ссылок или неясных, но интересных моментов. Арендт думала, что политика – слишком серьезное дело, чтобы оставлять ее либо экспертам, либо ученым. Она писала быстро и уверенно (хотя не всегда в соответствии с английской грамматикой) для широкой публики, не специалистов, и поэтому было бы ни в ее духе, ни в интересах читателей делать чересчур академичные дополнения.
Несколько эссе в этом томе существуют и в немецкой, и в английской версиях. К примеру, имеется немецкий текст эссе о Кафке, в некоторых отношениях более законченный и изящный, чем английский. «Когда я приехала в эту страну, я написала на своем очень нескладном английском статью о Кафке… когда я стала говорить с ними об англицизировании [слово Арендт, обозначающее исправление ее английского] я прочитала эту статью и там, среди прочего, появилось слово „прогресс“! Я сказала: „Что вы имеете в виду под этим“»?[31 - Hannah Arendt, The Recovery of the Public World (New York: St. Martin's Press, 1979), 334.] Так что мы знаем, что Арендт, которая использовала понятие «прогресс» иронически, написала английскую версию – она была первой из многих статей, опубликованных ею в журнале Partisan Review, – и, таким образом, придерживаясь принципа сохранения ее «голоса», она была отредактирована с учетом немецкой версии, но не представляла собой ее перевода. «Организованная вина и всеобщая ответственность» и «Экс-коммунисты» также существуют в немецких версиях, и с ними поступили таким же образом. Следует отметить, что Арендт никогда не переводила свои работы, но иногда – хотя она не очень любила это делать – перерабатывала на английском то, что существовало на немецком, и наоборот.
Та версия глубоко вдумчивого эссе «Что такое экзистенциальная философия?», что была опубликована в Partisan Review, является неполной версией ее исходной немецкой рукописи. Некоторые части ее кажутся не столько переработанными, сколько плохо переведенными. Неизвестно, кто был ответственным за английскую версию[32 - Благодаря Рэндаллу Слеттену, я недавно узнал, что переводчиком был Уильям Барретт.], но кажется маловероятным, что это была Арендт, хотя она вполне могла в этом участвовать. Поскольку это строго доказательное и сложное философское эссе, одно из критически важных для развития Арендт как мыслителя – эссе, которое она постеснялась показать Ясперсу, а стеснительность для нее была не слишком характерна – было решено для этого тома сделать новый перевод с немецкого. Тем самым описанный выше процесс был обращен вспять, с более ранним текстом в Partisan Review сверялись, в поисках намеков на «голос» Арендт во время подготовки итоговой версии. Это эссе среди прочего служит ранним свидетельством фундаментального влияния на Арендт мысли Иммануила Канта.
«Международные отношения в прессе на иностранных языках» представило иную проблему. Заголовок принадлежит рукописи, часть которой была извлечена, разделена на куски, дополнена и опубликована как «Наши иноязычные группы». Сделанные дополнения относились к американским евреям, чье положение, как говорит Арендт, «отлично от всех остальных». Выброшены были отсылки к «политически» спорным фигурам того времени (в Америке в годы войны). Представленное здесь целое соткано из его частей. Фокус внимания этих эссе в некоторых отношениях необычен для Арендт, но он явно демонстрирует ее растущий интерес к социально-политической плюралистической структуре страны, ставшей для нее новым домом – интерес, который находит подтверждение и в ряде других эссе этого сборника, – а также ее уважение к журналистике как призванию и по меньшей мере к избранным репортерам, которые, наряду с избранными историками и поэтами, были для нее единственными надежными стражами фактической истины.
В Библиотеке Конгресса две рукописи скреплены вместе: одна называется «О природе тоталитаризма: опыт понимания»; другая, без заглавия, но с отдельно пронумерованными страницами, продолжает первую, но примерно на третьей четверти пути отклоняется на связанный с прежним, но тем не менее новый курс. В конце концов она обрывается на середине предложения, не приходя ни к какому выводу (довольно редкое явление в текстах Арендт). Почти каждое предложение и абзац «Понимания и политики», показывающего первое столкновение Арендт с понятием суждения, включено в первую из этих рукописей, но не в том же порядке. Очевидно, что рукописи были лекционными материалами, и кажется ясным, что Арендт не делала извлечений, но сверялась с первой рукописью, когда писала «Понимание и политику», которая была опубликована в Partisan Review. Еще более запутывает дело то, что в Библиотеке Конгресса имеется еще одна рукопись, а именно оригинал «Понимания и политики», озаглавленный «Трудности понимания». Можно сделать обоснованное предположение, что журнал предпочел изменить название, которое было здесь восстановлено, поскольку понимание, к которому она стремилась, трудно. Два раздела «Трудностей понимания», которые отсутствовали в «Понимании и политике», вероятно, в силу того что один посчитали слишком спорным, а другой – слишком туманным, также были восстановлены. С этими добавлениями «Понимание и политика» здесь представлена в той форме, в которой была опубликована. Те разделы рукописи, в которую она первоначально входила и которые на самом деле дополняют эссе, были извлечены из основного текста и находятся теперь в примечаниях.
«О природе тоталитаризма» подхватывает то, на чем заканчивается «Понимание и политика», и переходит во вторую из скрепленных вместе рукописей, последние, незавершенные страницы, где рассуждения меняют направление, здесь не приводятся. Несколько абзацев из более ранней рукописи в Библиотеке Конгресса, «Идеология и пропаганда» (большая часть которой повторяет ранее опубликованные работы или использована в них), включены в текст «О природе тоталитаризма»; в них развиваются мысли Арендт по проблеме идеологии.
Ближе к концу текста «О природе тоталитаризма» вводится различие между одиночеством и уединением. Это, в очень образной форме, является темой эссе «Хайдеггер-лис», которое следует далее. В одном предложении из неиспользованной – и, в иных отношениях, отдельно стоящей части второй из скрепленных вместе рукописей – трудно не услышать иронический отзвук собственных размышлений Хайдеггера (которые Арендт очень ценила) об «отдаленной близости» философии и поэзии: «философ и тиран столь же далеки друг от друга, сколь и близки друг другу как уединение и одиночество». Читатель сладостно-горькой притчи «Хайдеггер-лис» должен помнить о том, что Арендт была одним из наиболее верных пленников «ловушки» лиса – верной Хайдеггеру и себе.
Имеется важное нарушение хронологического порядка в представленных здесь работах Арендт. Первый материал, «Что остается? Остается язык», датируется 1964 г., существенно выходя за хронологические рамки этого сборника. Причина начать его так в том, что Арендт редко говорила лично о себе, и почти никогда в целях публикации. Здесь же она говорит о своей жизни и в особенности о своей молодости, о своем политическом пробуждении и об открытии зла тоталитаризма, и все это важно для понимания следующих далее произведений. Она также колко высказывается о немецком языке и Карле Ясперсе, который всегда был ее другом и учителем, независимо от того, сходились ли они во мнениях по какому-либо конкретному вопросу.
Следующие шесть эссе написаны с 1930 г., когда Арендт было двадцать четыре, до 1933 г., года, когда она покинула родину. Первые три из них характеризуются погруженностью в свой внутренний мир и духовностью, акцентом на субъективной жизни, что некоторые читатели могут найти удивительным для Арендт, в то время как три последующих свидетельствуют о развивающемся осознании социальных и политических явлений. Два эссе из первой группы посвящены христианским мыслителям, Августину (бывшему темой ее докторской диссертации) и Кьеркегору, – очень важным фигурам для Арендт. В них обсуждаются не вопросы теологии – Августин не рассматривается как отец римско-католической церкви, а работа, посвященная 1500-летней годовщине его смерти, адресована протестантам, а не католикам, – но те два совершенно различных способа осмысления и переживания своего глубинного, внутреннего отношения к Богу, которые были у этих людей, столь далеко отстоящих друг от друга по времени и обстоятельствам жизни. Августин был «образцовым» в своем личном исповедании веры, а Кьеркегор «исключительным» в своем переживании того, что Арендт называет «парадоксом» христианского существования.
Между этими двумя работами длинный вдумчивый обзор «Идеологии и утопии» Карла Мангейма затрагивает несколько иное отношение, а именно сознания или духа (Geist) к миру и времени – фундаментально важная тема для Арендт, по которой она многократно высказывалась до конца своей жизни. В эссе со всей серьезностью рассматривается мангеймовское понятие «экзистенциальной ограниченности» всей мысли, включая философскую или созерцательную, в попытке обнаружить ее источник в «бездомности» современного человека. Такая бездомность рассматривается Арендт как условие социально-экономической «реальности» и в противопоставлении собственной «уединенности» созерцательной мысли, которая является «подлинной возможностью человеческой жизни». Хайдеггер и Ясперс появляются здесь (как и часто в этом томе) в качестве наиболее выдающихся представителей современной философии и, в частности, ясперсовское понятие трансцендентности в человеческом существовании (а не идеологического или утопического бегства от реальности) наглядно предстает в примере со святым Франциском Ассизским. Это эссе также содержит первую ясную формулировку причин того, что Арендт всегда отвергала психоанализ в качестве теории и практики.
Следующие два эссе этого периода являются результатом работы Арендт над биографией Рахель Фарнхаген. Они опубликованы здесь для того, чтобы привлечь внимание к этому уникальному исследованию жизни поразительной женщины, которым незаслуженно пренебрегают как многие исследователи Арендт, так и читатели. (Исключением здесь является книга Дагмар Барноу «Видимые пространства: Ханна Арендт и опыт немецких евреев»; в главе «Общество, выскочка и пария: история жизни немецкой еврейки» дается очень эрудированное и проницательное истолкование написанной Арендт биографии Рахель). Взятые вместе, они показывают первое и практически осязаемое столкновение Арендт с тем, что впоследствии станет для нее важнейшим различием между публичной и частной сферами опыта, различием, которое будет характеризовать и наполнять, если не определять, ее политическую мысль в зрелости; а также с тем, что для нее стало пагубным соединением публичных и частных по своей сути вещей в сфере социального.
Эссе, опубликованное к столетию со дня смерти писателя и государственного деятеля Фридриха фон Генца выдвигает на первый план этого самого земного из людей – суетного, гедонистичного, беспринципного, признающего только силу и ищущего только «реального», причем он сыграл определенную – даже важную – роль в жизни Рахель. Когда Арендт писала эту работу, Гентц был, по ее словам, практически «забыт» (биографии Пола Свита и Голоу Манна не были опубликованы до 1940-х гг. Отношение Арендт к Генцу, соединяющему собой Просвещение и период романтизма (которые в Германии не столь обособлены, в культурном или историческом плане, как, к примеру, во Франции), амбивалентно, как и карьера Генца была «неоднозначной». В одних отношениях он был консерватором, а в других либералом; он был сторонником абсолютизма, верившим, что сам принцип легитимности исторически относителен; и он был романтиком, более всего желавшим, чтобы мир не менялся. Но он знал и мог принять то, что мир меняется и что все, что он старался сохранить, будет потеряно. Не принцип или мотив, но знание дел и хода мировых событий наделяли его местом в мире. Именно из-за такой точки зрения наблюдателя, своего «включенного знания» духа века и его секретов – своим намного более земным образом он разделял идеал Mitwisserschaft[33 - Соучастия (нем.). – Прим. пер.] старого Фридриха Шлегеля – он нашел свое политическое кредо в строчках древнеримского поэта Лукана Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni («Дело победителей было угодно богам, но дело побежденных – Катону»), которыми Арендт заканчивает свое эссе. Но поскольку она, вероятно, не разделяла в это время двусмысленной политической позиции Генца[34 - Конечно, в 1933 г., после поджога Рейхстага, она не считала возможным оставаться «зрителем», наблюдателем событий. Но намного позже, в 1972 г., на вопрос о том, либерал она или консерватор, она ответила: «Я не знаю… Вы знаете, левые думают, что я консерватор, а консерваторы иногда думают, что я левая, или „белая ворона“, или бог знает кто. И я должна сказать, что мне это совершенно безразлично. Я не думаю, что реальный вопрос этого века будет как-то прояснен этим» (Hannah Arendt: The Recovery of the Public World, edited by Melvy A. Hill [New York: St. Martin's Press, 1979], 333–34).], цитируя этот стих, она не дает никакого намека на смысл, который он будет иметь для нее позднее. Напротив, здесь почти кажется, что он означает, будто Генц предпочитал дело побежденных потому, что оно было проиграно. Но 24 июля 1954 г. в письме к Ясперсу она называет эти строки выражением «духа республиканизма», и еще позднее они в краткой форме выражали для нее саму сущность политического суждения.
Стоит отметить, что всего десять лет спустя после публикации этого раннего эссе, в краткой благожелательной рецензии (не включенной в этот сборник) на биографию Свита «Фридрих фон Генц: защитник старого порядка», Арендт выделяет Генца из компании Талейрана, Кестлри, Каннига и Меттерниха, каждый из которых служил своим соответствующим «национальным» интересам, как защитника «интереса Европы». Там она характеризует его главным образом как героя эпохи Просвещения, который сопротивлялся ее «деградации… в шовинизм» и «основывал совершенно независимую и бескорыстную политику на несуществовании германской нации». В 1942 г., в разгар Второй мировой войны, она хвалила «странную и восхитительную своевременность» книги Свита и находила «вопрос европейского единства» одной из «наиболее важных задач» времени. Политическая мысль Генца (студента Канта), после того как она была «почти потеряна в национализме XIX века», рассматривается ею как «предмет нашего особого внимания». Сегодня, более шестидесяти лет спустя, эта «задача» и это «внимание» кажутся особенно своевременными. Рецензия Арендт, озаглавленная «Веровавший в европейское единство»[35 - Hannah Arendt, «A Believer in European Unity», Review of Politics 4 (1942), 2, 245–247.], была ее первой опубликованной работой на английском.
Что касается Генца и Рахель Фарнхаген, она одна, среди множества его возлюбленных, понимала его, и они оба знали это. Она понимала, что его отношение к миру лишь казалось лицемерным другим, тогда как на самом деле он открывался миру наивно, как ребенок. Арендт говорит о возможности – если бы их любовь завершилась (чего не произошло) – возникновения другого «мира», «противостоящего реальному миру», мира, который изолировал бы Генца от той реальности, которой он жаждал. В «своей частной жизни он зависел от ее понимания», но не был готов пожертвовать «своей наивностью, своей чистой совестью, своим положением в мире – короче говоря, всем» для этого[36 - Цитаты здесь взяты из законченной биографии: Hannah Arendt, Rahel Varnhagen, The Life of a Jewish Woman, rev. ed. (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974), 86–87.]. Различие между пониманием в частной сфере и появлением на публике не могло бы быть проведено более резко, или более конкретно.
Именно сила воображения Арендт объясняет жуткую оригинальность ее портрета Рахель, крайне непохожего на обычный, первоначально изобретенный после ее смерти ее мужем-неевреем Карлом-Августом Фарнхагеном и затем увековеченный остальными[37 - Ср.: Dagmar Barnouw, Visible Spaces: Hannah Arendt and the German-Jewish Experience (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990), 48.]. Амбивалентность отношения Арендт к Рахель еще глубже, чем к Генцу. Конечно, это в некотором отношении связано с тем фактом, что Арендт была еврейкой и женщиной, как и Рахель, но она не пыталась понять свое собственное политическое положение в 1930-е гг. через жизнь Рахель или ее опыт в «обществе» более ста лет назад; она скорее пыталась добиться понимания «еврейского вопроса», его места в истории и культуре Германии, рассматривая его в уникальном видении Рахель.
«Берлинский салон» посвящен необычному, но недолговечному социальному явлению, выросшему из идеалов германского Просвещения, проявившемуся в полном романтическом цветении в мансарде Рахель, и внезапно прекратившему существование, когда его «социальная нейтральность» была сокрушена событиями в реальном мире. Он «затонул как корабль», как сказала Рахель, как если бы был разрушен наполеоновскими пушками. Между Лигой добродетели (с ее концепцией равенства, основанного на доброте), которая предшествовала ему и крайне селективным, буржуазным Столовым обществом, которое за ним последовало, салон Рахели был воплощением романтической «неблагоразумности». Именно эта неблагоразумность, разновидность богемности, необычная и какая угодно, но только не буржуазная, разрушала различие между публичным и частным, принимая всерьез интересное человеческое существо как таковое – будь то женщина, князь, государственный деятель, еврей или кто-либо еще, – и интерес представляла сама жизнь (к примеру, счастье или несчастье), а не лицо, не «носитель» этой жизни. Так что это не место личности в мире рекомендовало ее Рахель, а, наоборот, такая вещь, как способность страдать «более чем кто-либо, кого я когда-либо знала». Сама Рахель воплощала отсутствие осмотрительности, поскольку ее жизнью руководило стремление избежать «несчастья» ее рождения – бытия еврейкой, – став «подобной» (ассимилированной) любой другой «воспитанной личности». Ее салон мог создавать для нее иллюзию такой ассимиляции, но это была ложная мечта о равенстве; время, «когда мы все были вместе», исчезло как мираж, когда она писала об этом Паулине Визель в 1818 г. В интимности любви понимание Рахелью Генца могло заслонять, даже заменять реальность, но оно никогда не могло заставить ее примириться с миром, в котором ее дискриминировали как еврейку. Это была та же интимность, ради которой Генц отказался пожертвовать очарованием мира, который вызывал у него такое восхищение во всех его проявлениях.
Арендт была поражена блестящим умом Рахель, ее огромной способностью к любви и ее пониманием других, вырастающим из этой способности, а также ее чудесной, неразборчивой открытости жизни. Но Арендт обнаружила, на своем собственном опыте политического антисемитизма – в отличие от социальной дискриминации, – что быть евреем – это на самом деле политический, публичный факт. Было неважно, придерживается ли она религиозных представлений или обладает еврейскими «характеристиками», или то, что при иных обстоятельствах ее блестящий ум и иная одаренность сделали бы ее «исключением» в глазах общества. Политически тот факт, что в глазах мира она представала как еврейка, значил намного больше, чем такие соображения, и утверждать иное было бы «гротескным и опасным бегством от реальности». Благодаря этому открытию она поняла, что только реальное, неиллюзорное равенство связано с политической свободой; что условием политической свободы является обладание местом, не в салоне, но в мире; и что единственный способ обрести место в мире – это потребовать его, заявив: да, я – то, чем я кажусь, я еврейка. В 1933 г. Арендт начала работать в сионистской организации Германии, хотя она лично не была сионисткой; эта работа привела к ее аресту. Это было трудное и рискованное дело, требующее мужества (среди многого прочего это объясняет ее четкие и ясные призывы к формированию еврейской армии в ходе Второй мировой войны) и, вероятно, не будет чрезмерным сказать, что без этого опыта она не смогла бы развить свою концепцию действия.
«Об эмансипации женщин» – единственный текст Арендт, посвященный женскому вопросу (возможно, достаточная причина, чтобы включить его в этот сборник), хотя она ссылалась на современные дебаты в германском женском движении в своей биографии Рахель Фарнхаген. Арендт утверждает, что смешение социальных целей с политическими никогда не позволит раскрыть специфическую сложность жизненной ситуации женщины, что, возможно, есть первый намек на тот род критики, которой она подвергнет марксистскую мысль. Алис Герштель, автор книги, которой посвящена рецензия Арендт, и ее муж, Отто Рийхле, были видными деятелями радикальных политических движений в Германии. Герштель была также близка с Миленой Есенской, другом и товарищем по переписке Арендт, что создает прекрасную, хотя и случайную, связь со следующим эссе «Франц Кафка: переоценка».
Одиннадцатилетний разрыв, отделяющий последнюю работу, написанную Арендт в Германии в 1933 г. от эссе о Кафке может показаться удивительным. Из интервью Гауса понятно, что Арендт, покинув Германию, испытывала отвращение к интеллектуалам и интеллектуальной жизни, а также ясно, что в качестве беженца без гражданства у нее были серьезные практические трудности. В Париже она работала на Молодежную алию, подготавливая еврейских детей к эмиграции в Палестину, куда она сопровождала одну из групп в 1935 г. Но она не полностью отстранилась от интеллектуальной жизни Парижа. Она посещала некоторые из знаменитых семинаров Александра Кожева о Гегеле, где впервые встретила философов Жана-Поля Сартра и Александра Койре (она считала Койре намного более проницательным интерпретатором Гегеля, чем Кожев); она подружилась с Раймоном Ароном и была очень близка с Вальтером Беньямином[38 - Полное описание этого периода жизни Арендт см. в Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt: For Love of the World (New Haven, CT: Yale University Press, 1982), chap. 4.]. Немногие сохранившиеся от этого периода эссе Арендт касаются еврейского вопроса и включены в том, содержащий работы Арендт по еврейской проблематике, упомянутый выше.
Намного большая часть эссе, последовавших за посвященным Кафке, так или иначе касаются Второй мировой войны и многочисленных феноменов, связанных с тоталитаризмом. Даже кажущиеся исключения – такие, как работы о Дильтее, Дьюи, Брохе, Ясперсе и Хайдеггере; эссе, рассматривающие философские вопросы, в особенности немецкую и французскую экзистенциалистскую мысль и политическую философию в целом; и посвященные множеству вопросов, связанных с религией – написаны с той точки зрения, про которую можно безошибочно сказать, что она сформирована пониманием Арендт того, чем были для нее беспрецедентные политические события двадцатого века. Сама переоценка Кафки осуществлена именно с такой точки зрения: он рассматривается не как «пророк», предсказавший будущее, а как проницательный аналитик «фундаментальных структур» «несвободы» своего времени, которое создало то, что Арендт называла «проектами» социализированного человечества, бюрократического общества, управляемого сверхчеловеком, в противоположность человеческим законам. Для Арендт показателем гениальности Кафки была его способность постигать структуры «подземного потока истории Запада»[39 - Это фраза Арендт в предисловии к первому изданию «Истоков тоталитаризма».], когда они были все еще скрыты для большинства. С другой стороны, его «образ… человека как модели доброй воли», «всех и каждого», желающих быть свободными, напоминает о том «доверии к людям», о котором Арендт говорит в конце интервью с Гаусом, доверие «к человеческому всех людей».
Арендт считала, что политическая мысль в XX в. должна порвать со своей собственной традицией так же радикально, как систематические массовые убийства, осуществленные тоталитарными режимами, порвали с традиционным пониманием политического действия. Ранний и наглядный пример ее собственного мышления можно видеть в различии, которое она проводит между «организованной виной» и «всеобщей ответственностью». Именно Арендт, еврейка, в последние дни войны высказывалась против ванситтартизма; она не считала, что немецкий народ обладает «монополией вины» за бесчеловечные преступления расистской идеологии. Не немецкий народ, а эта идеология сделала все возможное, чтобы уничтожить германскую культуру и человечность. Ее предвидение того, что зло станет «фундаментальным вопросом» в послевоенном мире, объясняет ее признание необходимости примирения народов и нового начала. Зло стало явным как инверсия векового основания западной морали – «Не убий!» – и менее абстрактно понималось как «чудовищность», «бесчеловечность» создания «абсолютно невинных» жертв для демонстрации хода так называемых законов природы и истории. Связь «чудовищности» и «бесчеловечности» с «невинностью» кажется весьма странной до тех пор, пока не понята совершенная новизна тоталитаризма как формы правления. Это понимание трудно, и теоретическим достижением первого порядка для Арендт было обосновать добавление новой формы правления к списку, начатому Платоном и Аристотелем и едва ли изменившемуся со времен античности.
Это никоим образом не только вопрос теории. Тоталитаризм – его угроза человечеству – представляет собой такую опасность, что Арендт не перестает предупреждать нас о политических условиях и ментальных установках, из которых он вырастает. Так, она обращает внимание на то, что в основе сталинского насилия лежала не столько идея, что «не разбив яиц, омлет не приготовишь», – сколько идея действия как фабрикации – в смысле делания истории. «Экс-коммунистов» от «бывших» коммунистов отличает фундаментально тоталитарный способ мышления, нетерпение по отношению к «основным неопределенностям» действия и идеологическая вера в «конец» истории. Она бескомпромиссно критична по отношению к светскому буржуазному обществу, его убийственной конвенциональности и указывает на его тенденцию лишать человека спонтанности и превращать его в «функцию общества». Испытывая симпатию к неокатолическим критикам буржуазных «морали и стандартов», таким как Г. К. Честертон и Шарль Пеги, она не выносила католиков или кого угодно, кто стремился бежать от реальности, прячась за «определенностью» прошлых истин.
Если нельзя убежать ни в «еще не», ни в «уже не», если нить традиционной западной мысли определенно перерезана, то даже величайшая философия истории не может повлиять на примирение между людьми и миром, в котором они живут. Гегелевская концепция Истории, его объяснение дел человеческих и хода событий как «диалектического движения к свободе», стала нереалистичной – не философски нереалистичной (что бы это ни означало), но страдающей от нехватки «чувства реальности», будучи взвешенной на весах с политическими событиями двадцатого века. Значимы не эти события, мыслимые абстрактно, к примеру, как знаки обреченности, – но их реальный вес и тяжесть в человеческом опыте. К концу этого тома Арендт рассматривает политическую философию как способную, в полную противоположность философии истории, к новому началу. В течение десятилетий мыслители думали, а писатели писали, что «кризис западной цивилизации» близок, и наконец этот кризис смог увидеть каждый – в тоталитарных режимах, в огромных фабриках, производящих трупы, – на земле, общей для всех людей. Не иная политическая философия стала нужна для объяснения этого, но новое понимание политики как таковой. Пусть ее серьезные исследования мысли Хайдеггера, Ясперса и других оказались неокончательными, в 1954 г. Арендт кажется убежденной в том, что впервые может оказаться возможным «прямо постичь сферу человеческих отношений и человеческих дел». Для того чтобы это сделать, потребуется действие, близкое к «бессловесному удивлению», несмотря на «бессловесный ужас перед тем, что может сделать человек». Эти слова не предвосхищают возвращения к традиционной философии; напротив, они являются призывом того, кто, хотя и не был никогда полностью дома в мире, тем не менее дерзал понимать и судить мир так долго, как продолжалось ее пребывание в нем. В четырех сильных строках из стихотворения, написанного в тот же год, что и последнее эссе этого сборника, Арендт изложила это так:
Ich lieb die Erde
so wie auf der Reise
den fremden Ort
und anders nicht.[40 - Я люблю землюТак, как путешественник любитЧужие края,А не иначе.]
* * *
Вскоре после неожиданной смерти Ханны Арендт в декабре 1975 г. ее близкий друг и один из душеприказчиков, Лотте Колер, попросила Ларри Мея и меня (мы оба несколько лет работали с Арендт в качестве ассистентов) помочь ей подготовить большое количество бумаг в квартире Арендт на Риверсайд-драйв для отправки в Библиотеку Конгресса. Было непривычно проводить там день за днем, неделю за неделей, а потом и месяц за месяцем (работа не была закончена вплоть до лета 1977 г.) без Арендт. К грусти этого времени добавлялось ощущение открытия. Почти каждый день мы находили совершенно неожиданные документы и обсуждали их за прекрасными немецкими обедами, которые готовила Лотте Колер.
Мэри Маккарти, литературный душеприказчик Арендт, присоединялась к нам, когда бывала в городе. Хотя по складу своего ума эта замечательная женщина во многом отличалась от Арендт, острота ее прозрений была столь же поразительна. В это время я также вел длительные разговоры и переписку с американским философом Дж. Гленн Греем. Он обладал глубоким пониманием мысли Арендт в поздние годы ее жизни и считал, что она на много поколений, возможно, на век, опередила свое время. Вплоть до своей безвременной смерти в 1977 г. он был лучшим из проводников по интеллектуальному лабиринту текстов Арендт.
Элизабет Янг-Брюэль была среди первых, кто использовал бумаги Арендт. Она их внимательно изучала, работая над книгой «Ханна Арендт: во имя любви к миру», по-прежнему основным источником для познания истории жизни Арендт. С момента ее публикации в 1982 г. ее биография читалась многими, как исследователями, так и широкой публикой. Элизабет и я – друзья уже тридцать пять лет, с того дня, как мы встретились на семинаре Арендт. За это время много часов прошло в разговорах о ней; эти продолжающиеся беседы значат для меня больше, чем я могу высказать, и не в последнюю очередь в связи с работой по отбору и редактированию этих произведений.
Ларри Мей и я продолжили работать с Мэри Маккарти, которая взяла на себя труд по подготовке к публикации последних лекций Арендт «Жизнь ума». Редакторские стандарты Маккарти были очень высоки, и именно тогда, особенно отвечая на многие ее длинные письма, полные вопросов, я начал понимать что-то из того, что предусматривала редакторская работа по изданию работ Арендт. В это время я также познакомился с Уильямом Йовановичем, который одобрил первое издание этого тома в 1994 г. Его первый редактор, Алэйн Сальерно Мэйсон, демонстрировала большую преданность делу все время, что я работал с ней. Дэниэл Франк, шеф-редактор издательства Pantheon Books, заслуживает сердечных благодарностей всего растущего сообщества читателей Арендт за переиздание этого сборника.
Вдобавок к этому за прошедшие годы многие студенты, друзья и ученые помогали, возможно, и не зная об этом, пополнять подборку включенных в эту книгу эссе. Следует особо выделить трех исследователей: Ричарда Бернстайна, вместе с которым я имел удовольствие и пользу читать курс по работам Арендт; Маргарет Канован, с которой я познакомился по переписке благодаря Мэри Маккарти и чьи исследования подняли понимание политической мысли Арендт на прежде недостижимый уровень; и Урсулу Лудз, чья полная библиография, отличные немецкие издания работ Арендт и доброта помогали и поддерживали меня все время. Эйприл Флакне, будучи еще аспиранткой, занималась подготовкой черновиков двух взаимосвязанных эссе, «Понимание и политика» и «О природе тоталитаризма», которые вместе составляли самую трудную и, в некоторых отношениях, самую проблематичную часть редакторской работы над этим сборником. Она, конечно, не несет ответственности за любые недостатки, которые, возможно, остались в итоговых версиях.
Переводчики написанных на немецком работ Арендт, прежде всего Роберт и Рита Кимбер, но также Джоан Стамбо и Элизабет Янг-Брюэль, заслуживают благодарности за осуществленную ими трудную работу. Лотте Колер усердно просмотрела почти каждое слово перевода. Я хочу поблагодарить отдел рукописей Библиотеки Конгресса за их безграничное радушие и усилия по поддержанию в наилучшем возможном состоянии помещенного в их хранилище собрания работ Арендт, которые из-за постоянного и все большего их использования стали весьма хрупкими[41 - Сегодня, благодаря щедрому гранту фонда Эндрю Меллона, вся коллекция оцифрована и доступна в Библиотеке Конгресса и Центрах Ханны Арендт в Нью-Йорке и Ольденбурге (Германия).]. Я благодарю Джерарда Ричарда Хулаха и Мэри и Роберта Лазарус за их практическую и моральную поддержку в течение многих лет.
Хотя Ханна Арендт с явным раздражением относилась к любому утверждению о том, что она «гений», настаивая на том, что ее путь к достижениям был путем сплошного тяжелого труда, никто из знавших ее не сомневался в том, что она гений дружбы. Не поощряя ни учеников, ни эпигонов, она связывала узами дружбы огромное множество разнообразных индивидуальностей. Двум из ее лучших друзей посвящается этот том: Лотте Колер и памяти Мэри Маккарти.
«Что остается? Остается язык»
Беседа с Гюнтером Гаусом
Противоположное движение имело место во внешнем, явном мире, и его радикальными интенциями было не изменение, а разрушение структур и институтов гражданской ассоциации, развивавшихся веками. Она называла рост этого политически революционного движения «шоком реальности».
Нельзя сказать, что Арендт переживала уход сознания от мира в самосозерцание и приход национал-социализма по отдельности. Она была молодой и далеко не единственной из «профессиональных» интеллектуалов, кто смог покинуть Германию и в более свободной стране по-прежнему продолжать работать в своих областях. Но она была шокирована той легкостью, с которой некоторые представители интеллектуального сообщества предпочли плыть по течению, а не против него, или вообще не пытаться выбраться из него. Некоторое недоверие по отношению к склонности интеллектуалов отдаваться политическим течениям, куда бы они ни стремились, останется с нею на всю жизнь.
Арендт однажды заметила, что она не была «прирожденным писателем», имея под этим в виду то, что она не была одной из «тех, кто с самого начала своей жизни, с ранней юности, знали, что они хотели именно этого – быть писателем или стать художником». По ее словам, она стала писателем случайно, из-за «чрезвычайных событий этого века»[27 - Арендт сказала это по случаю своего официального вступления в должность в Национальном институте искусств и литературы 20 мая 1964 г.]. Она имела в виду, что это не было вопросом выбора: она не могла не попытаться понять и осудить тоталитаризм. Иными словами, именно на ее сознание, сформированное уходом от мира, в конце 1920-х и начале 1930-х гг. охваченный бурями мир оказал неизбежное воздействие.
Это был мир, в котором, как она позднее скажет, даже до прихода Гитлера к власти она «осознавала обреченность германского еврейства», конец того «уникального явления», чья история и культура была ее собственной. Тем самым она осознала нечто отличное от тех форм антисемитизма, которые веками причиняли страдания еврейскому народу и с которыми он каким-то образом справлялся. (Позднее Арендт осознает, что не только чудовищные масштабы уничтожения европейского еврейства отличали нацистский тоталитаризм от старых форм преследований, но и то, что антисемитизм был всего лишь одним из аспектов расистской идеологии).
Оригинальность ее политической мысли определяется тем, что феноменально открывшееся ей как новое и беспрецедентное на самом деле происходило сейчас, в обычном мире, который ранее имел мало значения для ее рефлексивной жизни. Поэтому политическое стало для нее реальным не только как арена «политического процесса», в котором политики продолжают заниматься делами управления, применения власти, определения целей и формулирования и реализации средств для их достижения, но еще и как сфера, в которой так или иначе может возникнуть нечто новое и в которую ввергнуты условия человеческой свободы и несвободы. Так или иначе, политическая реальность с тех пор будет ориентиром для всех ее попыток понять – и не в последней степени тогда, когда, в конце своей жизни, она обратилась к рефлексивной ментальной деятельности мышления, воления и суждения как к источнику этого понимания.
Арендт однажды написала, что «эссе как литературный жанр имеет естественное родство с… упражнениями в политической мысли в том виде, в каком она вытекает из актуальных политических событий». Она продолжила в предисловии к «Между прошлым и будущим», что единство опубликованных там эссе «это не единство целого, а единство последовательности частей, написанных, как и в музыкальных сюитах, в одной и той же тональности либо в соотносящихся друг с другом»[28 - Ханна Арендт, Между прошлым и будущим (Москва: Издательство Института Гайдара, 2014), 25, 26.]. Эти слова также частично характеризуют и другие книги Арендт; «Истоки тоталитаризма», «Люди в темные времена», «Кризис республики» и, в меньшей степени, Vita activa, «О революции» и «Жизнь ума» являются работами, составленными-сплетенными из эссе и лекций, в более ранних версиях напечатанных в журналах или прочитанных публично. За одним исключением содержание этого тома составлено из ее неопубликованных и неотобранных специально для публикации в одной книге текстов, написанных с 1930 по 1954 г. Это не книга, которую она когда-либо планировала опубликовать. Ей принадлежат слова, но не структура. Она организована по большей части хронологически, и главная цель в том, чтобы показать развитие ее мысли с двадцать четвертого по сорок восьмой год ее жизни.
Всемирный авторитет Арендт сегодня таков, что практически все, что написано ею, интересно широкой общественности и исследователям. Более двух десятилетий она находится в центре внимания ученых, и критические комментарии к ее работам поражают радикальными разногласиями – не только относительно точности ее разграничений и суждений (чего и следовало ожидать), но и о том, что она имела под ними в виду и как они сходятся вместе. Несмотря на разнообразие и несовместимость написанного исследователями, интерес к ее работам продолжает расти. То, что Арендт трудно интерпретировать, в основном связано с ее оригинальностью как мыслителя и в меньшей степени с тем, что она была взращена на классических и европейских источниках, часто незнакомых современным читателям. Тем не менее страстность, независимость, поэтичность ее работ и в особенности признание ею того, что политические события нашего времени не имеют исторических прецедентов, гарантировали ей место среди наиболее плодовитых и притягательных мыслителей XX в.
Английский политический теоретик Маргарет Канован написала глубокую и проницательную, избегающую полемики книгу «Ханна Арендт: новая интерпретация ее политической мысли». Она формулирует свою цель с обманчивой простотой: «открыть и объяснить, чему посвящена политическая мысль Арендт». Особый интерес представляет ее тезис о том, что, когда полное понимание того, что Арендт имела в виду под «элементами тоталитаризма» – все множество обозначаемых так явлений – рассматривается в качестве ее основы, политическая мысль Арендт оказывается в центре внимания как целое. Она имела в виду не то, что с разграничениями и суждениями Арендт необходимо соглашаться, а то, что они обретают целостность, когда рассматриваются в связи с ее фундаментальными исследованиями условий возникновения тоталитаризма как формы власти. Эти условия, однако, не были причиной тоталитарных режимов и не исчезли с их падением, и, в двух словах (как это формулировала сама Арендт), в этом заключается кризис нашего времени. Это наш кризис, состоящий из наших затруднений, и это делает мысль Арендт столь же актуальной сегодня, как и когда-либо в прошлом.
По удачному выражению Канован, основные работы Арендт «поднимаются, подобно островам, из частично затопленного континента мысли, отчасти содержащейся в малоизвестных статьях, отчасти только в неопубликованных произведениях», и нигде это не имело наибольших последствий, чем в «Истоках тоталитаризма». Этот странный шедевр – исторический, политический, философский и полный литературных аллюзий; его трехчастная структура и даже смысл его заголовка часто являются предметом дискуссий; его явный дисбаланс в трактовке нацизма и большевизма породил значительные споры. Канован утверждает, что, когда «затопленный» контекст тоталитаризма выводится на свет, основания для непонимания книги устраняются и в новом ракурсе открывается дальнейшее развитие мысли Арендт. Возможно, наиважнейшая из нескольких «траекторий», прослеживаемых в настоящем томе, простирается с середины 1940-х гг., когда обширный проект «Истоков тоталитаризма» формировался в сознании Арендт, вплоть до тех лет, что последовали за его публикацией в 1951 г. Это были годы интенсивных размышлений над книгой, отчасти ее разъяснения, отчасти исправления ее дисбаланса по мере того, как становилось доступным больше информации о Сталине и Советском Союзе, и отчасти углубления и закрепления ее теоретических оснований.
Хронологический порядок этих дополнительных работ должен побудить читателей создать в своем воображении иллюстративную личность, путешественника, проходящего через важнейшие события XX в., что позволит им обрести видение этих событий, а также ощущение их развертывания. Острота взора Арендт и честность суждений – даже то, что может показаться их скоропалительностью – порождают понимание неотложности политики. Она читала курс под названием «Политический опыт XX века» – с акцентом на слове опыт, – воздействие которого должно было остановить волну политической апатии, наступающей вслед за разочарованием в политических идеалах и убеждениях.
Этот том с самого начала замышлялся как избранное, а не полное издание разрозненных и неопубликованных работ Арендт за охватываемый им период. В него не включены лекционные материалы, в которых повторяются или содержатся менее точные или хлесткие формулировки схожих идей, высказанных в других местах. В нескольких случаях герои эссе – Адам Мюллер, Адальберт Штифтер, Роберт Гилберт – показались слишком малоизвестными в Америке, чтобы включить их в этот сборник. Эссе о «Смерти Вергилия» Германа Броха, шедевр, крайне важный для Арендт, было включено, но рецензия на его «Сомнамбул» – нет. Два эссе о Бертольде Брехте не вошли в книгу, поскольку они представляются предварительными исследованиями для написанного в 1966 г. великолепного эссе Арендт «Бертольд Брехт, 1898–1956», включенного в ее книгу «Люди в темные времена». Трудным решением было не публиковать большое эссе о «Дуинских элегиях» Рильке, написанное в 1930 г. в сотрудничестве с Гюнтером Штерном (Андерсом), первым мужем Арендт. Несмотря на его историческое значение (в то время, всего четыре года спустя после его смерти, Рильке был едва известен в Германии), содержащийся в эссе детальный анализ просодии и стиля «Элегий» был бы недоступен негерманским читателям; более того, неясно, какую часть текста действительно написала Арендт. Но содержащийся в эссе акцент на внутренний мир и отчуждение влюбленного от преходящего мира и предлагаемое в нем прочтение стихотворений как «сознательного отречения от того, чтобы быть услышанным», трансформирующее «элегию» в сущностный «голос потерянности, а не скорбь по тому, что потеряно», – все это соответствует духу других эссе Арендт того же времени, в особенности посвященного Кьеркегору. Действительно, «отчаяние» «Элегий» рассматривается как «последний остаток религии».
Важнейшей из неопубликованных работ периода, охватываемого этим томом, и не включенной в него является серия лекций 1953 г. под названием «Карл Маркс и традиция западной политической мысли». Эти лекции положили начало исследованиям в той области, которой Арендт занималась в последующий период, невероятно продуктивный в ее интеллектуальной жизни. Некоторые из более поздних эссе в этом томе уже показывают фундаментальную перемену в ее отношении к большевистской версии тоталитаризма, растущее осознание того, что она была реализована полнее, чем та, что имела место в гитлеровской Германии, хотя ее истоки казались «благородными» в сравнении с нацизмом. Поскольку Советский Союз возник из марксистского революционного движения, и поскольку мысль Маркса претендовала на то, чтобы исправить всю западную политическую философию, реализовав справедливость и свободу здесь-и-сейчас, перед ней открылся масштабный проект. Чем именно была та традиция политической мысли, которая началась с Платона и Аристотеля в Древней Греции и достигла кульминации в Марксе? Какое отношение имела она к форме правления, настолько ужасной, что ее нельзя даже уподобить тирании? Если эта традиция потерпела банкротство, какое значение имеет это для оснований политики, человеческой свободы и спонтанного действия? Что это говорит о философии как таковой, об отношении, если таковое имеет место, уединенности к множественности и, следовательно, о политической мысли вообще? Эти вопросы были в числе главных для Арендт с середины 1950-х гг. до начала 1960-х; этот период охватывает том, озаглавленный «Обещание политики»[29 - Hannah Arendt, The Promise of Politics (New York: Schoken, 2005).].
Многие обращения к теме евреев как жертв тоталитаризма неизбежно фигурируют при рассмотрении тоталитаризма в данном томе, но отдельный сборник неопубликованных и разрозненных эссе содержит работы Арендт по таким темам, как еврейский вопрос в соотношении с германским Просвещением, современная еврейская история и культура, антисемитизм, сионизм, евреи во время Второй мировой войны, еврейская политика и формирование государства Израиль и еврейско-арабские отношения[30 - Hannah Arendt, The Jewish Writings (New York: Schocken, 2007).].
При редактировании этих текстов применялись некоторые общие принципы. По разрозненным эссе видно, что некоторые журналы редактировали первоначально очень неуклюжий английский язык Арендт более тщательно, чем другие (по прибытии в Нью-Йорк ее знание языка состояло из «одного сонета Шекспира», но годом позже она публиковала статьи, написанные на английском). Были предприняты усилия по достижению ясности и некоторой однородности стиля. Неопубликованные работы – совсем другое дело. В открывающем книгу интервью Арендт говорит о том, что она часто писала так быстро, как только могла печатать, и рукописи являются тому свидетельством. Они были по большей части подготовлены для лекций, с множеством повторений и эллипсисов, скорее немецких, чем английских грамматических конструкций, включая предложения длиной в страницу, и трудные, а порой не поддающиеся расшифровке рукописные поправки и добавления по меньшей мере на пяти языках. Более того, рукописи часто находятся в плохом состоянии. Поскольку Арендт использовала метод компоновки работ при помощи вырезания частей текста и соединения их скотчем, а скотч давно отклеился, для пометок, сделанных на первых страницах, приходилось находить соответствия с пометками на далеко отстоящих от них частях рукописи или даже в других рукописях. Там, где редактирование было необходимо, главной заботой было сохранить в неприкосновенности «голос» Арендт, а также суть того, о чем она говорила.
Редакционные комментарии и текстовые примечания добавлялись только тогда, когда представлялось необходимым пояснение ссылок или неясных, но интересных моментов. Арендт думала, что политика – слишком серьезное дело, чтобы оставлять ее либо экспертам, либо ученым. Она писала быстро и уверенно (хотя не всегда в соответствии с английской грамматикой) для широкой публики, не специалистов, и поэтому было бы ни в ее духе, ни в интересах читателей делать чересчур академичные дополнения.
Несколько эссе в этом томе существуют и в немецкой, и в английской версиях. К примеру, имеется немецкий текст эссе о Кафке, в некоторых отношениях более законченный и изящный, чем английский. «Когда я приехала в эту страну, я написала на своем очень нескладном английском статью о Кафке… когда я стала говорить с ними об англицизировании [слово Арендт, обозначающее исправление ее английского] я прочитала эту статью и там, среди прочего, появилось слово „прогресс“! Я сказала: „Что вы имеете в виду под этим“»?[31 - Hannah Arendt, The Recovery of the Public World (New York: St. Martin's Press, 1979), 334.] Так что мы знаем, что Арендт, которая использовала понятие «прогресс» иронически, написала английскую версию – она была первой из многих статей, опубликованных ею в журнале Partisan Review, – и, таким образом, придерживаясь принципа сохранения ее «голоса», она была отредактирована с учетом немецкой версии, но не представляла собой ее перевода. «Организованная вина и всеобщая ответственность» и «Экс-коммунисты» также существуют в немецких версиях, и с ними поступили таким же образом. Следует отметить, что Арендт никогда не переводила свои работы, но иногда – хотя она не очень любила это делать – перерабатывала на английском то, что существовало на немецком, и наоборот.
Та версия глубоко вдумчивого эссе «Что такое экзистенциальная философия?», что была опубликована в Partisan Review, является неполной версией ее исходной немецкой рукописи. Некоторые части ее кажутся не столько переработанными, сколько плохо переведенными. Неизвестно, кто был ответственным за английскую версию[32 - Благодаря Рэндаллу Слеттену, я недавно узнал, что переводчиком был Уильям Барретт.], но кажется маловероятным, что это была Арендт, хотя она вполне могла в этом участвовать. Поскольку это строго доказательное и сложное философское эссе, одно из критически важных для развития Арендт как мыслителя – эссе, которое она постеснялась показать Ясперсу, а стеснительность для нее была не слишком характерна – было решено для этого тома сделать новый перевод с немецкого. Тем самым описанный выше процесс был обращен вспять, с более ранним текстом в Partisan Review сверялись, в поисках намеков на «голос» Арендт во время подготовки итоговой версии. Это эссе среди прочего служит ранним свидетельством фундаментального влияния на Арендт мысли Иммануила Канта.
«Международные отношения в прессе на иностранных языках» представило иную проблему. Заголовок принадлежит рукописи, часть которой была извлечена, разделена на куски, дополнена и опубликована как «Наши иноязычные группы». Сделанные дополнения относились к американским евреям, чье положение, как говорит Арендт, «отлично от всех остальных». Выброшены были отсылки к «политически» спорным фигурам того времени (в Америке в годы войны). Представленное здесь целое соткано из его частей. Фокус внимания этих эссе в некоторых отношениях необычен для Арендт, но он явно демонстрирует ее растущий интерес к социально-политической плюралистической структуре страны, ставшей для нее новым домом – интерес, который находит подтверждение и в ряде других эссе этого сборника, – а также ее уважение к журналистике как призванию и по меньшей мере к избранным репортерам, которые, наряду с избранными историками и поэтами, были для нее единственными надежными стражами фактической истины.
В Библиотеке Конгресса две рукописи скреплены вместе: одна называется «О природе тоталитаризма: опыт понимания»; другая, без заглавия, но с отдельно пронумерованными страницами, продолжает первую, но примерно на третьей четверти пути отклоняется на связанный с прежним, но тем не менее новый курс. В конце концов она обрывается на середине предложения, не приходя ни к какому выводу (довольно редкое явление в текстах Арендт). Почти каждое предложение и абзац «Понимания и политики», показывающего первое столкновение Арендт с понятием суждения, включено в первую из этих рукописей, но не в том же порядке. Очевидно, что рукописи были лекционными материалами, и кажется ясным, что Арендт не делала извлечений, но сверялась с первой рукописью, когда писала «Понимание и политику», которая была опубликована в Partisan Review. Еще более запутывает дело то, что в Библиотеке Конгресса имеется еще одна рукопись, а именно оригинал «Понимания и политики», озаглавленный «Трудности понимания». Можно сделать обоснованное предположение, что журнал предпочел изменить название, которое было здесь восстановлено, поскольку понимание, к которому она стремилась, трудно. Два раздела «Трудностей понимания», которые отсутствовали в «Понимании и политике», вероятно, в силу того что один посчитали слишком спорным, а другой – слишком туманным, также были восстановлены. С этими добавлениями «Понимание и политика» здесь представлена в той форме, в которой была опубликована. Те разделы рукописи, в которую она первоначально входила и которые на самом деле дополняют эссе, были извлечены из основного текста и находятся теперь в примечаниях.
«О природе тоталитаризма» подхватывает то, на чем заканчивается «Понимание и политика», и переходит во вторую из скрепленных вместе рукописей, последние, незавершенные страницы, где рассуждения меняют направление, здесь не приводятся. Несколько абзацев из более ранней рукописи в Библиотеке Конгресса, «Идеология и пропаганда» (большая часть которой повторяет ранее опубликованные работы или использована в них), включены в текст «О природе тоталитаризма»; в них развиваются мысли Арендт по проблеме идеологии.
Ближе к концу текста «О природе тоталитаризма» вводится различие между одиночеством и уединением. Это, в очень образной форме, является темой эссе «Хайдеггер-лис», которое следует далее. В одном предложении из неиспользованной – и, в иных отношениях, отдельно стоящей части второй из скрепленных вместе рукописей – трудно не услышать иронический отзвук собственных размышлений Хайдеггера (которые Арендт очень ценила) об «отдаленной близости» философии и поэзии: «философ и тиран столь же далеки друг от друга, сколь и близки друг другу как уединение и одиночество». Читатель сладостно-горькой притчи «Хайдеггер-лис» должен помнить о том, что Арендт была одним из наиболее верных пленников «ловушки» лиса – верной Хайдеггеру и себе.
Имеется важное нарушение хронологического порядка в представленных здесь работах Арендт. Первый материал, «Что остается? Остается язык», датируется 1964 г., существенно выходя за хронологические рамки этого сборника. Причина начать его так в том, что Арендт редко говорила лично о себе, и почти никогда в целях публикации. Здесь же она говорит о своей жизни и в особенности о своей молодости, о своем политическом пробуждении и об открытии зла тоталитаризма, и все это важно для понимания следующих далее произведений. Она также колко высказывается о немецком языке и Карле Ясперсе, который всегда был ее другом и учителем, независимо от того, сходились ли они во мнениях по какому-либо конкретному вопросу.
Следующие шесть эссе написаны с 1930 г., когда Арендт было двадцать четыре, до 1933 г., года, когда она покинула родину. Первые три из них характеризуются погруженностью в свой внутренний мир и духовностью, акцентом на субъективной жизни, что некоторые читатели могут найти удивительным для Арендт, в то время как три последующих свидетельствуют о развивающемся осознании социальных и политических явлений. Два эссе из первой группы посвящены христианским мыслителям, Августину (бывшему темой ее докторской диссертации) и Кьеркегору, – очень важным фигурам для Арендт. В них обсуждаются не вопросы теологии – Августин не рассматривается как отец римско-католической церкви, а работа, посвященная 1500-летней годовщине его смерти, адресована протестантам, а не католикам, – но те два совершенно различных способа осмысления и переживания своего глубинного, внутреннего отношения к Богу, которые были у этих людей, столь далеко отстоящих друг от друга по времени и обстоятельствам жизни. Августин был «образцовым» в своем личном исповедании веры, а Кьеркегор «исключительным» в своем переживании того, что Арендт называет «парадоксом» христианского существования.
Между этими двумя работами длинный вдумчивый обзор «Идеологии и утопии» Карла Мангейма затрагивает несколько иное отношение, а именно сознания или духа (Geist) к миру и времени – фундаментально важная тема для Арендт, по которой она многократно высказывалась до конца своей жизни. В эссе со всей серьезностью рассматривается мангеймовское понятие «экзистенциальной ограниченности» всей мысли, включая философскую или созерцательную, в попытке обнаружить ее источник в «бездомности» современного человека. Такая бездомность рассматривается Арендт как условие социально-экономической «реальности» и в противопоставлении собственной «уединенности» созерцательной мысли, которая является «подлинной возможностью человеческой жизни». Хайдеггер и Ясперс появляются здесь (как и часто в этом томе) в качестве наиболее выдающихся представителей современной философии и, в частности, ясперсовское понятие трансцендентности в человеческом существовании (а не идеологического или утопического бегства от реальности) наглядно предстает в примере со святым Франциском Ассизским. Это эссе также содержит первую ясную формулировку причин того, что Арендт всегда отвергала психоанализ в качестве теории и практики.
Следующие два эссе этого периода являются результатом работы Арендт над биографией Рахель Фарнхаген. Они опубликованы здесь для того, чтобы привлечь внимание к этому уникальному исследованию жизни поразительной женщины, которым незаслуженно пренебрегают как многие исследователи Арендт, так и читатели. (Исключением здесь является книга Дагмар Барноу «Видимые пространства: Ханна Арендт и опыт немецких евреев»; в главе «Общество, выскочка и пария: история жизни немецкой еврейки» дается очень эрудированное и проницательное истолкование написанной Арендт биографии Рахель). Взятые вместе, они показывают первое и практически осязаемое столкновение Арендт с тем, что впоследствии станет для нее важнейшим различием между публичной и частной сферами опыта, различием, которое будет характеризовать и наполнять, если не определять, ее политическую мысль в зрелости; а также с тем, что для нее стало пагубным соединением публичных и частных по своей сути вещей в сфере социального.
Эссе, опубликованное к столетию со дня смерти писателя и государственного деятеля Фридриха фон Генца выдвигает на первый план этого самого земного из людей – суетного, гедонистичного, беспринципного, признающего только силу и ищущего только «реального», причем он сыграл определенную – даже важную – роль в жизни Рахель. Когда Арендт писала эту работу, Гентц был, по ее словам, практически «забыт» (биографии Пола Свита и Голоу Манна не были опубликованы до 1940-х гг. Отношение Арендт к Генцу, соединяющему собой Просвещение и период романтизма (которые в Германии не столь обособлены, в культурном или историческом плане, как, к примеру, во Франции), амбивалентно, как и карьера Генца была «неоднозначной». В одних отношениях он был консерватором, а в других либералом; он был сторонником абсолютизма, верившим, что сам принцип легитимности исторически относителен; и он был романтиком, более всего желавшим, чтобы мир не менялся. Но он знал и мог принять то, что мир меняется и что все, что он старался сохранить, будет потеряно. Не принцип или мотив, но знание дел и хода мировых событий наделяли его местом в мире. Именно из-за такой точки зрения наблюдателя, своего «включенного знания» духа века и его секретов – своим намного более земным образом он разделял идеал Mitwisserschaft[33 - Соучастия (нем.). – Прим. пер.] старого Фридриха Шлегеля – он нашел свое политическое кредо в строчках древнеримского поэта Лукана Victrix causa deis placuit, sed victa Catoni («Дело победителей было угодно богам, но дело побежденных – Катону»), которыми Арендт заканчивает свое эссе. Но поскольку она, вероятно, не разделяла в это время двусмысленной политической позиции Генца[34 - Конечно, в 1933 г., после поджога Рейхстага, она не считала возможным оставаться «зрителем», наблюдателем событий. Но намного позже, в 1972 г., на вопрос о том, либерал она или консерватор, она ответила: «Я не знаю… Вы знаете, левые думают, что я консерватор, а консерваторы иногда думают, что я левая, или „белая ворона“, или бог знает кто. И я должна сказать, что мне это совершенно безразлично. Я не думаю, что реальный вопрос этого века будет как-то прояснен этим» (Hannah Arendt: The Recovery of the Public World, edited by Melvy A. Hill [New York: St. Martin's Press, 1979], 333–34).], цитируя этот стих, она не дает никакого намека на смысл, который он будет иметь для нее позднее. Напротив, здесь почти кажется, что он означает, будто Генц предпочитал дело побежденных потому, что оно было проиграно. Но 24 июля 1954 г. в письме к Ясперсу она называет эти строки выражением «духа республиканизма», и еще позднее они в краткой форме выражали для нее саму сущность политического суждения.
Стоит отметить, что всего десять лет спустя после публикации этого раннего эссе, в краткой благожелательной рецензии (не включенной в этот сборник) на биографию Свита «Фридрих фон Генц: защитник старого порядка», Арендт выделяет Генца из компании Талейрана, Кестлри, Каннига и Меттерниха, каждый из которых служил своим соответствующим «национальным» интересам, как защитника «интереса Европы». Там она характеризует его главным образом как героя эпохи Просвещения, который сопротивлялся ее «деградации… в шовинизм» и «основывал совершенно независимую и бескорыстную политику на несуществовании германской нации». В 1942 г., в разгар Второй мировой войны, она хвалила «странную и восхитительную своевременность» книги Свита и находила «вопрос европейского единства» одной из «наиболее важных задач» времени. Политическая мысль Генца (студента Канта), после того как она была «почти потеряна в национализме XIX века», рассматривается ею как «предмет нашего особого внимания». Сегодня, более шестидесяти лет спустя, эта «задача» и это «внимание» кажутся особенно своевременными. Рецензия Арендт, озаглавленная «Веровавший в европейское единство»[35 - Hannah Arendt, «A Believer in European Unity», Review of Politics 4 (1942), 2, 245–247.], была ее первой опубликованной работой на английском.
Что касается Генца и Рахель Фарнхаген, она одна, среди множества его возлюбленных, понимала его, и они оба знали это. Она понимала, что его отношение к миру лишь казалось лицемерным другим, тогда как на самом деле он открывался миру наивно, как ребенок. Арендт говорит о возможности – если бы их любовь завершилась (чего не произошло) – возникновения другого «мира», «противостоящего реальному миру», мира, который изолировал бы Генца от той реальности, которой он жаждал. В «своей частной жизни он зависел от ее понимания», но не был готов пожертвовать «своей наивностью, своей чистой совестью, своим положением в мире – короче говоря, всем» для этого[36 - Цитаты здесь взяты из законченной биографии: Hannah Arendt, Rahel Varnhagen, The Life of a Jewish Woman, rev. ed. (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974), 86–87.]. Различие между пониманием в частной сфере и появлением на публике не могло бы быть проведено более резко, или более конкретно.
Именно сила воображения Арендт объясняет жуткую оригинальность ее портрета Рахель, крайне непохожего на обычный, первоначально изобретенный после ее смерти ее мужем-неевреем Карлом-Августом Фарнхагеном и затем увековеченный остальными[37 - Ср.: Dagmar Barnouw, Visible Spaces: Hannah Arendt and the German-Jewish Experience (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990), 48.]. Амбивалентность отношения Арендт к Рахель еще глубже, чем к Генцу. Конечно, это в некотором отношении связано с тем фактом, что Арендт была еврейкой и женщиной, как и Рахель, но она не пыталась понять свое собственное политическое положение в 1930-е гг. через жизнь Рахель или ее опыт в «обществе» более ста лет назад; она скорее пыталась добиться понимания «еврейского вопроса», его места в истории и культуре Германии, рассматривая его в уникальном видении Рахель.
«Берлинский салон» посвящен необычному, но недолговечному социальному явлению, выросшему из идеалов германского Просвещения, проявившемуся в полном романтическом цветении в мансарде Рахель, и внезапно прекратившему существование, когда его «социальная нейтральность» была сокрушена событиями в реальном мире. Он «затонул как корабль», как сказала Рахель, как если бы был разрушен наполеоновскими пушками. Между Лигой добродетели (с ее концепцией равенства, основанного на доброте), которая предшествовала ему и крайне селективным, буржуазным Столовым обществом, которое за ним последовало, салон Рахели был воплощением романтической «неблагоразумности». Именно эта неблагоразумность, разновидность богемности, необычная и какая угодно, но только не буржуазная, разрушала различие между публичным и частным, принимая всерьез интересное человеческое существо как таковое – будь то женщина, князь, государственный деятель, еврей или кто-либо еще, – и интерес представляла сама жизнь (к примеру, счастье или несчастье), а не лицо, не «носитель» этой жизни. Так что это не место личности в мире рекомендовало ее Рахель, а, наоборот, такая вещь, как способность страдать «более чем кто-либо, кого я когда-либо знала». Сама Рахель воплощала отсутствие осмотрительности, поскольку ее жизнью руководило стремление избежать «несчастья» ее рождения – бытия еврейкой, – став «подобной» (ассимилированной) любой другой «воспитанной личности». Ее салон мог создавать для нее иллюзию такой ассимиляции, но это была ложная мечта о равенстве; время, «когда мы все были вместе», исчезло как мираж, когда она писала об этом Паулине Визель в 1818 г. В интимности любви понимание Рахелью Генца могло заслонять, даже заменять реальность, но оно никогда не могло заставить ее примириться с миром, в котором ее дискриминировали как еврейку. Это была та же интимность, ради которой Генц отказался пожертвовать очарованием мира, который вызывал у него такое восхищение во всех его проявлениях.
Арендт была поражена блестящим умом Рахель, ее огромной способностью к любви и ее пониманием других, вырастающим из этой способности, а также ее чудесной, неразборчивой открытости жизни. Но Арендт обнаружила, на своем собственном опыте политического антисемитизма – в отличие от социальной дискриминации, – что быть евреем – это на самом деле политический, публичный факт. Было неважно, придерживается ли она религиозных представлений или обладает еврейскими «характеристиками», или то, что при иных обстоятельствах ее блестящий ум и иная одаренность сделали бы ее «исключением» в глазах общества. Политически тот факт, что в глазах мира она представала как еврейка, значил намного больше, чем такие соображения, и утверждать иное было бы «гротескным и опасным бегством от реальности». Благодаря этому открытию она поняла, что только реальное, неиллюзорное равенство связано с политической свободой; что условием политической свободы является обладание местом, не в салоне, но в мире; и что единственный способ обрести место в мире – это потребовать его, заявив: да, я – то, чем я кажусь, я еврейка. В 1933 г. Арендт начала работать в сионистской организации Германии, хотя она лично не была сионисткой; эта работа привела к ее аресту. Это было трудное и рискованное дело, требующее мужества (среди многого прочего это объясняет ее четкие и ясные призывы к формированию еврейской армии в ходе Второй мировой войны) и, вероятно, не будет чрезмерным сказать, что без этого опыта она не смогла бы развить свою концепцию действия.
«Об эмансипации женщин» – единственный текст Арендт, посвященный женскому вопросу (возможно, достаточная причина, чтобы включить его в этот сборник), хотя она ссылалась на современные дебаты в германском женском движении в своей биографии Рахель Фарнхаген. Арендт утверждает, что смешение социальных целей с политическими никогда не позволит раскрыть специфическую сложность жизненной ситуации женщины, что, возможно, есть первый намек на тот род критики, которой она подвергнет марксистскую мысль. Алис Герштель, автор книги, которой посвящена рецензия Арендт, и ее муж, Отто Рийхле, были видными деятелями радикальных политических движений в Германии. Герштель была также близка с Миленой Есенской, другом и товарищем по переписке Арендт, что создает прекрасную, хотя и случайную, связь со следующим эссе «Франц Кафка: переоценка».
Одиннадцатилетний разрыв, отделяющий последнюю работу, написанную Арендт в Германии в 1933 г. от эссе о Кафке может показаться удивительным. Из интервью Гауса понятно, что Арендт, покинув Германию, испытывала отвращение к интеллектуалам и интеллектуальной жизни, а также ясно, что в качестве беженца без гражданства у нее были серьезные практические трудности. В Париже она работала на Молодежную алию, подготавливая еврейских детей к эмиграции в Палестину, куда она сопровождала одну из групп в 1935 г. Но она не полностью отстранилась от интеллектуальной жизни Парижа. Она посещала некоторые из знаменитых семинаров Александра Кожева о Гегеле, где впервые встретила философов Жана-Поля Сартра и Александра Койре (она считала Койре намного более проницательным интерпретатором Гегеля, чем Кожев); она подружилась с Раймоном Ароном и была очень близка с Вальтером Беньямином[38 - Полное описание этого периода жизни Арендт см. в Elisabeth Young-Bruehl, Hannah Arendt: For Love of the World (New Haven, CT: Yale University Press, 1982), chap. 4.]. Немногие сохранившиеся от этого периода эссе Арендт касаются еврейского вопроса и включены в том, содержащий работы Арендт по еврейской проблематике, упомянутый выше.
Намного большая часть эссе, последовавших за посвященным Кафке, так или иначе касаются Второй мировой войны и многочисленных феноменов, связанных с тоталитаризмом. Даже кажущиеся исключения – такие, как работы о Дильтее, Дьюи, Брохе, Ясперсе и Хайдеггере; эссе, рассматривающие философские вопросы, в особенности немецкую и французскую экзистенциалистскую мысль и политическую философию в целом; и посвященные множеству вопросов, связанных с религией – написаны с той точки зрения, про которую можно безошибочно сказать, что она сформирована пониманием Арендт того, чем были для нее беспрецедентные политические события двадцатого века. Сама переоценка Кафки осуществлена именно с такой точки зрения: он рассматривается не как «пророк», предсказавший будущее, а как проницательный аналитик «фундаментальных структур» «несвободы» своего времени, которое создало то, что Арендт называла «проектами» социализированного человечества, бюрократического общества, управляемого сверхчеловеком, в противоположность человеческим законам. Для Арендт показателем гениальности Кафки была его способность постигать структуры «подземного потока истории Запада»[39 - Это фраза Арендт в предисловии к первому изданию «Истоков тоталитаризма».], когда они были все еще скрыты для большинства. С другой стороны, его «образ… человека как модели доброй воли», «всех и каждого», желающих быть свободными, напоминает о том «доверии к людям», о котором Арендт говорит в конце интервью с Гаусом, доверие «к человеческому всех людей».
Арендт считала, что политическая мысль в XX в. должна порвать со своей собственной традицией так же радикально, как систематические массовые убийства, осуществленные тоталитарными режимами, порвали с традиционным пониманием политического действия. Ранний и наглядный пример ее собственного мышления можно видеть в различии, которое она проводит между «организованной виной» и «всеобщей ответственностью». Именно Арендт, еврейка, в последние дни войны высказывалась против ванситтартизма; она не считала, что немецкий народ обладает «монополией вины» за бесчеловечные преступления расистской идеологии. Не немецкий народ, а эта идеология сделала все возможное, чтобы уничтожить германскую культуру и человечность. Ее предвидение того, что зло станет «фундаментальным вопросом» в послевоенном мире, объясняет ее признание необходимости примирения народов и нового начала. Зло стало явным как инверсия векового основания западной морали – «Не убий!» – и менее абстрактно понималось как «чудовищность», «бесчеловечность» создания «абсолютно невинных» жертв для демонстрации хода так называемых законов природы и истории. Связь «чудовищности» и «бесчеловечности» с «невинностью» кажется весьма странной до тех пор, пока не понята совершенная новизна тоталитаризма как формы правления. Это понимание трудно, и теоретическим достижением первого порядка для Арендт было обосновать добавление новой формы правления к списку, начатому Платоном и Аристотелем и едва ли изменившемуся со времен античности.
Это никоим образом не только вопрос теории. Тоталитаризм – его угроза человечеству – представляет собой такую опасность, что Арендт не перестает предупреждать нас о политических условиях и ментальных установках, из которых он вырастает. Так, она обращает внимание на то, что в основе сталинского насилия лежала не столько идея, что «не разбив яиц, омлет не приготовишь», – сколько идея действия как фабрикации – в смысле делания истории. «Экс-коммунистов» от «бывших» коммунистов отличает фундаментально тоталитарный способ мышления, нетерпение по отношению к «основным неопределенностям» действия и идеологическая вера в «конец» истории. Она бескомпромиссно критична по отношению к светскому буржуазному обществу, его убийственной конвенциональности и указывает на его тенденцию лишать человека спонтанности и превращать его в «функцию общества». Испытывая симпатию к неокатолическим критикам буржуазных «морали и стандартов», таким как Г. К. Честертон и Шарль Пеги, она не выносила католиков или кого угодно, кто стремился бежать от реальности, прячась за «определенностью» прошлых истин.
Если нельзя убежать ни в «еще не», ни в «уже не», если нить традиционной западной мысли определенно перерезана, то даже величайшая философия истории не может повлиять на примирение между людьми и миром, в котором они живут. Гегелевская концепция Истории, его объяснение дел человеческих и хода событий как «диалектического движения к свободе», стала нереалистичной – не философски нереалистичной (что бы это ни означало), но страдающей от нехватки «чувства реальности», будучи взвешенной на весах с политическими событиями двадцатого века. Значимы не эти события, мыслимые абстрактно, к примеру, как знаки обреченности, – но их реальный вес и тяжесть в человеческом опыте. К концу этого тома Арендт рассматривает политическую философию как способную, в полную противоположность философии истории, к новому началу. В течение десятилетий мыслители думали, а писатели писали, что «кризис западной цивилизации» близок, и наконец этот кризис смог увидеть каждый – в тоталитарных режимах, в огромных фабриках, производящих трупы, – на земле, общей для всех людей. Не иная политическая философия стала нужна для объяснения этого, но новое понимание политики как таковой. Пусть ее серьезные исследования мысли Хайдеггера, Ясперса и других оказались неокончательными, в 1954 г. Арендт кажется убежденной в том, что впервые может оказаться возможным «прямо постичь сферу человеческих отношений и человеческих дел». Для того чтобы это сделать, потребуется действие, близкое к «бессловесному удивлению», несмотря на «бессловесный ужас перед тем, что может сделать человек». Эти слова не предвосхищают возвращения к традиционной философии; напротив, они являются призывом того, кто, хотя и не был никогда полностью дома в мире, тем не менее дерзал понимать и судить мир так долго, как продолжалось ее пребывание в нем. В четырех сильных строках из стихотворения, написанного в тот же год, что и последнее эссе этого сборника, Арендт изложила это так:
Ich lieb die Erde
so wie auf der Reise
den fremden Ort
und anders nicht.[40 - Я люблю землюТак, как путешественник любитЧужие края,А не иначе.]
* * *
Вскоре после неожиданной смерти Ханны Арендт в декабре 1975 г. ее близкий друг и один из душеприказчиков, Лотте Колер, попросила Ларри Мея и меня (мы оба несколько лет работали с Арендт в качестве ассистентов) помочь ей подготовить большое количество бумаг в квартире Арендт на Риверсайд-драйв для отправки в Библиотеку Конгресса. Было непривычно проводить там день за днем, неделю за неделей, а потом и месяц за месяцем (работа не была закончена вплоть до лета 1977 г.) без Арендт. К грусти этого времени добавлялось ощущение открытия. Почти каждый день мы находили совершенно неожиданные документы и обсуждали их за прекрасными немецкими обедами, которые готовила Лотте Колер.
Мэри Маккарти, литературный душеприказчик Арендт, присоединялась к нам, когда бывала в городе. Хотя по складу своего ума эта замечательная женщина во многом отличалась от Арендт, острота ее прозрений была столь же поразительна. В это время я также вел длительные разговоры и переписку с американским философом Дж. Гленн Греем. Он обладал глубоким пониманием мысли Арендт в поздние годы ее жизни и считал, что она на много поколений, возможно, на век, опередила свое время. Вплоть до своей безвременной смерти в 1977 г. он был лучшим из проводников по интеллектуальному лабиринту текстов Арендт.
Элизабет Янг-Брюэль была среди первых, кто использовал бумаги Арендт. Она их внимательно изучала, работая над книгой «Ханна Арендт: во имя любви к миру», по-прежнему основным источником для познания истории жизни Арендт. С момента ее публикации в 1982 г. ее биография читалась многими, как исследователями, так и широкой публикой. Элизабет и я – друзья уже тридцать пять лет, с того дня, как мы встретились на семинаре Арендт. За это время много часов прошло в разговорах о ней; эти продолжающиеся беседы значат для меня больше, чем я могу высказать, и не в последнюю очередь в связи с работой по отбору и редактированию этих произведений.
Ларри Мей и я продолжили работать с Мэри Маккарти, которая взяла на себя труд по подготовке к публикации последних лекций Арендт «Жизнь ума». Редакторские стандарты Маккарти были очень высоки, и именно тогда, особенно отвечая на многие ее длинные письма, полные вопросов, я начал понимать что-то из того, что предусматривала редакторская работа по изданию работ Арендт. В это время я также познакомился с Уильямом Йовановичем, который одобрил первое издание этого тома в 1994 г. Его первый редактор, Алэйн Сальерно Мэйсон, демонстрировала большую преданность делу все время, что я работал с ней. Дэниэл Франк, шеф-редактор издательства Pantheon Books, заслуживает сердечных благодарностей всего растущего сообщества читателей Арендт за переиздание этого сборника.
Вдобавок к этому за прошедшие годы многие студенты, друзья и ученые помогали, возможно, и не зная об этом, пополнять подборку включенных в эту книгу эссе. Следует особо выделить трех исследователей: Ричарда Бернстайна, вместе с которым я имел удовольствие и пользу читать курс по работам Арендт; Маргарет Канован, с которой я познакомился по переписке благодаря Мэри Маккарти и чьи исследования подняли понимание политической мысли Арендт на прежде недостижимый уровень; и Урсулу Лудз, чья полная библиография, отличные немецкие издания работ Арендт и доброта помогали и поддерживали меня все время. Эйприл Флакне, будучи еще аспиранткой, занималась подготовкой черновиков двух взаимосвязанных эссе, «Понимание и политика» и «О природе тоталитаризма», которые вместе составляли самую трудную и, в некоторых отношениях, самую проблематичную часть редакторской работы над этим сборником. Она, конечно, не несет ответственности за любые недостатки, которые, возможно, остались в итоговых версиях.
Переводчики написанных на немецком работ Арендт, прежде всего Роберт и Рита Кимбер, но также Джоан Стамбо и Элизабет Янг-Брюэль, заслуживают благодарности за осуществленную ими трудную работу. Лотте Колер усердно просмотрела почти каждое слово перевода. Я хочу поблагодарить отдел рукописей Библиотеки Конгресса за их безграничное радушие и усилия по поддержанию в наилучшем возможном состоянии помещенного в их хранилище собрания работ Арендт, которые из-за постоянного и все большего их использования стали весьма хрупкими[41 - Сегодня, благодаря щедрому гранту фонда Эндрю Меллона, вся коллекция оцифрована и доступна в Библиотеке Конгресса и Центрах Ханны Арендт в Нью-Йорке и Ольденбурге (Германия).]. Я благодарю Джерарда Ричарда Хулаха и Мэри и Роберта Лазарус за их практическую и моральную поддержку в течение многих лет.
Хотя Ханна Арендт с явным раздражением относилась к любому утверждению о том, что она «гений», настаивая на том, что ее путь к достижениям был путем сплошного тяжелого труда, никто из знавших ее не сомневался в том, что она гений дружбы. Не поощряя ни учеников, ни эпигонов, она связывала узами дружбы огромное множество разнообразных индивидуальностей. Двум из ее лучших друзей посвящается этот том: Лотте Колер и памяти Мэри Маккарти.
«Что остается? Остается язык»
Беседа с Гюнтером Гаусом