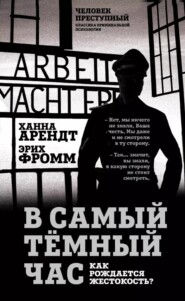По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Опыты понимания, 1930–1954. Становление, изгнание и тоталитаризм
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
[28 октября 1964 г. по западногерманскому телевидению показали следующий разговор между Ханной Арендт и Гюнтером Гаусом, в то время знаменитым журналистом, а позже – высокопоставленным чиновником в правительстве Вилли Брандта. Это интервью получило премию Адольфа Гримме и было опубликовано на следующий год в Мюнхене под названием «Was bleibt? Es bleibt die Muttersprache» в книге Гюнтера Гауса Zur Person.
Гаус начинает разговор с того, что Арендт – первая женщина в серии его интервью, но тут же уточняет это утверждение замечанием, что у нее «очень мужское занятие» – философия. Это ведет к первому вопросу: несмотря на признание и уважение, которые она получила, осознает ли она «свою роль в кругу философов» как необычную или особенную, потому что она женщина? Арендт отвечает:]
Боюсь, я должна возразить. Я не вхожу в круг философов. Моя профессия, если об этом вообще можно так говорить, – это политическая теория. Я никогда не чувствовала себя философом и не верила, что меня примут в круг философов, как вы сейчас любезно предположили. Но вернемся к другому вопросу, который вы поставили во вступительном замечании: вы говорите, что философия обычно считается мужским занятием. Она не должна оставаться мужским занятием! Вполне возможно, что однажды женщина будет философом…[42 - Многоточия здесь и везде взяты из оригинальной статьи, они не означают пропуска материала.]Гаус: Я считаю вас философом…
Арендт: Что ж, с этим я ничего поделать не могу, но, по моему мнению, это не так. Я считаю, что я попрощалась с философией раз и навсегда. Как вы знаете, я изучала философию, но это не значит, что я с ней осталась.
Гаус: Мне бы хотелось уточнить у вас, какова разница между политической философией и вашей работой как профессора политической теории.
Арендт: Выражение «политическая философия», которого я избегаю, чрезвычайно отягчено традицией. Когда я говорю об этих вещах, академически или не академически, я всегда упоминаю, что между философией и политикой есть существенное напряжение. Так, между человеком как мыслящим существом и человеком действующим существом есть напряжение, которого, например, не существует в натурфилософии. Как и все остальные, философ может быть объективным по отношению к природе, и когда он говорит, что он думает об этом, он говорит от имени всего человечества. Но он не может быть объективным или нейтральным в отношении политики. Точно не после Платона!
Гаус: Я понимаю, что вы имеете в виду.
Арендт: Большинство философов, за очень редким исключением, испытывают некоторую неприязнь к политике. Кант как раз исключение. Эта неприязнь невероятно важна для всей проблемы, потому что это не личный вопрос. Он лежит в самой природе субъекта.
Гаус: Вы не хотите иметь отношения к этой враждебности к политике, потому что думаете, что это помешает вашей работе?
Арендт: Вот именно – «Я не хочу иметь отношения к этой враждебности»! Я хочу смотреть на политику, так сказать, глазами, незамутненными философией.
Гаус: Понимаю. Теперь давайте обратимся к вопросу об эмансипации женщин. Было ли это проблемой для вас?
Арендт: Да, конечно; такая проблема всегда существовала. Я на самом деле довольно старомодна. Я всегда думала, что есть определенные виды занятий, неподходящие для женщин, которые им не к лицу, если можно так выразиться. Это просто плохо выглядит, когда женщина отдает приказы. Ей не следует оказываться в такой ситуации, если она хочет остаться женственной. Права я или нет, я не знаю. Я сама всегда жила в соответствии с этим более или менее бессознательно – или, лучше сказать, более или менее сознательно. Проблема сама по себе не играет роли персонально для меня. Я попросту всегда делала то, что мне нравилось.
Гаус: Ваша работа – мы непременно вернемся к деталям чуть позже – в значительной степени касается знания условий, в которых возникают политическое действие и поведение. Хотите ли вы достичь обширного влияния этими работами или же вы считаете, что такое влияние больше невозможно в наше время? Или это просто для вас не важно?
Арендт: Знаете, это непростой вопрос. Если честно, я должна признаться: когда я работаю, мне не интересно, как моя работа может повлиять на людей.
Гаус: А когда вы заканчиваете?
Арендт: Тогда я заканчиваю. Для меня важно понимание. Письмо для меня – поиск этого понимания, часть процесса понимания… Формулирование определенных вещей. Если бы у меня была достаточно хорошая память, чтобы действительно сохранить все, что я думаю, очень сомневаюсь, что я смогла бы это все написать, – я свою лень знаю. Для меня важен сам мыслительный процесс. И если я добилась успеха в мышлении, я лично вполне удовлетворена. Если я добилась потом успеха в адекватном выражении моего мыслительного процесса на письме, это дает мне чувство удовлетворения, как будто я дома.
Гаус: Вы легко пишете? Легко формулируете идеи?
Арендт: Иногда да, иногда нет. Но в целом я могу сказать вам, что я никогда не пишу, пока я не могу, так сказать, писать под собственную диктовку.
Гаус: Пока вы все не продумали.
Арендт: Да. Я точно знаю, что я хочу написать. Я не стану писать, пока не знаю. Обычно я пишу все сразу. И это происходит довольно быстро, так что на самом деле это зависит только от того, как быстро я печатаю.
Гаус: Ваш интерес к политической теории, политическому действию и поведению, это центральная тема вашей работы сегодня. В свете этого то, что я нашел в вашей переписке с профессором Шолемом[43 - Гершом Шолем (1897–1982) – выходец из Германии, сионист, историк, выдающийся исследователь еврейского мистицизма, был старым знакомым Ханны Арендт. 23 июня 1963 г. он написал ей крайне критическое письмо о ее книге «Эйхман в Иерусалиме» (см. «Eichmann in Jerusalem: An Exchange of Letters», Encounter 22, 1964). Цитата взята из ответа Ханны Арендт, датированного 24 июля 1963 г. – Прим. ред.], кажется особенно интересным. Там вы писали – приведу цитату, – что вы «в юности не интересовались ни политикой, ни историей». Госпожа Арендт, как еврейка вы эмигрировали из Германии в 1933 году. Вам было тогда двадцать шесть лет. Ваш интерес к политике – утрата безразличия к политике и истории – связан с этими событиями?
Арендт: Да, конечно. Безразличие было больше невозможно в 1933 году. Оно было больше невозможно даже раньше.
Гаус: И для вас тоже?
Арендт: Да, конечно. Я внимательно читала газеты. У меня было свое мнение. Я не входила в партию, и мне это было не нужно. К 1931 году я была твердо уверена, что нацисты встанут у руля. Я всегда спорила с другими людьми об этом, но в действительности я не задумывалась об этих вещах систематически до тех пор, пока не эмигрировала.
Гаус: У меня есть еще один вопрос к тому, что вы сказали. Если вы были уверены, что приход нацистов к власти не остановить, не чувствовали ли вы, что обязаны что-то сделать, чтобы предотвратить это – например, вступить в какую-либо партию, – или вы не видели в этом смысла?
Арендт: Я лично не думала, что это имеет смысл. Если бы я так думала – тяжело рассуждать об этом, оглядываясь назад, – возможно, я могла бы что-то сделать. Я думаю, это было бессмысленно.
Гаус: Есть ли какое-то определенное событие в вашей памяти, которое знаменует ваше обращение к политике?
Арендт: Я бы сказала, это 27 февраля 1933 года, поджог Рейхстага и незаконные аресты, которые последовали той же ночью. Так называемое превентивное заключение. Как вы знаете, людей забирали в подвалы гестапо или в концентрационные лагеря. То, что случилось тогда, чудовищно, но теперь все это уже затмили вещи, которые произошли потом. Это был неожиданный шок для меня, и с этого момента я чувствовала свою ответственность. То есть я больше не думала, что можно быть просто свидетелем. Я пыталась помочь разными способами. Но я никогда не говорила, из-за чего я на самом деле покинула Германию, если об этом вообще стоит говорить, потому что это не имеет значения.
Гаус: Пожалуйста, расскажите нам.
Арендт: Я в любом случае собиралась эмигрировать. Я сразу же поняла, что евреям нельзя оставаться. Я не собиралась мотаться по Германии как гражданин второго сорта. Кроме того, я думала, что будет все хуже и хуже. Однако в итоге я уехала не так уж спокойно. И, надо сказать, это доставило мне определенное удовольствие. Меня арестовали, и я вынуждена была покинуть страну нелегально – я сейчас расскажу вам, как – и это для меня было настоящим удовольствием. Я думала, что я сделала хотя бы что-то. По крайней мере, я не «невинна». Никто не мог сказать так обо мне!
Сионистская организация дала мне шанс. Я близко дружила с некоторыми лидерами, а больше всего с тогдашним президентом, Куртом Блюменфельдом. Но я не была сионисткой. И сионисты не пытались обратить меня в свою веру. Но в известном смысле они оказали на меня влияние: особенно критикой и самокритикой, которую сионисты проповедовали евреям. Я была под влиянием и под впечатлением от этого, но политически у меня с сионизмом не было ничего общего. Теперь, в 1933 году Блюменфельд и еще один неизвестный вам человек пришли ко мне и сказали: мы хотим собрать все антисемитские высказывания, сделанные в обычных обстоятельствах. Например, высказывания в клубах, всевозможных профессиональных клубах, всевозможных профессиональных журналах – короче говоря, таких, о которых не было известно за рубежом. Составление подобного сборника в то время означало соучастие в том, что нацисты называли «пропагандой клеветнических измышлений». Ни один сионист не мог этого сделать, потому что если бы его поймали, вся организация была бы раскрыта… Они спросили меня: «Ты сделаешь это?», я сказала: «Конечно». Я была очень счастлива. Во-первых, эта идея казалась мне очень умной, а во-вторых, она давала мне ощущение, что что-то, в конце концов, было сделано.
Гаус: Вас арестовали в связи с этой работой?
Арендт: Да, меня раскрыли. Мне очень повезло. Я вышла через восемь дней, потому что я подружилась с офицером, который меня арестовал. Он был очаровательный парень! Его повысили из криминальной полиции в политический отдел. Он не знал, что делать. Чего от него ждали? Он говорил мне: «Обычно, когда кто-то стоит передо мной вот так, мне достаточно только взглянуть на его дело, и мне все ясно. Но что делать с тобой?»
Гаус: Это было в Берлине?
Арендт: Это было в Берлине. К сожалению, я вынуждена была ему солгать, я не могла позволить, чтобы организация была раскрыта. Я рассказывала ему небылицы и он говорил: «Я тебя сюда привел, и я тебя отсюда вытащу. Не бери адвоката! У евреев теперь нет денег. Побереги деньги!» Тем временем организация наняла мне адвоката. Из членов, конечно. И я отослала адвоката назад. Потому что у человека, который меня арестовал, было открытое, приличное лицо. Я положилась на него и думала, что это гораздо лучше, чем иметь адвоката, который сам напуган.
Гаус: И вы вышли и смогли покинуть Германию?
Арендт: Я вышла, но границу пересекала нелегально… под своим именем этого было не сделать.
Гаус: В переписке, которую мы упомянули, вы, госпожа Арендт, явно отвергли за ненадобностью предупреждение Шолема, что вам следует всегда помнить о вашей солидарности с евреями. Вы пишете, – я снова цитирую: «Быть евреем означает для меня очевидные факты моей жизни, и я никогда не хотела изменить что-то в этих фактах, даже в детстве». Я хотел бы задать несколько вопросов об этом. Вы родились в 1906 году в Ганновере, ваш отец инженер, вы выросли в Кенигсберге. Помните ли вы, что такое быть ребенком в довоенной Германии и происходить из еврейской семьи?
Арендт: Я не могу ответить на этот вопрос честно за всех. Что до моего личного опыта, я не знала от моей семьи, что я еврейка. Моя мать была совершенно не религиозна.
Гаус: Ваш отец умер молодым.
Арендт: Мой отец умер молодым. Это все звучит очень странно. Мой дед был президентом либеральной еврейской общины и гражданским служащим в Кенигсберге. Я происхожу из старой кенигсбергской семьи. Однако слово «еврей» ни разу не проявлялось, пока я была маленькой. Впервые я столкнулась с ним в антисемитских замечаниях – повторять их не стоит – от детей на улице. После этого я была, так сказать, «просвещена».
Гаус: Для вас это было шоком?
Арендт: Нет.
Гаус: Было ли у вас чувство: теперь я какая-то особенная?
Арендт: Это совсем другое. Для меня это совершенно не было шоком. Я думала: так вот оно что. Было ли у меня чувство, что я особенная? Да! Но я не могу объяснить это вам сегодня.
Гаус: Как именно вы чувствовали себя особенной?
Арендт: Объективно говоря, я считаю, что это было связано с моим еврейством. Например, ребенком, когда я немного повзрослела, я знала, что я выгляжу как еврейка. Я выглядела не так, как другие дети. Я очень хорошо это осознавала. Но это не то, что заставляло меня чувствовать себя неполноценной, просто это так было. И потом, моя мама, мой дом, скажем так, немного отличался от обычного. В нем было слишком много особенного, даже по сравнению с домами других еврейских детей или даже других детей, которые были с нами связаны, а ребенку трудно понять, что же именно было особенным.
Гаус: Я хотел бы уточнить, что было особенным в вашем доме. Вы сказали, что ваша мать не считала необходимым объяснить вашу принадлежность к еврейству, пока вы не столкнулись с этим на улице. Ваша мать потеряла это чувство – быть евреем, – которое вы утверждаете для себя в вашем письме Шолему. Не сыграло ли для нее это большую роль? Успешно ли она ассимилировалась или по меньшей мере верила в это?
Арендт: Моя мать не была склонна к теоретизированию. Я не думаю, что у нее были какие-то особенные идеи по этому поводу. Сама она вышла из социал-демократического движения, из круга Sozialistische Monatshefte[44 - Sozialistische Monatshefte («Социалистический ежемесячник») – широко известный немецкий журнал того времени.], как и мой отец. Еврейский вопрос не имел для нее значения. Конечно, она была еврейкой. Она бы никогда не крестила меня! Я думаю, она оторвала бы мне уши, если бы узнала, что я отказываюсь быть еврейкой. Это было немыслимо, так сказать. Об этом не могло быть и речи! Но вопрос был, естественно, гораздо важнее в двадцатые, когда я была юной, чем когда-то для моей матери. И когда я выросла, он стал для матери важнее, чем раньше. Но это было обусловлено внешними обстоятельствами.
Я, например, не верила, что когда-нибудь буду считать себя немкой – в смысле принадлежности к народу, а не гражданства, если я могу сделать такое различение. Я помню спор об этом с Ясперсом в 1930 году. Он сказал: «Конечно, ты немка!» Я ответила: «Видно же, что нет!» Но это меня не беспокоило. Я не чувствовала, что это было чем-то недостойным. Ничего такого не было. И возвращаясь к тому, что было особенным в моем доме: все еврейские дети сталкивались с антисемитизмом. И это отравляло души маленьких детей. Разница между нами была в том, что моя мать всегда была убеждена, что нельзя позволять этому задевать тебя. Ты должен защищаться! Когда мои учителя позволяли себе антисемитские высказывания – по большей части не обо мне, а о других еврейских девушках, особенно ученицах из Восточной Европы, – мне разрешалось немедленно встать, выйти из класса, пойти домой и обо всем рассказать. Потом моя мать писала одно из множества своих писем руководству школы и для меня этот вопрос был полностью решен. У меня был выходной, и это было чудесно! Но когда это шло от детей, мне не разрешалось говорить об этом дома. Это было не в счет. Ты сам должен уметь защитить себя от других детей. Так что эти вопросы никогда не были для меня проблемой. Там были правила поведения, благодаря которым я сохранила мое достоинство, если можно так выразиться, и я была защищена, абсолютно защищена дома.