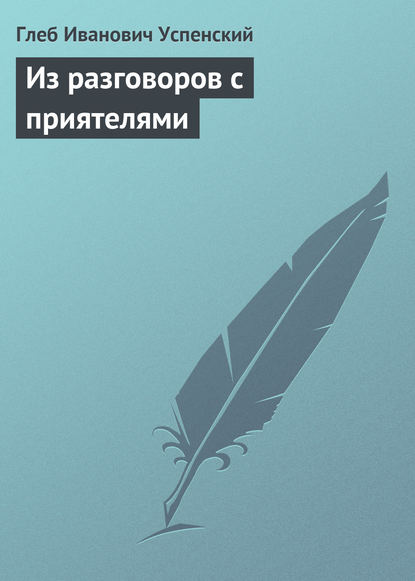По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из разговоров с приятелями
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Из разговоров с приятелями
Глеб Иванович Успенский
«…Очерки «Из разговоров с приятелями» идейно и тематически непосредственно примыкают к циклу «Власть земли». В очерках проводится параллель между идеалом трудовой крестьянской жизни и социалистическими идеалами, создающимися на почве рабочего движения. …Успенский рассматривает крестьянина как прообраз гармонического, «полного» человека, который «всё сам, на все руки, всё может и ни в ком не нуждается». Но вместе с тем писатель подчеркивает, что гармоничность крестьянской жизни складывается под стихийным воздействием природы. Крестьянин живет «без своей воли», «как цветок, как галка, как пчела». Достаточно поэтому иногда простого «случая», чтобы сокрушить «гармонию» крестьянской жизни…»
Глеб Иванович Успенский
Из разговоров с приятелями
(На тему о «власти земли»)
I. Без своей воли
1
…Слава богу, зима стоит настоящая, снежная, морозная, с вьюгами и сугробами. Хорошо побыть, пройтись и проехаться на свежем, холодном воздухе, хорошо и дома посидеть во вьюгу и пургу, жарко растопив печку и взяв в руки хорошую книгу.
В один из таких вьюжных вечеров, как-то на днях, я и один мой приятель мирно коротали время, попивая чай, читая, кто книгу, кто газету, и испытывая самое современнейшее из удовольствий, удовольствие нестеснительного молчания. В особенности с этим «удовольствием» освоился мой приятель, так как жизнь накопила у него на сердце немало горя, и всякий раз, когда он говорил, слово его было невеселое, очень часто желчное, а иногда почти истерически негодующее. По натуре это был человек добрый и мягкий, но судьбе угодно было заставить его жить в таких условиях, где эти качества, особливо мягкость, не требовались, и не только не требовались, но не доставляли ничего, кроме горя и душевной отравы. Он начал жить сердцем и умом в то время, когда отмена крепостного права налагала даже на самые заскорузлые натуры обязательства знать и видеть, что все это старое крепостное кончилось и что теперь ничего этого не будет. Приятель мой принадлежал не к заскорузлым натурам и не поневоле думал, что все это кончилось, а верил в это и знал это по сущей совести. Он начал жить, думая, что теперь все пойдет «по-хорошему», тихо, смирно и благородно; думая, что «тихо, смирно и благородно» и есть то новое, что началось и что устранило старое, не тихое, не смирное и не благородное. Однако «по-хорошему» не вышло, развилась ненасытная алчность и жестокость своекорыстия, и навстречу им пришла жестокость мести. Приятель мой, с своими тихими планами жизни «по-хорошему», с ассоциациями «хороших людей», с ссудными товариществами, со школами и чтением мужикам «Хоря и Калиныча», оказался совершенно ненужным в этой битве «на чистоту»; но оставаясь «между» господствовавшими течениями жизни, был измолот ими, как зерно между двумя жерновами, был, если можно так выразиться, не съеден жизнью, а изжеван, измят ею, но так измят, что в нем не оставалось буквально живого места ни в теле, ни в душе. Обилие всевозможного рода жестокостей, встреченных им в течение жизни при решении вопросов, иногда самых гуманных, жестокостей, иногда совершенно затмевавших цели, во имя которых пускались они в ход, доходивших до виртуозности в преследовании человека, так, зря, без разбору, испугало его. Он не то чтобы перестал верить в светлые и теплые дни, а отвык, боялся думать об этом, чтобы не получить какого-нибудь нового удара по незажившему, избитому месту. Не принадлежа к числу торжествовавших и не попав «в стан погибающих»[1 - …«в стан погибающих» – цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).], он тем не менее много, ужасно много пережил мыслью и там и здесь, много видел и много думал о русской жизни и о русском народе, но «изжеванная» жизнь сделала то, что мысли его были несколько односторонни и, сколько можно судить, сосредоточивались на решении вопроса: «почему из всех благ, материальных и нравственных сокровищ, доставшихся русскому человеку даром, не выходит ничего, кроме взаимного мордобития?» Решение этого вопроса, а также боль тела и боль духа, подаренные ему неудачным опытом жизни, заставляли его с особенною внимательностью останавливаться на мрачных явлениях жизни, явлениях, режущих нервы. А так как это больно и неприятно, то Протасов – такая была фамилия у моего приятеля – предпочитал молчать; молча шагал по целым часам из угла в угол, молча курил, или, вернее, ел углом рта мундштук папиросы, и когда говорил, то речь его была неласкова, почему вместо Протасова его почти все знакомые называли Пигасовым, памятуя одно из действующих лиц тургеневского романа[2 - Одно из действующих лиц тургеневского романа – Пигасов, персонаж романа И. С. Тургенева «Рудин» (1856), отличавшийся желчным и раздражительным характером.]. В настоящее время Протасов ехал в Петербург хлопотать о каком-нибудь «местишке» в какой-нибудь железнодорожной конторе, так как небольшое именьице, доставшееся от матери, в котором Протасов проживал последние годы с женой и тремя детьми, плохо кормило его большую семью и, кажется, было накануне продажи. Проездом в Петербург он заехал ко мне, и вот уж два дня как мы занимаемся с ним самым успокоительным и самым дружеским молчанием. Вероятно, промолчав еще таким же приятным образом день или два, Пигасов (так называть его почему-то всем его знакомым кажется правильнее) взял бы шапку, надел галоши, пожал бы мне руку и молча как приехал, так и уехал бы в Питер; но неожиданно случилось обстоятельство, которое развязало ему язык, и развязало так, как, может быть, не случалось десятки лет.
Обстоятельство это не заключает в себе ровно ничего чрезвычайного. Дело только в том, что наш молчаливый дуэт, обещавший окончиться мирным и молчаливым сном под шум метели, был нарушен появлением нового, но не молчаливого, а, напротив, весьма разговорчивого лица. Ничего особенного не представляет и это новое лицо, но сказать о нем два слова необходимо. Это был молодой малый, или, лучше сказать, «парень» лет двадцати, по фамилии Березников. Происхождения он был купеческого, и лет десять тому назад отец его торговал красным товаром в одном из окрестных тихих уездных городков и здесь же десять лет назад умер, оставив вдове и сыну небольшой деревянный дом и флигель с лавкой. Мать Березникова не продолжала торговли, лавку продала, дом подновила и отдала под помещение уездной управы, а сама стала жить с сыном во флигеле. На деньги, которые остались от продажи лавки и которые получались с управы, жили они не богато, но и не бедно; мать молодого Березникова занималась тем, что пила чай, плакала, ходила в церковь да баловала своего сына, а сын рос и ничего не делал. Но что-то помешало ему сделаться саврасом, шатуном, полюбить трактир, биллиард и кулацкую наживу; какая-то врожденная деликатность отталкивала его от этого, и хоть он ничего не делал, но хотел что-нибудь делать, и притом хорошее. В настоящую минуту это был дюжий, здоровый и сильный парень, который делал и думал то, что заставлял его делать случай, хотя случай этот, повторяю, никогда не отзывал его ни в кабацкую, ни в кулацкую компанию. Единственный сын у матери, он не подлежал воинской повинности, не нуждался в куске хлеба, был совершенно свободен, здоров и силен, но вопрос «что делать?» тем сильнее угнетал его в деревенской и уездной глуши, что «нажива», которою этот вопрос разрешается всего чаще, не прельщала его.
– Что мне делать? Скажите, пожалуйста! – иногда как бы в изнеможении вопрошал этот здоровый и румяный юноша, неожиданно явившись из каких-нибудь странствований, которые он любил делать пешком и даже бегом!..
– Да вы что бы хотели делать?
– Да чорта мне хотеть? Кабы я хотел, я бы не спрашивал…
– Вы что знаете?
– Да ни чорта я не знаю!..
– Так какое же вам дело? Ничего не знаете и ничего не хотите.
– Так неужто мне пропадать?
– Ну, возьмите какое-нибудь место… на железной дороге… в управе.
– За каким же чортом?
– Ну все-таки будет занятие!
– Да за каким же чортом мне это занятие? Жрать? Так у меня и без него есть, что есть: пошел к матери, похлебал щей – вот и все, а строчить там в конторе или в канцелярии всякую ерунду – зачем это? Мне надо знать, что я пользу делаю кому-нибудь, тогда я согласен.
– Так подумайте хорошенько, может и выберете какое-нибудь дело…
– Уж я думал и вижу, что камень на шею да в воду – одно! Впрочем, нет ли у вас книг каких-нибудь? Я хочу читать. Надо читать дозарезу, одно спасенье… Дайте мне книг, пожалуйста, сколько у вас есть…
После таких разговоров Березников уходил домой, унося с собой целый ворох книг, связав их собственным кушаком (он ходил в русском платье). Книги были всегда самого разнообразного содержания и собранные кой-как: третья часть одного сочинения, вторая другого, тут и роман с иностранного, и брошюра об уходе за скотом, и толстый отчет земского собрания. Нахватав всею этого так, зря, без разбору и толку, и притом второпях, под давлением мысли о неотложнейшей необходимости читать «дозарезу», – он немедленно же стремился удовлетворить этой необходимости, немедленно уходил домой «читать» и пропадал на неделю, на две. Чрез две недели он приносил ворох прочитанных книг и на вопрос: «Ну, что?» отвечал: «Прочитал всё… башка трещит, бог знает, до чего… Все хорошо и любопытно, – а точно кирпичами голову заложило… чистая смерть! Уж я дрова сегодня рубил целый день – никак в чувство не приду». Заходил разговор о систематическом чтении, о том, что так читать нельзя, что от такого безалаберного чтения может получиться отвращение к книге. Березников всегда соглашался, говорил: «да-да-да, верно», но прибавлял: «только уж после… теперь у меня башка ничего не примет… теперь я пойду проветриться… тут у меня есть знакомые охотники на тетеревов»… И уходил, пропадал опять неделю, две-три, принося потом целый ворох всевозможных, хотя и в высшей степени беспорядочных рассказов и наблюдений.
– Ну теперь опять давайте книг.
Но систематическое чтение никогда не удавалось; препятствовали этому живые встречи с людьми. То, идя домой с книгами, Березников встретится с овчинниками и так заинтересуется их бытом, мастерством и разговором, что пристанет к ним и проживет, «протаскается» с ними до тех пор, пока не пропадет интерес, не станет скучно и опять не нападет унылая минута с неразрешимым вопросом «что делать?». То встретится с учителем и вздумает сам готовиться держать экзамен, натащит домой Ушинского, Корфа[3 - Корф, Н. А. (1834–1883) – педагог, автор учебников для школы «Малютка», «Наш друг» и др.], Евтушевского[4 - Евтушевский, В. А. (1836–1888) – педагог-математик, автор широко распространенных в 80-х годах «Сборника арифметических задач» и «Методики арифметики».], но какая-нибудь новая встреча с какими-нибудь голубятниками или столярами увлекала его к живому наблюдению, и начатое приготовление в учителя ничем не оканчивалось или во всяком случае откладывалось в долгий ящик.
Несмотря на беспорядочность жизненного опыта, исполненного случайных встреч, мало-помалу кое-что из вычитанного им переходило в личные наблюдения и иногда объясняло даже то или другое знакомство, например с учителями, с мастеровыми. Хотя и крайне беспорядочно и безобразно, но голова Березникова работала, вычитанное переносила в жизнь, а виденным проверяла прочитанное. Но в конце концов в голове этой царствовал все-таки хаос и беспорядок, не приводивший его ни к чему определенному, кроме какой-то страсти переменять место, чтобы не скучать, не томиться бездельем. Знакомых и отцовских и своих много было у него и в городе и по деревням, между учителями, священниками, крестьянами и в особенности между крестьянами, занимавшимися каким-нибудь мастерством: портными, бондарями, дубильщиками, валяльщиками, и везде он не был чужой, потому что приходил «любопытствовать» и любил болтать сам. Корыстных целей в нем никто не видел, а побалагурить всякий был непрочь; да кроме того Березников и не надоедал своими посещениями и не всегда был праздным зрителем того, что делают люди: он всегда готов был подсобить, и не только в чем мог, а и в том, чего не мог.
– Ну-ка ты, парень, чего сидишь-то, лясы точишь, поди-ко принеси дров, видишь, хозяйка хворает, а нам недосуг! – скажет ему какой-нибудь овчинник среди беседы о том, о сем, и Березников не только притащит охапку дров, но и наколет их еще на двое суток вперед.
– Добрый парень! – вот что говорили про него знакомые, и мы скажем про него то же самое.
2
Так вот этот-то Березников и явился неожиданным гостем в то время, когда мы с Пигасовым проводили время в дружеском молчании, попивая чай и шумя кто газетой, кто листом книги. Березников явился весь в снегу: снег был на шапке, на сапогах и на полушубке.
– Здравия желаю! – сказал он весело и, сняв, шапку, просыпал с нее на пол клочья снегу. – Вот и мы… незваные, непрошенные. Не хуже буду татарина? Можно ночлегу попросить?
Как ни дружески молчали мы с Пигасовым, но появление нового лица, в котором притом же не было скуки для обоих нас, было весьма приятно.
Через пять минут Березников уже разделся, снял полушубок и в одной красной русской рубахе сидел за стаканом чая, проглатывая огромные куски булки. Я познакомил его с Пигасовым, но Пигасов, который, по его же собственным словам, сторонился всего веселого, – потому что отвык от него, – не особенно обрадовался появлению нового гостя, от которого уж слишком веяло какой-то беспричинной радостью молодости и физической силы. Вежливо поздоровавшись с Березниковым, он отодвинулся немного от стола с газетой в руках, молча уткнулся в чтение и, как кажется, даже старался не слушать разговора, который начался у меня с Березниковым.
– Ну, – сказал я, – рассказывайте!
С Березниковым всегда начинался разговор именно этой фразой, потому что всякий промежуток между нашими свиданиями ознаменовывался тем, что Березников, уходя от меня, попадал случайно в какую-нибудь совершенно новую среду, о которой и приходил рассказывать при следующем свидании. На этот раз Березников не сразу ответил на мой вопрос. Он ел и, занятый этим делом, только кивал головой, как бы говоря, что много есть о чем рассказать.
Покуда в его руках была булка, никакого разговора между нами происходить не могло; но вот булка съедена, Березников отряхнул крошки с подола своей рубахи и сказал:
– Не знаю, с чего и начинать… столько всего видел? Две недели работал с рыбаками… вот народ-то!.. Лучше этого народа, кажется…
Березников вдруг остановился, как бы что-то вспомнив важное, и торопливо сказал:
– Да! Что же я? Самого главного-то и не говорю… Ведь антихрист народился! В народе удостоверяют об этом самым положительным образом.
– Где же? у нас народился, в России? – спросил я.
– Определенного на этот счет сказать не могу… Какое-то царство называют. Так вот в этом-то царстве есть князь, и живет у этого князя повар. Повар-то этот и есть корень всему делу… Во-первых, он постоянно работает в белых перчатках, а почему – это после узнаете… А во-вторых, необыкновенно любезен, ласков и добр…
Пигасов, как я уже сказал, старавшийся не слушать разговора, однакоже оставил газету, подвинулся к столу и стал слушать Березникова.
– Когда этот повар «в белых перчатках» нанялся служить на княжеской кухне, то немедленно же стал всячески угождать и делать добро прислуге. Есть у него деньги – отдает, помогает, а княжеская прислуга разнесла о доброте повара весть в народе и довела до сведения самого князя. Князь узнал о доброте своего повара и полюбил его, а когда повар узнал, что князь его любит, то воспользовался этою любовью также на благо народа. Прислуга, как я сказал, разнесла о нем весть в народе; к повару стали приходить со своими нуждами истопники, конюхи, потом городские извозчики, дворники, чернорабочие и вообще масса черного народа – мужиков; всякий рассказывал ему и плакал над своим горем, и повар всякому выхлопатывал по его желанию: кому землю, кому дом, кому скотину, кому деньги. Никто из мужиков не уходил от повара необлагодетельствованным. Так дело стоит в настоящую минуту; повар в белых перчатках служит у неведомого князя, и слава о его доброте, о его милости к мужичкам, к простому бедному человеку растет не по дням, а по часам… Но скоро, лет через двадцать, произойдет такой случай: князь, у которого живет повар в белых перчатках, созовет в гости к себе прочих всех китайских и ефиопских князей; повар, как любимец князя, будет служить гостям, стряпать и подавать кушанья, и вот тогда-то, в один из таких роскошных обедов, один из князей спросит: «Отчего это у вас повар постоянно носит белые перчатки?» – «Ах, боже мой, ответит князь, я этого и не заметил!» И скажет повару: «Отчего, любезный, ты ходишь постоянно в белых перчатках?» Повар ничего не ответит на это, только в первый раз сделает недоброе лицо; тогда князья и разные султаны станут просить, чтобы он приказал повару снять белые перчатки… Князь исполнит желание гостей; он будет приказывать повару снять перчатки до трех раз: сначала лаской, а потом и с гневом. Два раза повар ослушается приказания, а третий раз, тоже со страшным гневом, исполнит; он сорвет с рук перчатки, и тогда все гости, все князья и султаны в ужасе увидят, что повар – не повар, а антихрист: на одной руке у него окажется копыто, а на другой когти. Ужас блестящего общества будет так велик, что все гости немедленно уйдут из-за стола и немедленно же разъедутся; сам князь, у которого живет этот повар, также немедленно вслед за гостями соберет все свои сокровища и уйдет из своей стороны… Между тем народ, который уже наслышан о необыкновенной доброте повара, оставшись без главы и хозяина, не найдет никого более достойным заместить разгневанного владыку, как именно этого самого повара. И вот повар сделается главным лицом в царстве, но вместо милостей народу он с первого же дня начнет проявлять необузданную жестокость… И здесь вот что в высшей степени любопытно: вы ведь помните, что он в первый раз ожесточился и рассердился, когда у него потребовали снять перчатки и стали смотреть руки… Так вот и он тотчас после того, как сделается главою, – издаст повеление «смотреть у всех руки». «Вы, мол, меня осрамили с моими когтями и копытами – вы тайность мою раскрыли, так и я вам также…» И вот начнут у всех осматривать руки… и у кого руки эти окажутся чистыми, нежными, без мозолей, тем будет очень худо… Чтобы спастись от гибели, все белоручки начнут хвататься руками за землю, начнут рыть ее и все-таки будут гибнуть… А так как и у мужиков мозоли будут проходить (от хорошей жизни, которую антихрист устроил им, будучи поваром), то вслед за белоручками, уничтоженными по повелению антихриста, станут уничтожать и обелорученных мужиков… Ничего, кроме гибели!.. Затем начнется пожар земли, которая сначала превратится в медь, потом в серебро и, наконец, в золото. Тут воскресение мертвых и суд… Вот какая история! Итак, первое самое важное известие я сообщил… Теперь второе – рыболовы…
– Позвольте одну минуту, – перебил Березникова Пигасов. – Эту легенду об антихристе я на своем веку слышал несчетное число раз; антихрист всегда является в ней в разных видах, но всегда решительно, во всякой из легенд он всегда ознаменовывает свое пришествие добрыми делами. Он всегда завоевывает симпатии народа, делая ему приятное, облегчая ему жизнь… Почему это – зло, гибель, несчастие и вообще последние дни, кончину мира народ полагает после того, как жить будет необыкновенно легко, исполнятся все желания, снимутся все тяготы?.. И ведь это постоянно так, – продолжал Пигасов. – Антихрист постоянно начинает свою злодейскую карьеру тем, что благодетельствует и помогает бедняку, униженному и оскорбленному, а потом губит его именно этим облегчением жизни. Ведь еще на днях было напечатано в газетах сообщение о подлинном факте, как в Смоленске бедные люди стали считать какого-то доброго барина за антихриста, потому что он делал массу добрых дел: давал взаймы без отдачи, покупал корову вдове. Даже полиция встревожилась… Еще я помню, что Аракчеева народ стал считать антихристом и оказывал ему особенное упорство в тех случаях, когда он хотел действовать не палкой, а лаской. У одного мужика в той деревне, которую граф хотел обернуть в военные поселения, пропали деньги, кажется, рублей тысячу. Мужик был влиятельный, и граф, чтобы склонить его на свою сторону и чтобы засвидетельствовать пред всей деревней о своей доброте, выхлопотал у государя всю пропавшую сумму и при велеречивой бумаге препроводил в деревню для передачи чрез местное начальство обокраденному мужику. Но как только в деревне стала известна эта милость и доброта графа, так немедленно же он и прослыл за антихриста. «Ишь заманивает! Не бери этих денег, не касайся, боже сохрани!» Так и препроводили ему велеречивую бумагу с деньгами обратно!.. Что значит это? Отчего это облегчение жизни от бремени несчастия, горя и труда и одновременно с «облегчением» — гибель неразрывны в понятиях крестьянина?.. Отчего самый настоящий, заправский крестьянин никогда не променяет своего «трудного» житья на легкое житье барина или купца?.. Вот это меня ужасно интересует.
– Так отчего же это? – спросил Березников в раздумье и вдруг прибавил с неумеренным оживлением: – Оплетают его, вот он и боится… Ему дадут рубль, а сдерут вдесятеро! Так он и пятится от филантропии-то…
Пигасов призадумался.
– Оплетают-то оплетают, это так… Но ведь я говорю про такие явления в крестьянской жизни, которые, напротив, прямо облегчают жизнь и снимают с плеч тяготу явно, видимо для всех и безо всякого обдирания. Нет, мне кажется, что тут есть нечто иное!.. Ты (обратился Пигасов ко мне), помнится, что-то писал про власть над крестьянином – и если помню, то и над его умом и волей – труда земледельческого… Там у тебя много напутано всякого вздору – уж извини по приятельству, – но есть и доля правды… Действительно, мне кажется, что крестьянин живет, лишь подчиняясь воле своего труда… А так как этот труд весь в зависимости от разнообразных законов природы, то и жизнь его разнообразна, гармонична и полна, но без всякого с его стороны усилия, без всякой своей мысли… Вынуть из этой жизни гармонической, но подчиняющейся чужой воле, хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо заменять своей человеческой волей, своим человеческим умом… а ведь это как трудно! как мучительно!.. Возьмите вы человека своей воли, своей мысли – скажем так: культурного человека – сколько он мучился, сколько, страдал, а чего добился? Добился ли сотой доли того гармонического существования, которым пользуется так, не беспокоясь и не думая, крестьянин?.. Культурный человек – это человек, выгнанный из рая неведения, из рая, где всякая тварь служила ему (как служит теперь нашему мужику) под условием не касаться древа знания… Его выгнали в пустыню, в голую, безжизненную степь, на полную волю. И в обиде на неправду, а также и в гордом сознании силы своего ума (ведь он вкусил от древа-то) он, вероятно, сказал, уходя из рая: «Так будет же у меня мой собственный рай, да еще лучше этого!»… И вот над созданием этого рая он и бьется несчетное число веков. Ему не служат твари – он сделал своих: локомотив его бегает лучше лошади; он выдумал свой собственный свет, который будет светить и ночью; он переплывает океаны в своих, собственным умом выдуманных ихтиозаврах-кораблях; он хочет летать, как летает птица… И, вероятно, когда-нибудь в бесконечные веки он добьется своего… Будет у него свой собственный, выдуманный, взятый умом и волею рай. Но как еще ужасно-ужасно далеко это время! Когда-то еще его мертвое животное, локомотив, достигнет поворотливости любой деревенской кобыленки!.. Когда-то еще его упорное желание летать птицей осуществится хотя в приблизительных только размерах того совершенства, которым уже обладает галка, обладает так, без всяких усилий с своей стороны, а просто так… галка так галка и есть, взяла да и полетела! А Надары[5 - Надар – псевдоним французского воздухоплавателя, писателя и карикатуриста Ф. Турнашова (1820–1910).] еще лет тысячи будут разбивать себе головы и тонуть в морях, прежде нежели добьются уменья произвольно перелетать с крыши на крышу… Вот точно так же и народная жизнь…
– Как так же? – спросил в совершенном недоумении Березников. – Народная жизнь подобна галке? Что-то больно хитро!
– То есть совершеннейшее подобие галки! Если вы дадите себе труд поймать эту галку…
Глеб Иванович Успенский
«…Очерки «Из разговоров с приятелями» идейно и тематически непосредственно примыкают к циклу «Власть земли». В очерках проводится параллель между идеалом трудовой крестьянской жизни и социалистическими идеалами, создающимися на почве рабочего движения. …Успенский рассматривает крестьянина как прообраз гармонического, «полного» человека, который «всё сам, на все руки, всё может и ни в ком не нуждается». Но вместе с тем писатель подчеркивает, что гармоничность крестьянской жизни складывается под стихийным воздействием природы. Крестьянин живет «без своей воли», «как цветок, как галка, как пчела». Достаточно поэтому иногда простого «случая», чтобы сокрушить «гармонию» крестьянской жизни…»
Глеб Иванович Успенский
Из разговоров с приятелями
(На тему о «власти земли»)
I. Без своей воли
1
…Слава богу, зима стоит настоящая, снежная, морозная, с вьюгами и сугробами. Хорошо побыть, пройтись и проехаться на свежем, холодном воздухе, хорошо и дома посидеть во вьюгу и пургу, жарко растопив печку и взяв в руки хорошую книгу.
В один из таких вьюжных вечеров, как-то на днях, я и один мой приятель мирно коротали время, попивая чай, читая, кто книгу, кто газету, и испытывая самое современнейшее из удовольствий, удовольствие нестеснительного молчания. В особенности с этим «удовольствием» освоился мой приятель, так как жизнь накопила у него на сердце немало горя, и всякий раз, когда он говорил, слово его было невеселое, очень часто желчное, а иногда почти истерически негодующее. По натуре это был человек добрый и мягкий, но судьбе угодно было заставить его жить в таких условиях, где эти качества, особливо мягкость, не требовались, и не только не требовались, но не доставляли ничего, кроме горя и душевной отравы. Он начал жить сердцем и умом в то время, когда отмена крепостного права налагала даже на самые заскорузлые натуры обязательства знать и видеть, что все это старое крепостное кончилось и что теперь ничего этого не будет. Приятель мой принадлежал не к заскорузлым натурам и не поневоле думал, что все это кончилось, а верил в это и знал это по сущей совести. Он начал жить, думая, что теперь все пойдет «по-хорошему», тихо, смирно и благородно; думая, что «тихо, смирно и благородно» и есть то новое, что началось и что устранило старое, не тихое, не смирное и не благородное. Однако «по-хорошему» не вышло, развилась ненасытная алчность и жестокость своекорыстия, и навстречу им пришла жестокость мести. Приятель мой, с своими тихими планами жизни «по-хорошему», с ассоциациями «хороших людей», с ссудными товариществами, со школами и чтением мужикам «Хоря и Калиныча», оказался совершенно ненужным в этой битве «на чистоту»; но оставаясь «между» господствовавшими течениями жизни, был измолот ими, как зерно между двумя жерновами, был, если можно так выразиться, не съеден жизнью, а изжеван, измят ею, но так измят, что в нем не оставалось буквально живого места ни в теле, ни в душе. Обилие всевозможного рода жестокостей, встреченных им в течение жизни при решении вопросов, иногда самых гуманных, жестокостей, иногда совершенно затмевавших цели, во имя которых пускались они в ход, доходивших до виртуозности в преследовании человека, так, зря, без разбору, испугало его. Он не то чтобы перестал верить в светлые и теплые дни, а отвык, боялся думать об этом, чтобы не получить какого-нибудь нового удара по незажившему, избитому месту. Не принадлежа к числу торжествовавших и не попав «в стан погибающих»[1 - …«в стан погибающих» – цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).], он тем не менее много, ужасно много пережил мыслью и там и здесь, много видел и много думал о русской жизни и о русском народе, но «изжеванная» жизнь сделала то, что мысли его были несколько односторонни и, сколько можно судить, сосредоточивались на решении вопроса: «почему из всех благ, материальных и нравственных сокровищ, доставшихся русскому человеку даром, не выходит ничего, кроме взаимного мордобития?» Решение этого вопроса, а также боль тела и боль духа, подаренные ему неудачным опытом жизни, заставляли его с особенною внимательностью останавливаться на мрачных явлениях жизни, явлениях, режущих нервы. А так как это больно и неприятно, то Протасов – такая была фамилия у моего приятеля – предпочитал молчать; молча шагал по целым часам из угла в угол, молча курил, или, вернее, ел углом рта мундштук папиросы, и когда говорил, то речь его была неласкова, почему вместо Протасова его почти все знакомые называли Пигасовым, памятуя одно из действующих лиц тургеневского романа[2 - Одно из действующих лиц тургеневского романа – Пигасов, персонаж романа И. С. Тургенева «Рудин» (1856), отличавшийся желчным и раздражительным характером.]. В настоящее время Протасов ехал в Петербург хлопотать о каком-нибудь «местишке» в какой-нибудь железнодорожной конторе, так как небольшое именьице, доставшееся от матери, в котором Протасов проживал последние годы с женой и тремя детьми, плохо кормило его большую семью и, кажется, было накануне продажи. Проездом в Петербург он заехал ко мне, и вот уж два дня как мы занимаемся с ним самым успокоительным и самым дружеским молчанием. Вероятно, промолчав еще таким же приятным образом день или два, Пигасов (так называть его почему-то всем его знакомым кажется правильнее) взял бы шапку, надел галоши, пожал бы мне руку и молча как приехал, так и уехал бы в Питер; но неожиданно случилось обстоятельство, которое развязало ему язык, и развязало так, как, может быть, не случалось десятки лет.
Обстоятельство это не заключает в себе ровно ничего чрезвычайного. Дело только в том, что наш молчаливый дуэт, обещавший окончиться мирным и молчаливым сном под шум метели, был нарушен появлением нового, но не молчаливого, а, напротив, весьма разговорчивого лица. Ничего особенного не представляет и это новое лицо, но сказать о нем два слова необходимо. Это был молодой малый, или, лучше сказать, «парень» лет двадцати, по фамилии Березников. Происхождения он был купеческого, и лет десять тому назад отец его торговал красным товаром в одном из окрестных тихих уездных городков и здесь же десять лет назад умер, оставив вдове и сыну небольшой деревянный дом и флигель с лавкой. Мать Березникова не продолжала торговли, лавку продала, дом подновила и отдала под помещение уездной управы, а сама стала жить с сыном во флигеле. На деньги, которые остались от продажи лавки и которые получались с управы, жили они не богато, но и не бедно; мать молодого Березникова занималась тем, что пила чай, плакала, ходила в церковь да баловала своего сына, а сын рос и ничего не делал. Но что-то помешало ему сделаться саврасом, шатуном, полюбить трактир, биллиард и кулацкую наживу; какая-то врожденная деликатность отталкивала его от этого, и хоть он ничего не делал, но хотел что-нибудь делать, и притом хорошее. В настоящую минуту это был дюжий, здоровый и сильный парень, который делал и думал то, что заставлял его делать случай, хотя случай этот, повторяю, никогда не отзывал его ни в кабацкую, ни в кулацкую компанию. Единственный сын у матери, он не подлежал воинской повинности, не нуждался в куске хлеба, был совершенно свободен, здоров и силен, но вопрос «что делать?» тем сильнее угнетал его в деревенской и уездной глуши, что «нажива», которою этот вопрос разрешается всего чаще, не прельщала его.
– Что мне делать? Скажите, пожалуйста! – иногда как бы в изнеможении вопрошал этот здоровый и румяный юноша, неожиданно явившись из каких-нибудь странствований, которые он любил делать пешком и даже бегом!..
– Да вы что бы хотели делать?
– Да чорта мне хотеть? Кабы я хотел, я бы не спрашивал…
– Вы что знаете?
– Да ни чорта я не знаю!..
– Так какое же вам дело? Ничего не знаете и ничего не хотите.
– Так неужто мне пропадать?
– Ну, возьмите какое-нибудь место… на железной дороге… в управе.
– За каким же чортом?
– Ну все-таки будет занятие!
– Да за каким же чортом мне это занятие? Жрать? Так у меня и без него есть, что есть: пошел к матери, похлебал щей – вот и все, а строчить там в конторе или в канцелярии всякую ерунду – зачем это? Мне надо знать, что я пользу делаю кому-нибудь, тогда я согласен.
– Так подумайте хорошенько, может и выберете какое-нибудь дело…
– Уж я думал и вижу, что камень на шею да в воду – одно! Впрочем, нет ли у вас книг каких-нибудь? Я хочу читать. Надо читать дозарезу, одно спасенье… Дайте мне книг, пожалуйста, сколько у вас есть…
После таких разговоров Березников уходил домой, унося с собой целый ворох книг, связав их собственным кушаком (он ходил в русском платье). Книги были всегда самого разнообразного содержания и собранные кой-как: третья часть одного сочинения, вторая другого, тут и роман с иностранного, и брошюра об уходе за скотом, и толстый отчет земского собрания. Нахватав всею этого так, зря, без разбору и толку, и притом второпях, под давлением мысли о неотложнейшей необходимости читать «дозарезу», – он немедленно же стремился удовлетворить этой необходимости, немедленно уходил домой «читать» и пропадал на неделю, на две. Чрез две недели он приносил ворох прочитанных книг и на вопрос: «Ну, что?» отвечал: «Прочитал всё… башка трещит, бог знает, до чего… Все хорошо и любопытно, – а точно кирпичами голову заложило… чистая смерть! Уж я дрова сегодня рубил целый день – никак в чувство не приду». Заходил разговор о систематическом чтении, о том, что так читать нельзя, что от такого безалаберного чтения может получиться отвращение к книге. Березников всегда соглашался, говорил: «да-да-да, верно», но прибавлял: «только уж после… теперь у меня башка ничего не примет… теперь я пойду проветриться… тут у меня есть знакомые охотники на тетеревов»… И уходил, пропадал опять неделю, две-три, принося потом целый ворох всевозможных, хотя и в высшей степени беспорядочных рассказов и наблюдений.
– Ну теперь опять давайте книг.
Но систематическое чтение никогда не удавалось; препятствовали этому живые встречи с людьми. То, идя домой с книгами, Березников встретится с овчинниками и так заинтересуется их бытом, мастерством и разговором, что пристанет к ним и проживет, «протаскается» с ними до тех пор, пока не пропадет интерес, не станет скучно и опять не нападет унылая минута с неразрешимым вопросом «что делать?». То встретится с учителем и вздумает сам готовиться держать экзамен, натащит домой Ушинского, Корфа[3 - Корф, Н. А. (1834–1883) – педагог, автор учебников для школы «Малютка», «Наш друг» и др.], Евтушевского[4 - Евтушевский, В. А. (1836–1888) – педагог-математик, автор широко распространенных в 80-х годах «Сборника арифметических задач» и «Методики арифметики».], но какая-нибудь новая встреча с какими-нибудь голубятниками или столярами увлекала его к живому наблюдению, и начатое приготовление в учителя ничем не оканчивалось или во всяком случае откладывалось в долгий ящик.
Несмотря на беспорядочность жизненного опыта, исполненного случайных встреч, мало-помалу кое-что из вычитанного им переходило в личные наблюдения и иногда объясняло даже то или другое знакомство, например с учителями, с мастеровыми. Хотя и крайне беспорядочно и безобразно, но голова Березникова работала, вычитанное переносила в жизнь, а виденным проверяла прочитанное. Но в конце концов в голове этой царствовал все-таки хаос и беспорядок, не приводивший его ни к чему определенному, кроме какой-то страсти переменять место, чтобы не скучать, не томиться бездельем. Знакомых и отцовских и своих много было у него и в городе и по деревням, между учителями, священниками, крестьянами и в особенности между крестьянами, занимавшимися каким-нибудь мастерством: портными, бондарями, дубильщиками, валяльщиками, и везде он не был чужой, потому что приходил «любопытствовать» и любил болтать сам. Корыстных целей в нем никто не видел, а побалагурить всякий был непрочь; да кроме того Березников и не надоедал своими посещениями и не всегда был праздным зрителем того, что делают люди: он всегда готов был подсобить, и не только в чем мог, а и в том, чего не мог.
– Ну-ка ты, парень, чего сидишь-то, лясы точишь, поди-ко принеси дров, видишь, хозяйка хворает, а нам недосуг! – скажет ему какой-нибудь овчинник среди беседы о том, о сем, и Березников не только притащит охапку дров, но и наколет их еще на двое суток вперед.
– Добрый парень! – вот что говорили про него знакомые, и мы скажем про него то же самое.
2
Так вот этот-то Березников и явился неожиданным гостем в то время, когда мы с Пигасовым проводили время в дружеском молчании, попивая чай и шумя кто газетой, кто листом книги. Березников явился весь в снегу: снег был на шапке, на сапогах и на полушубке.
– Здравия желаю! – сказал он весело и, сняв, шапку, просыпал с нее на пол клочья снегу. – Вот и мы… незваные, непрошенные. Не хуже буду татарина? Можно ночлегу попросить?
Как ни дружески молчали мы с Пигасовым, но появление нового лица, в котором притом же не было скуки для обоих нас, было весьма приятно.
Через пять минут Березников уже разделся, снял полушубок и в одной красной русской рубахе сидел за стаканом чая, проглатывая огромные куски булки. Я познакомил его с Пигасовым, но Пигасов, который, по его же собственным словам, сторонился всего веселого, – потому что отвык от него, – не особенно обрадовался появлению нового гостя, от которого уж слишком веяло какой-то беспричинной радостью молодости и физической силы. Вежливо поздоровавшись с Березниковым, он отодвинулся немного от стола с газетой в руках, молча уткнулся в чтение и, как кажется, даже старался не слушать разговора, который начался у меня с Березниковым.
– Ну, – сказал я, – рассказывайте!
С Березниковым всегда начинался разговор именно этой фразой, потому что всякий промежуток между нашими свиданиями ознаменовывался тем, что Березников, уходя от меня, попадал случайно в какую-нибудь совершенно новую среду, о которой и приходил рассказывать при следующем свидании. На этот раз Березников не сразу ответил на мой вопрос. Он ел и, занятый этим делом, только кивал головой, как бы говоря, что много есть о чем рассказать.
Покуда в его руках была булка, никакого разговора между нами происходить не могло; но вот булка съедена, Березников отряхнул крошки с подола своей рубахи и сказал:
– Не знаю, с чего и начинать… столько всего видел? Две недели работал с рыбаками… вот народ-то!.. Лучше этого народа, кажется…
Березников вдруг остановился, как бы что-то вспомнив важное, и торопливо сказал:
– Да! Что же я? Самого главного-то и не говорю… Ведь антихрист народился! В народе удостоверяют об этом самым положительным образом.
– Где же? у нас народился, в России? – спросил я.
– Определенного на этот счет сказать не могу… Какое-то царство называют. Так вот в этом-то царстве есть князь, и живет у этого князя повар. Повар-то этот и есть корень всему делу… Во-первых, он постоянно работает в белых перчатках, а почему – это после узнаете… А во-вторых, необыкновенно любезен, ласков и добр…
Пигасов, как я уже сказал, старавшийся не слушать разговора, однакоже оставил газету, подвинулся к столу и стал слушать Березникова.
– Когда этот повар «в белых перчатках» нанялся служить на княжеской кухне, то немедленно же стал всячески угождать и делать добро прислуге. Есть у него деньги – отдает, помогает, а княжеская прислуга разнесла о доброте повара весть в народе и довела до сведения самого князя. Князь узнал о доброте своего повара и полюбил его, а когда повар узнал, что князь его любит, то воспользовался этою любовью также на благо народа. Прислуга, как я сказал, разнесла о нем весть в народе; к повару стали приходить со своими нуждами истопники, конюхи, потом городские извозчики, дворники, чернорабочие и вообще масса черного народа – мужиков; всякий рассказывал ему и плакал над своим горем, и повар всякому выхлопатывал по его желанию: кому землю, кому дом, кому скотину, кому деньги. Никто из мужиков не уходил от повара необлагодетельствованным. Так дело стоит в настоящую минуту; повар в белых перчатках служит у неведомого князя, и слава о его доброте, о его милости к мужичкам, к простому бедному человеку растет не по дням, а по часам… Но скоро, лет через двадцать, произойдет такой случай: князь, у которого живет повар в белых перчатках, созовет в гости к себе прочих всех китайских и ефиопских князей; повар, как любимец князя, будет служить гостям, стряпать и подавать кушанья, и вот тогда-то, в один из таких роскошных обедов, один из князей спросит: «Отчего это у вас повар постоянно носит белые перчатки?» – «Ах, боже мой, ответит князь, я этого и не заметил!» И скажет повару: «Отчего, любезный, ты ходишь постоянно в белых перчатках?» Повар ничего не ответит на это, только в первый раз сделает недоброе лицо; тогда князья и разные султаны станут просить, чтобы он приказал повару снять белые перчатки… Князь исполнит желание гостей; он будет приказывать повару снять перчатки до трех раз: сначала лаской, а потом и с гневом. Два раза повар ослушается приказания, а третий раз, тоже со страшным гневом, исполнит; он сорвет с рук перчатки, и тогда все гости, все князья и султаны в ужасе увидят, что повар – не повар, а антихрист: на одной руке у него окажется копыто, а на другой когти. Ужас блестящего общества будет так велик, что все гости немедленно уйдут из-за стола и немедленно же разъедутся; сам князь, у которого живет этот повар, также немедленно вслед за гостями соберет все свои сокровища и уйдет из своей стороны… Между тем народ, который уже наслышан о необыкновенной доброте повара, оставшись без главы и хозяина, не найдет никого более достойным заместить разгневанного владыку, как именно этого самого повара. И вот повар сделается главным лицом в царстве, но вместо милостей народу он с первого же дня начнет проявлять необузданную жестокость… И здесь вот что в высшей степени любопытно: вы ведь помните, что он в первый раз ожесточился и рассердился, когда у него потребовали снять перчатки и стали смотреть руки… Так вот и он тотчас после того, как сделается главою, – издаст повеление «смотреть у всех руки». «Вы, мол, меня осрамили с моими когтями и копытами – вы тайность мою раскрыли, так и я вам также…» И вот начнут у всех осматривать руки… и у кого руки эти окажутся чистыми, нежными, без мозолей, тем будет очень худо… Чтобы спастись от гибели, все белоручки начнут хвататься руками за землю, начнут рыть ее и все-таки будут гибнуть… А так как и у мужиков мозоли будут проходить (от хорошей жизни, которую антихрист устроил им, будучи поваром), то вслед за белоручками, уничтоженными по повелению антихриста, станут уничтожать и обелорученных мужиков… Ничего, кроме гибели!.. Затем начнется пожар земли, которая сначала превратится в медь, потом в серебро и, наконец, в золото. Тут воскресение мертвых и суд… Вот какая история! Итак, первое самое важное известие я сообщил… Теперь второе – рыболовы…
– Позвольте одну минуту, – перебил Березникова Пигасов. – Эту легенду об антихристе я на своем веку слышал несчетное число раз; антихрист всегда является в ней в разных видах, но всегда решительно, во всякой из легенд он всегда ознаменовывает свое пришествие добрыми делами. Он всегда завоевывает симпатии народа, делая ему приятное, облегчая ему жизнь… Почему это – зло, гибель, несчастие и вообще последние дни, кончину мира народ полагает после того, как жить будет необыкновенно легко, исполнятся все желания, снимутся все тяготы?.. И ведь это постоянно так, – продолжал Пигасов. – Антихрист постоянно начинает свою злодейскую карьеру тем, что благодетельствует и помогает бедняку, униженному и оскорбленному, а потом губит его именно этим облегчением жизни. Ведь еще на днях было напечатано в газетах сообщение о подлинном факте, как в Смоленске бедные люди стали считать какого-то доброго барина за антихриста, потому что он делал массу добрых дел: давал взаймы без отдачи, покупал корову вдове. Даже полиция встревожилась… Еще я помню, что Аракчеева народ стал считать антихристом и оказывал ему особенное упорство в тех случаях, когда он хотел действовать не палкой, а лаской. У одного мужика в той деревне, которую граф хотел обернуть в военные поселения, пропали деньги, кажется, рублей тысячу. Мужик был влиятельный, и граф, чтобы склонить его на свою сторону и чтобы засвидетельствовать пред всей деревней о своей доброте, выхлопотал у государя всю пропавшую сумму и при велеречивой бумаге препроводил в деревню для передачи чрез местное начальство обокраденному мужику. Но как только в деревне стала известна эта милость и доброта графа, так немедленно же он и прослыл за антихриста. «Ишь заманивает! Не бери этих денег, не касайся, боже сохрани!» Так и препроводили ему велеречивую бумагу с деньгами обратно!.. Что значит это? Отчего это облегчение жизни от бремени несчастия, горя и труда и одновременно с «облегчением» — гибель неразрывны в понятиях крестьянина?.. Отчего самый настоящий, заправский крестьянин никогда не променяет своего «трудного» житья на легкое житье барина или купца?.. Вот это меня ужасно интересует.
– Так отчего же это? – спросил Березников в раздумье и вдруг прибавил с неумеренным оживлением: – Оплетают его, вот он и боится… Ему дадут рубль, а сдерут вдесятеро! Так он и пятится от филантропии-то…
Пигасов призадумался.
– Оплетают-то оплетают, это так… Но ведь я говорю про такие явления в крестьянской жизни, которые, напротив, прямо облегчают жизнь и снимают с плеч тяготу явно, видимо для всех и безо всякого обдирания. Нет, мне кажется, что тут есть нечто иное!.. Ты (обратился Пигасов ко мне), помнится, что-то писал про власть над крестьянином – и если помню, то и над его умом и волей – труда земледельческого… Там у тебя много напутано всякого вздору – уж извини по приятельству, – но есть и доля правды… Действительно, мне кажется, что крестьянин живет, лишь подчиняясь воле своего труда… А так как этот труд весь в зависимости от разнообразных законов природы, то и жизнь его разнообразна, гармонична и полна, но без всякого с его стороны усилия, без всякой своей мысли… Вынуть из этой жизни гармонической, но подчиняющейся чужой воле, хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо заменять своей человеческой волей, своим человеческим умом… а ведь это как трудно! как мучительно!.. Возьмите вы человека своей воли, своей мысли – скажем так: культурного человека – сколько он мучился, сколько, страдал, а чего добился? Добился ли сотой доли того гармонического существования, которым пользуется так, не беспокоясь и не думая, крестьянин?.. Культурный человек – это человек, выгнанный из рая неведения, из рая, где всякая тварь служила ему (как служит теперь нашему мужику) под условием не касаться древа знания… Его выгнали в пустыню, в голую, безжизненную степь, на полную волю. И в обиде на неправду, а также и в гордом сознании силы своего ума (ведь он вкусил от древа-то) он, вероятно, сказал, уходя из рая: «Так будет же у меня мой собственный рай, да еще лучше этого!»… И вот над созданием этого рая он и бьется несчетное число веков. Ему не служат твари – он сделал своих: локомотив его бегает лучше лошади; он выдумал свой собственный свет, который будет светить и ночью; он переплывает океаны в своих, собственным умом выдуманных ихтиозаврах-кораблях; он хочет летать, как летает птица… И, вероятно, когда-нибудь в бесконечные веки он добьется своего… Будет у него свой собственный, выдуманный, взятый умом и волею рай. Но как еще ужасно-ужасно далеко это время! Когда-то еще его мертвое животное, локомотив, достигнет поворотливости любой деревенской кобыленки!.. Когда-то еще его упорное желание летать птицей осуществится хотя в приблизительных только размерах того совершенства, которым уже обладает галка, обладает так, без всяких усилий с своей стороны, а просто так… галка так галка и есть, взяла да и полетела! А Надары[5 - Надар – псевдоним французского воздухоплавателя, писателя и карикатуриста Ф. Турнашова (1820–1910).] еще лет тысячи будут разбивать себе головы и тонуть в морях, прежде нежели добьются уменья произвольно перелетать с крыши на крышу… Вот точно так же и народная жизнь…
– Как так же? – спросил в совершенном недоумении Березников. – Народная жизнь подобна галке? Что-то больно хитро!
– То есть совершеннейшее подобие галки! Если вы дадите себе труд поймать эту галку…