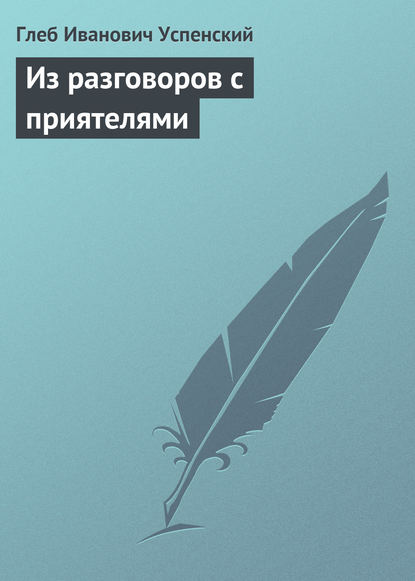По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Из разговоров с приятелями
Автор
Год написания книги
2011
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
«Ведь там, в деревне-то, мужик и баба делают действительно одно и то же дело, и в то же время у всякого есть «своя часть», но эта «своя часть» не носит на себе для каждого из них печати той исключительности, которая давала бы возможность сожительствующим сказать друг другу: «Это не твое дело», или: «Тут ты ничего не понимаешь», или: «Я в твоем деле ничего не понимаю, а ты не мешайся в мое», как это частенько-таки бывает в сожительствах немужицкого общества, где супруг с супругой в то же время, то есть не понимая дел друг друга и «не мешаясь» в дела друг друга, ознаменовывают прочность союза едва ли только не тем, что ходят друг с другом «под руку», чего, кстати сказать, я никогда не замечал у мужиков и баб. Всегда они идут рядом… Так и в жизни. (Я говорю о благоприятнейших условиях.) Они идут в жизни рядом, но каждый самостоятельно делает свое, хотя в общей сложности одно и то же дело. Это две руки, исполняющие одну и ту же пьесу. Мужик понимает все бабье дело и ценит бабу по этому делу: без этого бабьего дела не было бы и его дела, мужицкого; баба также понимает все дело своего мужа, да и ее дело ничего бы не значило без дела мужа. Здесь действительно полная, неразрывная связь мужа и жены в самых малейших движениях мысли; здесь нередко понимание «без разговоров», «по одному взгляду». Примеров подобного единения в так называемом «обществе» нет, потому что нет такой формы труда, организация которого, подобно организации, сделанной для человека особенными свойствами ржаного поля, давала бы возможность проявиться решительно всем – и нравственным и физическим сторонам человеческого существа. Необходимо упомянуть здесь еще об одной, весьма важной стороне мужицкого сожительства, именно о детях и их воспитании: дети не являются здесь существами, которых необходимо сдать кому-то на руки, потому что родителю, служащему в департаменте «обиняков», решительно нет времени разговаривать с ребенком о птичке или рассказывать сказку тогда, когда голова его занята мыслями «посерьезнее», а мать хотя и переворачивает по временам листы какой-то книжки, но, сколько я могу заметить, даже это весьма непоследовательное переворачивание страниц большею частию «раздражает» нервную мать. Она не может быть беспристрастна к своему ребенку (всё резоны) и поэтому весьма скоро прекращает это занятие, вручая собственное дитя постороннему попечению. В той же гармонично живущей крестьянской семье воспитание детей составляет также «одно» с жизнию родителей, и так как труд, возложенный на них ржаным полем, составляет одновременно и самую жизнь (то и другое одно – жизнь), то и воспитание детей не отделяется от общей жизни отца и матери, а составляет с этой жизнью – «одно»…
«Ничего более благородного, более отвечающего потребностям и духа и тела человеческого я не знаю другого, как то, что можно определить выражением «крестьянский труд»! Возьми ты хотя бы просто-напросто одну физическую сторону труда: ведь в нем действительно нужен весь человек, такой, каким создала его природа, а не только кусок человека, не мозг, не рука, не ноги только… а весь сполна! и если ты вникнешь во все подробности этого труда, то ты увидишь, что ни одного нерва, ни одного мускула без упражнения, в условиях этого труда, не остается, раз этот мускул существует… Все работает, и работает равномерно. Нет того, чтобы, атрофируя две трети своего организма, как несчастный чиновник или рабочий, стоящий у станка, человек скоплял бы силу атрофированных членов в двойном, в тройном усиливании проявления какой-нибудь человеческой способности или недостатка. Уравновешенность духовной и физической деятельности, встречающаяся, повторяю, в нашем крестьянстве, в счастливых случаях, в полной чистоте и совершенстве, делает его поистине образцом того, к чему должен стремиться так называемый прогресс. Эта уравновешенность до такой степени иногда поражала меня, что однажды, находясь под впечатлением знакомства с одним из таких полных гармонии крестьянских семейств, я был поражен, поистине поражен образом Манфреда[15 - …поражен образом Манфреда. – Манфред – герой одноименной драматической поэмы Байрона (1817).], когда случайно взял в руки эту поэму, возвратясь после посещения любезной мне семьи. – Что это такое? думалось мне: как так можно, чтобы весь человек превратился в одно страдание, не находил бы покоя и выл, как волк голодный, на весь свет (на Сен-Готард пробрался!): «Мне ску-у-учно! мне у-ужа-сно!..» Потом я опамятовался, но впечатление было сильное. Здесь же, в этом «образчике» гармонического существования ничто не замирает и ничто не разрастается до несоответственных с благообразием уродливых размеров. Все физические и духовные способности действуют в меру, не шибко, не поражают грандиозностью, но действуют все, и вот эта всесторонность в общем производит и грандиозное и грациозное впечатление. Всему, даже любви, здесь отведено место «по препорции». Хотелось бы мне оказать тебе очень много вот именно по этому последнему пункту, «о препорции в любви» – вещь очень любопытная, но об этом будем разговаривать когда-нибудь.
«Я не могу не вспомнить тех юношеских, но исполненных огромнейшего неведения минут, когда я, устраивая с одним приятелем в одной глухой, нетронутой цивилизациею деревне ссудное товарищество, основывал доказательства пользы, которую оно принесет, на том, что, мол, вам будет легче: «теперь у тебя баба сидит всю зиму, гнется над станком, чтобы выткать три аршина холста, а тогда (увы-увы-увы?) ты просто можешь купить двадцать аршин, и баба у тебя будет свободна. Теперь почему она у тебя спины не разгибает? Потому что у тебя не на что купить. Почему у тебя не на что купить? Потому что нужда тебя заставляет продать теленка за пять рублей, тогда как если бы ты имел время погодить, то теленок превратился бы в быка и стоил бы сорок целковых. Вот товарищество и даст тебе эти пять рублей, которые дадут тебе возможность погодить»… Словом, юношеская неопытность и незнание, какую огромную роль играет именно многосложность, именно обилие труда в сознании крестьянином нравственной полноты существования, правды его и устойчивости, делали то, что я на все лады проповедывал только какое-то огромное облегчение, необыкновенную легкость существования и представлял в ярких красках такие времена, когда никто ничего не будет делать, будет всем полная свобода; причем выходило, что при полном отдохновении будут получаться в то же время какие-то и откуда-то весьма значительные барыши… И никто из подлинных самых симпатичных мне крестьян не доверял мне, думая, что тут «подвох», что, как бы чего не вышло… и стали брать деньги прежде всех люди сомнительного положения, а потом и кулачки… И не развилось товарищество и не сплотило, а вот сектант, пробирающий нонешнее крестьянство за то, что оно отстает от работы, – сплотит в единую трудящуюся семью целую массу народа, оторванного новыми влияниями от своего хозяйства, отведавшего прелести свободного житья на деньги и натерпевшегося горя и голодовок, перемежающихся с кабацким веселием… «Бог нас и сотворил для того, – проповедует один из таких учителей, – чтобы мы работали да от трудов своих и другим помогали. Оттого-то теперь и горе всюду, что никто работать не хочет. Одни на наследство надеются, другие хороших ярмарок ожидают, и работать все не хотят… Все стали норовить, чтобы не работая жить и хлеб есть… И дорого все стало оттого, что работающих людей мало стало: всё больше приказчики да торгаши»[16 - «Как я стал духовным братом» (из Записок штундиста).]. Да! в труде – и правда и смысл народного существования; он для народа – сама жизнь. Работать и жить, труд и человек – до такой степени одно, как вот (Протасов искал сравнения) ты… и вес твоего тела… Ты не чувствуешь тяжести самого себя, между тем в тебе наверное пуда четыре есть… Эти четыре пуда ты носишь с собой везде и не замечаешь тяжести. Так и крестьянин не замечает тяжести своего огромного домашнего труда… Дай я тебе поднять на третий этаж полупудовую покупку – ты скажешь «тяжело», и если не скажешь, то почувствуешь тяжесть… Сделай я крестьянина работником, приставь, положим, к одним коровам – скучно ему и тяжко, пока нужда не приучит: а ведь, по-видимому, за одними коровами легче ходить, чем самому делать все?.. Вот что такое для крестьянина (не забывай только, случайно в настоящее время имеющего возможность сохранить в чистоте и соблюсти свои трудовые желания) – этот для нас, ленивых и неправильно развитых людей, этот беспрерывный и, повидимому, каторжный труд. Это образчик правильнейшего существования и самого совершенного человеческого типа. Этот тип у нас есть… Но знаешь ли, о чем я думаю?»
V. Своим умом
– Я думаю о гоголевской слесарше, которая, помнишь, сама себя высекла?[17 - Я думаю о гоголевской слесарше, которая, помнишь, сама себя высекла? – См. «Ревизор», д. IV, явл. XV. Успенский ошибся, спутав унтер-офицершу со слесаршей Пошлепкиной, вместе с которой она появляется на сцене.] Нелепо и глупо, не правда ли? Разве возможно что-нибудь подобное? Человек взял да и высек сам себя? Однако Миша?нька (Миша?нька тип тоже всесословный, как и интеллигентный человек) и не такие вещи делает с самим собой. Припоминая подвиги Миша?ньки за последние двадцать лет, я вижу, что он только и делал, что изводил этот благороднейший тип человека с лица русской земли. Что им руководило в этом бессмысленном злодеянии, решительно неизвестно. Неповоротливым, непривычным для выражения собственных своих мыслей языком он иногда в объяснение этого безобразия бормочет: «так в Европах… Железные законы… беспременно надо разориться вразор»… А хорошенько, право, не понимает, что такое творится в Европах… А в Европах (я тебя не буду мучить разглагольствованиями) творится между прочим вот что: близ Люттиха существует образцовый фамилистер, нечто вроде отеля для рабочих; этот отель именно за свою образцовость получил медаль на всемирной выставке в Париже 1873 года. И действительно, он стоит награды: «за 1 фр. 50 с. в день рабочий может иметь два завтрака, обед и ужин; у него есть помещение, отопление и стирка белья. В отеле есть ресторан, где он имеет зал для чтения, казино, где есть музыка и где он может проводить свои вечера. Он может иметь стол, какой пожелает, за отдельным столиком. Общих столов нет. Рабочий сохраняет таким образом свою полную независимость».
«Понимаешь ли, так-таки слово в слово и пропечатано: «таким образом рабочий может сохранять полную независимость, не стесняясь казарменными формальностями». Полная независимость! Независимость, да еще полная – это такая победа над роковыми трудностями жизни, что изобретателя этой независимости действительно следовало наградить медалью… Рабочий освобожден от казарменной формальности, преследующей его в этих многоэтажных казармах фабрик, в общих спальнях ночлежных домов и т. д., освобожден по крайней мере за обедом: ему, наконец, отвоеван отдельный столик… и полная независимость обедать за этим отдельным столиком! Что бы сказал наш мужик, любой, на выбор взятый, если бы я стал уверять его, какое огромное счастье рабочего человека составляет этот «отдельный столик» и «полная независимость» есть такую съестную дрянь, какую пожелаешь? А между тем какую ужасную родословную имеет эта победа в европейском рабочем мире, в этом мире неустанного труда, неугасимого огня и застилающих лучи солнца туч дыма!.. В этой же самой книжице, из которой я привел тебе цитату о «полной независимости» и отдельном столике[18 - В этой же самой книжице, из которой я привел тебе цитату… – Успенский имеет в виду книгу бельгийского буржуазного экономиста и философа Эмиля де Лавеле «Современный социализм», перевод с французского М. Антоновича, СПБ., 1882 (первая цитата – на стр. 98). Поэт конца римской республики — Антипатр (II в. до н. э.). Лавеле приводит стихотворение Антипатра на стр. 135, заимствуя текст его из I тома «Капитала» К. Маркса («Капитал», т, I, Госполитиздат, М., 1952, стр. 414).], есть прекрасное стихотворение римского поэта (конца римской республики), современника изобретения водяной мельницы… «Рабы! – писал он (я заучил это стихотворение наизусть): – рабы, которым приказано вертеть жернова, дайте отдых вашим рукам и спите спокойно! Напрасно звонкий голос петуха возвещает утро – спите! Теперь работа молодых девушек делается наядами, и вот они прыгают на вертящемся колесе, сверкающие и легкие… Они увлекают ось (мельничного колеса) своими лучами и приводят в движение тяжелый жернов, который вертится кругом… Будем жить счастливой жизнью и наслаждаться, не трудясь, благами, которыми осыпает нас богиня»… Вот как радо было чувствительное сердце поэта тому, что с плеч раба спадает забота, тягота труда, что ему будет легче, что он может спать спокойно… Вот когда судьба раба трогала и заботила чуткие к справедливости сердца! Чуткие сердца не дремали и, несмотря на страшные разочарования в своих надеждах, продолжали беспрестанно воевать во имя «справедливости». Так или иначе, но «отдельный столик» с «полною независимостью» – завоеван!
«Теперь обрати внимание, как мизерен этот «отдельный столик» с полною независимостью смотреть в стену и есть блюдо, состоящее из объедков (буквально), – в сравнении с нашею крестьянскою семьей того случайно благообразного и благоустроенного вида, о каком я тебе так много говорил? Имея перед своими глазами такой тип человеческого существования, спрашиваю я тебя, какие такие утопии и теории могут быть для нас страшны, непозволительны и преступны? Ведь мы уже имеем образчик вполне независимого во всех отношениях существования, а не за отдельным только столиком, этим едва ли не последним словом практического осуществления забот о «меньшем брате»? Так именно всем нам, россиянам, кажется. Отдельный столик не представляется нам ничем, кроме подлости и бесчеловечия, тогда как у нас… И тут нам рисуется великолепный образчик крестьянской семьи, крестьянского благоустроенного дома, который во всем сам себе хозяин…
«И, однако, мы решительно неправы, предаваясь необузданной гордости по поводу «образчиков», которыми владеем даром. Столик – точно мизерность, но он – победа; он – завоевание, вершковое, но непременно завоевание в пользу справедливости… Сам по себе он – ничтожество, но с ним действительно прибавляется в обществе мысль о полной независимости. В глубине всех этих мизерных опытов важна именно мысль о полной независимости человека. Опыт мал, но мысль велика, и мысль о независимости с каждым днем завоевывает себе большее и большее пространство и большее внимание. Мысль эта, развиваясь и укрепляясь, будет осуществляться практически, и все, что будет добыто ею, будет вековечно и прочно.
«У нас, у нашего крестьянина, эта независимость, идеал ее самой высшей пробы и самой совершеннейшей степени, есть уже, но он создан ржаным полем, а не человеком. Весь строй, все обличье образцовой крестьянской семьи, образцового крестьянского дома, о котором я говорил, – неизмеримо выше, красивей, полней, совершенней всего, что только можно себе представить по части завоеванной независимости, в виде ли она ищущей независимости женщины (с книжкой подмышкой), в виде ли столика с полной независимостью сидеть за ним отдельно и самостоятельно смотреть в стену; но эта величественность и стойкость семьи и дома, делающая их поистине образчиком того отдаленнейшего типа независимого существования, до которого еще бог знает когда добьется ищущий независимости человек, – непрочна, неустойчива, потому что источник красоты находится не в сознании человека, а вне его, в поле, в колосьях ржи… Благообразие мысли, благообразие типа даны готовыми, и вот почему благообразный Миша?нька может превратиться и в неблагообразного…
«Вот тут-то, мне кажется, и кроется органическое бессилие русской интеллигентной мысли. Европейские порядки обличены европейской же мыслью во всем своем объеме. Тут уж нечего заимствовать для образца. Что такое этот «отдельный столик», это последнее слово завоеванной независимости? Сунься-ка я с ним к мужику – он меня просмеет на смерть; тут нечего взять для нас; впечатление столика так мизерно, что благообразие крестьянского дома вырастает до размеров огромного значения. Итак, с одной стороны безобразие и мизерность, а с другой – огромное благообразие; одно нам не нужно, другое слишком совершенно. Ну, интеллигентному человеку и остается убираться вон и не соваться, не мешаться и не портить… И действительно, ему придется убраться вон, если он будет только соваться, и портить, и мешать. А между тем есть у него огромное дело: ему надо только знать, что мы обладаем образцовейшими типами существования человеческого. Надо знать, что именно этот тип, который я тебе описал из пятого в десятое, именно и есть образцовейший. Надо всем своим существом убедиться в этом и делать все, чтобы он превратился в сознательно образцовейший и перестал быть образцовым бессознательно… Образчик этого образцового существования должен лечь в основание школы и овладеть умом и совестью всех имеющих право что-нибудь делать на общественном поприще».
VI. Беспомощность
Уезжал однажды Протасов от меня в С.-Петербург и разговорился.
– Поеду я теперь по Николаевской дороге… Сколько раз на своем веку я сделал этих поездок по ней в Петербург и из Петербурга в Москву?.. Езжу я, замечаю перемены в постройках, замечаю перемены в вагонах, замечаю, что вырубленные леса вырастают, а дремучие вырубаются; вспоминаю старое и вижу, как я много прожил, как я старею с каждой поездкой… А вот эти маленькие девочки, которые двадцать лет тому назад, когда я впервые ехал по этой дороге, пищали под окном вагона: «Дяденька, купи цветочков! Дяденька, купи малинки! Малина хороша!», точь-в-точь такие же и теперь, как двадцать лет, и как будто бы совершенно не стареются и такие же ростом, и лицом, и костюмом. Это, конечно, уже не те Марфутки и Лизутки… Те уж, может быть, вывезены на Преображенское кладбище по железной дороге, или разжились кулацким достатком, или пропадают где-нибудь в «заведении», а это – другие Марфутки и Лизутки, но точь-в-точь такие же, как и те… Точь-в-точь такое же и ржаное поле, которое их растило, как и малина и цветочки – всё те же… Да и самая деревня точь-в-точь такая же: вон Миша?нька бежит с недоуздком и кошелкой, в которой насыпано немного овса, чтобы приманить им и обратать в поле сивую кобылу, и баба точь-в-точь такая же, как и двадцать и двести лет тому назад, поднимается с ведрами от речки, и старик Силантий греется на завалинке, и девчонки песни поют на той стороне за речкой. Все то же самое, но люди уж другие, хоть точь-в-точь такие же, как и те, которые давно померли, взяты в солдаты, проворовались и или ушли в Сибирь, или разбогатели. Ржаное поле поставляет все точь-в-точь таких же людей – и дядей Силантьев, и теток Авдотий, несметные тысячи которых лежат в земле, по всем концам земли русской. А сколько они вынесли, как погибли, где и как пропали? и отчего? и как? это до ржаного поля не касается, этого не видно и не слышно и на деревенской улице… Ржаное поле имеет дело только с живым и сильным, а до мертвого, до слабого, до погибающего ему нет дела.
«Можно поэтому любоваться и этой устойчивостью деревенских форм жизни и их красотою и широтою, но объяснять их прочность и широту обилием созидающего сознания невозможно… Я по крайней мере не мог бы этого сделать и взять грех на душу.
«В какую бы сторону от этого благоустроенного ржаным полем типа человеческого существования, которым нельзя не восхищаться, ты ни пошел, везде ты не только наткнешься, а потонешь в фактах, которые докажут тебе, что, будь в глубине этих прекрасных форм жизни сознательная зиждительность, никогда ни под каким видом не могло бы быть тех наивных ужасов, которые, повторяю, немедленно начинаются, как только ты от этого главного благоустроенного типа уклонишься либо в сторону упадка, либо в сторону благосостояния.
«Для человека же, отвоевавшего себе «полную независимость даже за отдельным столиком», невозможно утратить эту независимость, потому что право на это есть достояние его сознания, а сознание не горит в огне и не тонет в воде; оно не может отказаться от того, что приобретено, оно должно расти. Но можно все утратить там, где корень форм существования не в человеке, а вне его…
«Вот славная крестьянская семья. Муж, жена, два мальчика и девушка… Трудненько справляться мужику, но у него есть подспорье – отличная работящая жена и дочь на возрасте; ей уж шестнадцатый год. Справляются. Отец хочет взять мужа дочери во двор и подумывает об этом, подыскивает подходящих парней. Тогда бы дом был полный. Но вот отец зашиб ногу и слег: зашиб он ногу в самую жаркую рабочую пору, по весне. Соседи, люди, которых «господь не посетил» таким несчастием, люди, живущие благоустроенно, говорят, глядя на несчастие семьи: «Эко горе какое! Ах ты, горе-то, горе какое стряслось в самую-то горячую пору… Теперича им беспременно надо двух телок продать, надо работника нанимать!.. Вот Марьюшкиной свадьбе-то и не бывать!» И всё точно так и выходит: две телки, которые приберегались к продаже осенью, чтобы сыграть Марьюшкину свадьбу, продаются, и Марьюшкина свадьба делается уж невозможной: не на что ее сыграть! Кое-как работник сделал, что надо, а хозяин все лежит да лежит; лечит его лекарка, прикладывает на тряпке разные составы; а ноге все хуже да хуже. А тут косьба подошла, тут уж не на что работника нанять, тут большак перемогся, встал сам, кое-как отбил косу, пошел в поле, косил и натрудил ногу пуще прежнего. В самую косьбу – большак отдал богу душу! «Ну теперь, говорят соседи, Марьюшке надо непременно в услужение идти, деньги матери присылать, теперь уж ее никто замуж не возьмет… Ах, горькие горькие!..» И точно; опять все точь-в-точь так и выходит. Теперь Марьюшку нельзя взять, ничего у нее нет – это первое, а второе – войти к ней в дом нельзя, куча народу: двое братьев малолетков, старуха, да свои дети пойдут – как тут справиться одному? Нельзя. А нужны подати, нужна земля, без земли пропадай, нужен работник, и вот Марьюшка едет по машине… Она ничего не умеет городского, и ей нужно все в себе переделать, начиная с костюма; сколько лет она должна биться, чтобы выработать себе платье, в котором не стыдно было бы служить в порядочном доме, башмаки, которые при петербургских лестницах изнашиваются необычайно быстро, огнем горят… Теперь представь себе те бесчисленные случайности, как обольщение, рождение ребенка и возвращение с ним в деревню на вечный позор и посрамление; простое ничтожное обстоятельство вроде того, что господину, в семействе которого пришлось служить, отказали от места, и он три месяца не мог платить жалованья, так что Марьюшка ничего не могла выслать в самое нужное время. Уплаты податей и расчеты с работником делают то, что у старухи отбирают землю, а чтобы уплатить работнику – продают корову. Что делать бабе, угнетенной горем, потрясенной нищетой, возрастающей с каждым днем? У нее на руках два ребенка, десяти и одиннадцати лет… они не работники… но им нечего есть… И вот они едут по машине к той же Марьюшке, и добрый человек, дворник, пристраивает их в трактирное заведение, в портерную… Осталась одна старуха. Ей скучно, она истомилась одна горем и нуждой… Она продает дом и идет куда глаза глядят; с котомкой за плечами, она идет к угоднику и молится там… И за мужа, и за мальчиков, чахнущих в трактире и портерной, и за Марьюшку, с которой неведомо что творится… «Эка болезная! Эка горькая!» говорят и жалеют соседи, провожая владетельницу разорившегося гнезда… А потом через недельку-другую приветствуют новых жильцов ее дома… В нем поселилась новая, молодая семья; муж здоровенный парень, жена молодчина и всего один ребенок… Закипело дело у них, любо смотреть. «Уж любо, любо, поглядеть-то любо!..» говорят соседи… А недавняя драма прошла… «Теперича ей надыть идтить побираться» – констатировали соседи положение вдовы, когда она отослала в Питер обоих мальчиков и продала дом. И точно, она пошла побираться. И таких мгновенных гибелей, разорений бесконечное множество; они на каждом шагу, их так много, что при долгой жизни деревенеешь от их обилия и безрезультатности страдания, постоянно созерцаемого… И что же, если сознание народных благоустроенных форм жизни так велико, как кажется, так отчего ж оно не захватывает и этой области «случайностей деревенской жизни» – случайностей, которые всякого, самого богатого из деревенских богачей, могут в одно мгновение превратить в нищего, в вора, в убийцу и т. д.
«Не могу забыть одного дня, принесшего мне самое непереваримое по тяжести впечатление деревенской жизни… Дело было в деревне, в студеный осенний день… Рыжие поля, голые деревья, сухой шум сухих листьев, гонимых по земле сухим холодным ветром, режущим по лицу и шее тупым и грубым лезвием… Скучно, холодно, неприветливо… Было часов девять утра, и я стоял на дворе, глядя, как приехавший из соседней деревни крестьянин складывал у забора дрова… Не любил я этого мужика; какая-то беспредельная затаенная алчность – казалось мне на основании многих фактов – алчность неустрашимая, язвой точила его душу; и в то время как лицо всегда было благообразно и благопристойно, глаза только выдавали душевную тайну… Мрачные впечатления деревни, к несчастью долгие годы беспрерывно и без отдыху мной переживаемые, накопили и в моей душе что-то жестокое, неприветливое… Душа как-то закрылась, заперлась точно на замок и отвыкала с каждым днем все более и более от желания растворяться, раскрывать себя радостному явлению… Напротив, я стал замечать, что как только что-нибудь светлое или отрадное мелькает мне в этой холодной и темной атмосфере, так я инстинктивно отворачиваюсь, мне больней: не хочу я видеть этого и думать об этом потому, что меня сейчас что-нибудь придавит и мне втрое будет хуже… Так вот в таком-то мрачном душевном настроении, воспитанном во мне годами и не покидавшем меня в последние годы пребывания в деревне ни на минуту, стоял я на дворе в то памятное мне осеннее утро и смотрел на дюжую спину нелюбимого мужика… Мы переговаривались с мужиком по словечку чрезвычайно холодно, но вместе деликатно… А думалось мне почему-то одно: «убьет!..» Кого? когда? как? Не знаю!.. Просто как-то так стало выходить невольно, несознательно… Поглядишь на такое благообразное лицо, ответишь на благообразный поклон или благообразный вопрос, а сам в то же время почему-то думаешь: «а ведь разорвет, анафема, в клочья!» Вот и в это утро шевелились в моей мысли те же неприветные слова… Да и ветер меня мучил, царапая своим тупым лезвием по лицу, по шее и забираясь в рукава, да и поле – уж мертвое, ободранное, облезлое, как облезлая шкура мертвого животного, – гнело душу. Из-за забора с проезжей дороги ветер поднимал сухую холодную пыль… «Убьет…» – опять мелькнуло у меня, и я хотел было уйти, как вдруг нечто совершенно неожиданное, с неба свалившееся, приковало меня к месту и приковало как раз на половине этого страшного слова «убьет»… Как раз в ту минуту, когда отравленная душа вымучила из себя эту страшную мысль о мужике, который клал дрова и спину которого я созерцал из-за забора, сначала как первая капля дождя, падающая в крышу, послышался какой-то ясный, светлый звук; за ним другой, третий, и вдруг эти странные звуки быстрым и резвым оборотом перешли как-то сразу в развеселый, разудалый, разухабистый вальс из какой-то оперетки… Шарманщик, пробираясь из столицы в губернский город, заслышал разговор за забором – а забор-то был около усадьбы, повидимому не крестьянской, – вот он и заиграл вальс. Грубый ветер грубыми толчками точно дрался с этими звуками, разнося их по пыльной улице, угоняя вверх, опрокидывая вниз… Когда-то я слышал эти звуки, и ничего в них не было, кроме опереточной «клубнички», но появление их здесь, в деревне, среди этих соломенных крыш, этих ободранных полей, рваных полушубков, ошеломило меня… Они нежданно-негаданно принеслись и поставили среди этой суровой деревенской обстановки образы довольства, веселья, праздности, роскошной, залитой золотом и упоенной «своим удовольствием». Они так превосходно нарисовали этот другой мир, а мое, истомленное однообразием деревенских впечатлений, воображение с такою яркостью отпечатлело его, что я не додумал даже до последней буквы страшного слова «убьет…», как уж и мужик, которого я только что ненавидел, и его черная с глубокими ямами шея, и его рваная шапка, словом, все, все в нем пробудило во мне взрыв, да, именно взрыв необычайной жалости. «Как я мог думать это… убьет?..» – истерически билось у меня где-то не то в голове, не то в сердце… Истерические слезы как-то неудержимо стремились вылиться и оплакать одновременно и неустанные труды этих неустанных рук, и холод изб, и тьму ночей с бьющимся от страшного сна ребенком, и жестокость этого же мужика к родному брату, которого эти же руки ободрали, буквально ободрали, и воровство этими руками в темную ночь чужих дров, и эту неустрашимую алчность, не усыпающую в душе мужика, и черствый хлеб, и грязную соску во рту ребенка… Шарманщик играл, мужик клал холодными руками на холодном ветре холодные и грубые поленья, холодный ветер резал и толкал… а в глубине души разверзалось что-то горячее, как огонь, разливалось жаром рыданий…»
Протасов долго ходил по комнате, не говоря ни слова, и, подолгу останавливаясь у окна, спиной ко мне, смотрел на улицу, также ни слова не произнося… Я не мешал ему овладеть собою…
– А ведь знаешь, – заговорил он, отходя, наконец, от окна и стараясь казаться совершенно спокойным, даже слегка, хотя и напряженно улыбаясь: – ведь действительно этот мужик-то содрал с брата шкуру, как говорится у нас по-деревенски… Нужда! Чем ее поправить? А вот насупротив живет братан, Алешка, братан нескладный; все у него незадача… Было у этого Алешки место лесника, семь рублей в месяц жалованья, – отбил, потому Алешка пьет, а этот, Николай, капли в рот не берет… «Ему эти деньги все одно ни к чему». Надумал Алешка дрова возить куда-то по два с полтиной сажень – Николай «вызнал» место, стал возить по два… отбил!.. «Вози, говорит, нешто я препятствую тебе?»… «Ну, констатируют соседи, таперича Алешка должон совсем подохнуть». Тут всё только констатируют… «должон теперича по миру пойтить…», «теперчи ён бы уж помирать должон…» Когда Николай отбил от Алешки место («Николаю-то семь целковых дюже хорошо!.. констатировали соседи… теперича он должон шибко поправляться»), и когда отбил поставку дров, и когда потом отбил сенокос, который Алешка снимал у соседнего барина (всего-то пудов на шестьдесят), тогда соседи констатировали так: «Теперича, надо полагать, Алеха должон совсем порешиться, начисто пошел на разор…» И Алеха пошел на разор. Детей у него куча, всё маленькие, жена слабая, больная и, на несчастье, плодущая… Алешка начал разоряться и пьянствовать, стал жестоко колотить, жену, чтобы усмирить в ней эту плодовитость, уравновесить плодущую бабу с окружающим недостатком, но не уравновесил. Алешка стал пьянствовать, и я стал встречать его в самом растерзанном виде: раза два я видел его лежащим в грязи, в канаве, лицом вниз, бездыханным… «Должон Алеха, надо быть, покончиться с эстого с пьянства», констатировали объективные наблюдатели-миряне… Но Алеха не помер, а случилось с ним еще новое и огромное несчастье.
«В один день разнеслась весть, что три девочки, дочери Алехи, оставшись дома без матери, которая ушла зачем-то к соседям, на руках девятилетнего парнишки (отца также не было дома – «воровал дрова» в графском лесу), опрокинули на себя во время игры огромный, белым ключом кипевший самовар… и обварились с головы до ног. «Теперича уж, пожалуй, и помирать должны бы… вчерась обварились-то…» констатировали деревенские диагносты… «Должны помереть, – подтверждали беспристрастные наблюдатели, – коли ежели не отходят». «Коли отходят, в ту пору и живы должны остаться, ну а коль скоро не отходят, то само собой, окончательно сказать, должны покончиться…» «Беспременно покончатся, коли ежели каких способов не будет отходить…» «Да, теперича пожалуй что уж и померши, коли ежели…» А так как всем хорошо известно, что в деревне существует самый внимательный контроль друг над другом и над всем домашним бытом каждого дома, то к этому констатированию неизбежной для девочек смерти (ежели не отходят) присоединилось констатирование и другого факта. «А пожалуй, что Алеха-то теперь должен пойтить на поправку!.. Горе, горе, что говорить! Всякому свое жалко… А и так ежели сказать, божиим повелениям человек не указчик… Неизвестно, может господь-то премудро все это послал… А что Алехе все полегче станет – это верно, потому как же? остался он в троих… куда с этакой оравой ребят выбиваться… А теперича, пожалуй что, и на поправку должон пойтить… Право, должон». Дети действительно умерли, и Алеха действительно пошел на поправку… Долго я не видал его после этого несчастья и не знаю, как он его пережил, но когда я его увидел наконец, он был и трезв и опрятен, и взор его был и чист, и светел, и умен… «Слава тебе, господи, кабысь немножечко дело мое поправляться стало… Дай бог здоровья (имя рек), место мне дал – мост на железной дороге караулить, через день, рубль серебром, свои харчи, маленько поправляться стал… А то всего бы решился, чисто бы помер бессловесно!.. До весны как-нибудь промерзну в землянке-то, рублей под шестьдесят деньжонок накопится, опять возьмусь за хозяйство… Слава тебе, господи, землю-то кое-как у мужиков «отпоил» – не отняли… А то бы начисто бы пришлось покончиться». О детях мы не говорили…»
Так вот какие эпизоды иногда выручают человека из погибели!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Как бы я желал, – говорил Протасов спустя некоторое время, – если бы можно было свалить всю вину на знаменитую пословицу «только печкой не били». Когда приказывают, Миша?нька не может ослушаться, он привык слушаться, ржаное поле приучило его. А вот о несчастье нет приказаний ржаного поля, и Миша?нька только констатирует факты с точностью ученого исследователя и привык погибать, также исполняя с точностью собственную свою погибель, раз она этим ржаным полем ему предуказана.
Примечания
Печатается по последнему прижизненному изданию; Сочинения Глеба Успенского в двух томах. Том второй. Третье издание Ф. Павленкова. СПБ., 1889.
Впервые напечатано: первый очерк – в журнале «Отечественные записки», 1882, XI, под названием: «Без своей воли (Из деревенского дневника)», остальные очерки – там же, 1883, II, под названием «Из разговоров с приятелями. Очерки».
Очерки «Из разговоров с приятелями» идейно и тематически непосредственно примыкают к циклу «Власть земли». Эту связь Успенский подчеркнул, снабдив во втором издании «Сочинений» цикл «Из разговоров с приятелями» подзаголовком («На тему о «власти земли»). Еще раньше, в первом издании «Сочинений», Успенский в конце цикла «Власть земли» дал подстрочное примечание, отсылающее читателя к данному циклу как к рассказу «на ту же тему о власти земли».
В очерках проводится параллель между идеалом трудовой крестьянской жизни и социалистическими идеалами, создающимися на почве рабочего движения. Как и в очерках «Власть земли», Успенский рассматривает крестьянина как прообраз гармонического, «полного» человека, который «всё сам, на все руки, всё может и ни в ком не нуждается». Но вместе с тем писатель подчеркивает, что гармоничность крестьянской жизни складывается под стихийным воздействием природы. Крестьянин живет «без своей воли», «как цветок, как галка, как пчела». Достаточно поэтому иногда простого «случая», чтобы сокрушить «гармонию» крестьянской жизни. Крестьянин не может противостоять разлагающим влияниям «рубля» и «машины», легко теряет (о чем свидетельствует тип «Миша?нек») всякое нравственное «благообразие», превращается в маклака, кабатчика, купца. Поэтому Успенский признает, что социалистический идеал, возникающий под влиянием борьбы рабочего класса и отражающий его стремление к освобождению от капиталистического гнета, в силу своей сознательности выше, чем бессознательные «гармония» и «благообразие» трудовой крестьянской жизни. Как ни недостаточны еще практические завоевания западноевропейского рабочего, все же каждая – даже скромная – победа социалистического рабочего движения «незыблема» и «вековечна», ибо является выражением сознательного стремления к искоренению рабства – стремления, которое уже никогда не сможет заглохнуть.
И все же русская демократическая интеллигенция должна, по Успенскому, положить в основу своей социальной теории идеал русского крестьянина как «образцовейший тип существования человека». Эта народническая тенденция писателя вызвала резкую критику Плеханова в его статье об Успенском. Народнической вере Успенского в то, что человек будущего в России – мужик, Плеханов противопоставил идеи научного социализма.
Сохранившаяся наборная рукопись II–VI очерков цикла свидетельствует, что при прохождении в печать цикл подвергся значительной авторской правке как стилистического, так и цензурного порядка. В рукописи дана более отчетливая характеристика Протасова как одного из людей, «измолотых в порошок» реакцией 70-х и 80-х годов, более резко был охарактеризован помещик «Сквозьстроев» – «маленький злой идиот и распутник», ярче обрисованы его «тиранства» и вызванное ими озлобление. В уста Протасова был вложен ряд обличительных высказываний, направленных против «командования сытых классов»: «Командование сытых классов – неудовлетворительно, – писал, между прочим, Успенский, – мы знаем, что и у нас прорвы и утробы есть ненасытны, которым желательно не давать воли;.. Положение классов, над которыми командуют, ужасно…» В начале VI очерка, рассказывая об отъезде Протасова, автор первоначально вкладывал в его уста следующее рассуждение, выброшенное цензурой: «Есть у мужиков, – говорил он между прочим, – такая пословица, резюмирующая, на мой взгляд, всю мужицкую историю: нас (то есть мужиков) только печкой не били. И действительно, если ты вникнешь в эту пословицу с должным беспристрастием, – то невольно согласишься, как точно во всех отношениях это определение мужицкой истории. Кнут, палка, подворотня, оглобля, вожжи, даже ведро, лопата, лом – словом, решительно все, что только можно взять в руки, чем только можно размахнуться, чем можно пустить, – все перепробовал мужик на своей шкуре. Вот только печкой действительно не били, нельзя. Нет еще такого «облеченного доверием» лица, который бы в видах «государственной пользы» осилил огромную крестьянскую печь, и, взяв ее в свои могучие руки, мог бы ударить мужика «для его же собственной пользы». А однако мужик все тот же, как будто его ничем и не били…» В заключение Протасов говорил: «Боль, крик и стоны тех, кого били всем, чем ни-попадя, из-за которых где-то там за тридевять земель хлопочут и бьются люди совести и сердца, по временам завоевывая «независимость» и уж добившиеся какого-то мизерного для нас «отдельного столика», – здесь в среде благоустроенных крестьянских семей и образцовых типов человеческого существования – уж не имеют результата, который бы в миллионной доле поровнялся с этим столиком… Те, кто убиты или забиты, – лежат в земле сырой, – и деревенское сознание ничего не создало во имя этого неусыпающего битья… Не может!..»
Предшествующее отъезду Протасова рассуждение его о «столике», завоеванном европейским рабочим (см. конец V очерка), в рукописи имеет также иную, более пространную редакцию: «Столик – точно мизерность, – но он победа против неправды. Он – завоевание, вершковое, но все-таки завоевание в пользу меньшего брата, в пользу справедливости… Сам по себе он – ничтожество и убожество и драма, – но с ним в бедном и пожираемом железными законами рабе действительно пробивается мысль о полной независимости… В глубине всех этих мизерных опытов важна именно мысль о полной независимости человека. Опыт мал, но мысль велика, и мысль о независимости с каждым днем завоевывает себе большее и большее пространство и большее внимание. Она уже устыжает и устрашает сытые классы европейского общества настолько, что вопрос о положении современного раба, – стал вопросом неотразимым; все партии общественные сознают, что так «как-нибудь» – его нельзя разрешить. В тронной речи о нем говорит германский император, его хотят по очереди эксплуатировать правительства, буржуазия, духовенство… Конечно, они долго еще не дадут ничего, кроме столика или простого обещания, – но вопрос о положении раба и о независимости его существования не может исчезнуть, заглохнуть, а будет расти и развиваться и идти по пути, несмотря на всевозможные преграды, к цели, то есть к полной независимости существования… И, судя по некоторым признакам, в этом направлении уже и сделано даже кое-что больше столика: так, в Германии уже существуют фабрики, на которых хозяева дают семейному рабочему в вечное владение на известных условиях полный дом и лоскутки земли. Это кабала, но и она роковым образом ведет к той же цели, то есть, чтобы не было на свете раба. Вообще же повторяю, как ни мизерны эти результаты, добытые во имя справедливости, но они незыблемы, вековечны в самом деле, потому что в глубине их лежит сознательная мысль о несправедливости существования раба, сознательная скорбь о нем…»
В журнальной публикации цикл распадался на две самостоятельные части – «Без своей воли» и «Из разговоров с приятелями». В таком же виде он был перепечатан (с некоторыми сокращениями и исправлениями) в первом издании «Сочинений» (т. VIII, СПБ., 1884). Подготовляя второе издание «Сочинений», Успенский объединил обе части цикла в единое целое и дал отдельным очеркам отсутствовавшие прежде заголовки. При этом очерки подверглись еще раз сокращению и стилистической правке. Из опущенных Успенским отрывков наибольший интерес представляют полемические замечания против идей Достоевского, выраженных в романе «Подросток». «Вопреки уверениям г. Достоевского, который в одном из своих романов сказал, что «благообразие» вообще встречается на Руси в привилегированном сословии, – писал Успенский, – я думаю как раз наоборот: оно все целиком сосредоточено в нашем крестьянстве…» Выброшены, повидимому по цензурным соображениям, были и некоторые политически острые формулировки. Так оказался снятым во втором издании вопрос: «отчего это отечество наше могло выдумать для верных сынов своих только массу затруднений и, повидимому, не только не обещает убавить их, а как будто грозится преувеличить?» Сняты были полностью и рассуждения Протасова по поводу крестьянской пословицы: «нас (то есть мужиков) только печкой не били», рукописная редакция которых приведена выше. Так как одновременно с цензурной правкой и сокращением очерков Успенский производил стилистическую правку, то восстановить в тексте очерков выброшенные автором отрывки в большинстве случаев невозможно. Поэтому в настоящем издании по наборной рукописи восстанавливается первоначальный авторский текст лишь одного – особенно важного – эпизода, подвергшегося в прижизненных печатных текстах цензурным искажениям, – рассказа Протасова о помещике Сквозьстроеве в начале III очерка (см. стр. 238–240).
notes
Сноски
1
…«в стан погибающих» – цитата из поэмы Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1860).
2
Одно из действующих лиц тургеневского романа – Пигасов, персонаж романа И. С. Тургенева «Рудин» (1856), отличавшийся желчным и раздражительным характером.
3
Корф, Н. А. (1834–1883) – педагог, автор учебников для школы «Малютка», «Наш друг» и др.
4
Евтушевский, В. А. (1836–1888) – педагог-математик, автор широко распространенных в 80-х годах «Сборника арифметических задач» и «Методики арифметики».
5
Надар – псевдоним французского воздухоплавателя, писателя и карикатуриста Ф. Турнашова (1820–1910).
6
…книгу об Америке, о каких-то американских сектах… – Повидимому, имеется в виду книга: J. H. Noyes. History of the american sociaisms, Philadelphia, 1870 (Дж. Нойес. История американского социализма, Филадельфия, 1870).
7
Нойес, Джон Гемфри (1811–1886) – американский священник, буржуазный социальный реформатор. В 1847 году создал общину из своих сторонников.
8