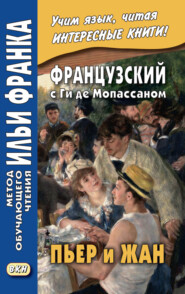По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2024.
✖
Лучшие новеллы (сборник)
Автор
Жанр
Год написания книги
2017
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
История была любовная. В глубине моей памяти сохранилось какое-то смутное впечатление, похожее на запах, который чует охотничья собака, рыща на том месте, где побывала дичь.
Однако мало-помалу туман стал проясняться, и перед моими глазами всплыло лицо девушки. Потом внезапно, как взрыв ракеты, в ушах прозвучала фамилия: мадмуазель де Мандаль. И тогда я вспомнил все. Эго была действительно любовная история, но самая банальная. Когда я встречался с этим молодым человеком, девушка была влюблена в него и шли толки о близкой свадьбе. Он тоже казался очень увлеченным, очень счастливым.
Я поднял глаза к сетке, где вздрагивали от толчков поезда свертки, принесенные слугой соседа, и голос слуги снова раздался в моих ушах, как будто бы он еще не смолк.
Он сказал:
«Все здесь, сударь. Пять мест: конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки».
Тогда у меня в голове мгновенно возник и развернулся весь роман. Он похож был на все читанные мной романы, где жених или невеста вступает в брак со своей нареченной и нареченным, несмотря на физическую или денежную катастрофу. Итак, после конца кампании этот искалеченный на войне офицер вернулся к помолвленной с ним девушке, и она, верная своему обещанию, вышла за него замуж.
Мне казалось, что это прекрасно, но банально; так кажутся банальными все жертвы и развязки в книгах или в театре. Когда читаешь или слышишь о таких примерах великодушия и благородства, думается, что и сам можешь принести себя в жертву с восторженной радостью, с великолепным порывом. А на другой день, когда приятель, у которого плохи дела, попросит денег взаймы, приходишь в очень скверное расположение духа.
Но вдруг первоначальное мое предположение сменилось новым, менее поэтичным, но более жизненным. Может быть, они поженились еще до войны, до этого ужасного несчастья с ядром, оторвавшим ему ноги, и ей, безутешной, но покорной, пришлось принять, окружить заботами, утешать и поддерживать мужа, уехавшего красивым и сильным, а вернувшегося безногим, жалким обломком человека, обреченным на неподвижность, на вспышки бессильной злобы и неизбежную тучность.
Счастлив он или страдает? Меня охватило сначала еле ощутимое, потом все растущее и наконец непреодолимое желание узнать его историю, хотя бы главнейшие ее вехи, по которым я угадал бы то, чего он не может или не захочет сказать сам.
Разговаривая с ним, я продолжал думать об этом. Мы обменялись несколькими обыденными фразами; я взглянул на сетку для вещей и стал соображать: «У него, очевидно, трое детей: конфеты он везет жене, куклу – дочурке, барабан и ружье – сыновьям, а паштет из гусиной печенки – себе».
Я спросил его:
– У вас есть дети, сударь?
Он ответил:
– Нет, сударь.
Я вдруг почувствовал себя смущенным, как будто совершил большую бестактность.
– Простите меня, – сказал я. – Мне пришло это в голову, когда ваш слуга говорил об игрушках. Ведь иной раз слышишь, не слушая, и делаешь выводы, сам того не сознавая.
Он улыбнулся, потом проговорил:
– Нет, я даже не женат. Дальше жениховства я не пошел.
Я сделал вид, будто внезапно что-то вспомнил:
– Ах!.. Правда, вы ведь были помолвлены, когда я вас знал. Помолвлены, если не ошибаюсь, с мадемуазель де Мандаль.
– Да, сударь, у вас превосходная память.
Я рискнул пойти еще дальше и прибавил:
– Да, помнится, я слышал также, что мадемуазель де Мандаль вышла замуж за господина… господина…
Он спокойно произнес фамилию:
– За господина де Флерель.
– Вот-вот! Да… теперь я даже припоминаю, что по этому поводу узнал и о вашем ранении.
Я взглянул ему в глаза, и он покраснел.
Его полное, пухлое лицо, багровое от постоянных приливов крови, побагровело еще сильнее.
Он отвечал с живостью, с внезапным пылом человека, защищающего дело, которое проиграно давно, проиграно в его глазах и сердце, но которое он хочет выиграть в чужом мнении.
– Совершенно напрасно, сударь, имя госпожи де Флерель произносится рядом с моим. Когда я вернулся с войны – увы, без ног, – я ни за что, никогда не согласился бы, чтобы она стала моей женой. Разве это возможно? В брак, сударь, вступают не для того, чтобы демонстрировать свое великодушие! Это делают для того, чтобы жить вместе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И если человек представляет собой, как я, например, бесформенную массу, то выйти за него замуж – значит обречь себя на мучение, которое кончится только со смертью! О, я понимаю, я восхищаюсь всякими жертвами, всяким самоотвержением, если они имеют какой-то предел, но не могу же я допустить, чтобы в угоду восторгам галерки женщина пожертвовала всей своей жизнью, всеми надеждами на счастье, всеми радостями, всеми мечтами! Когда я слышу, как мои деревяшки и костыли стучат по полу у меня в комнате, когда я при каждом своем шаге слышу этот мельничный грохот, я так раздражаюсь, что готов задушить слугу. Как вы думаете, допустимо ли предложить женщине терпеть то, что не выносишь сам? И потом, как вам кажется, очень красивы мои деревяшки?
Он замолк. Что можно было сказать? Я видел, что он прав. Мог ли я ее порицать, презирать или хотя бы считать неправой? Нет. И все же… Развязка, согласная с общим правилом, с обыденностью, с реальностью, с правдоподобием, не удовлетворяла моим поэтическим запросам. Эти обрубки героя взывали о прекрасной жертве. Мне ее не хватало, и я был разочарован.
Я неожиданно спросил его:
– У госпожи де Флерель есть дети?
– Да, девочка и два мальчика. Я и везу им эти игрушки. Ее муж и она очень добры ко мне.
Поезд поднимался по сен-жерменскому откосу. Он прошел туннели, подошел к вокзалу и остановился.
Я хотел предложить свои услуги и помочь искалеченному офицеру выйти, но в это время через открытую дверь к нему протянулись две руки:
– Здравствуйте, милый Ревальер!
– A-а! Здравствуйте, Флерель.
Позади мужчины улыбалась, сияя, красивая еще женщина. Руками, затянутыми в перчатки, она делала приветственные знаки. Рядом с ней прыгала от радости маленькая девочка, а два мальчугана жадными глазами смотрели на барабан и ружье, которые отец их вынимал из вагонной сетки.
Когда калека сошел на перрон, дети бросились обнимать его. Потом все тронулись в путь, и девочка доверчиво держалась ручонкой за лакированную перекладину костыля, как держалась бы за палец своего большого друга, идя рядом с ним.
Двадцать пять франков старшей сестры
Да, он был в самом деле смешон, папаша Павильи: длинные паучьи ноги, длинные руки, маленькое туловище, остроконечная голова и на макушке «огненно-рыжий хохол.
Он был по природе шут, деревенский шут, рожденный проказничать, смешить, выкидывать шутки – шутки незамысловатые, потому что он был сын крестьянина и сам полуграмотный крестьянин. Да, господь бог создал его потешать прочих деревенских бедняков, у которых нет ни театров, ни праздников. И он потешал их на совесть. В кафе люди ставили ему выпивку, чтобы он только не уходил; и он храбро пил, смеясь, подшучивая, подтрунивая надо всеми и никого не обижая, а люди вокруг него покатывались со смеху.
Он был так забавен, что, несмотря на все его безобразие, даже девки не в силах были ему противиться, до того они хохотали. Не переставая шутить, он затаскивал девку куда-нибудь за забор, в канаву или в хлев и там принимался щекотать и тискать ее с такими смешными прибаутками, что она животики надрывала, отталкивая его. Тогда он начинал прыгать и притворяться, будто хочет повеситься; она помирала со смеху, и слезы текли у нее из глаз, а он улучал момент и валил ее наземь так ловко, что все они попадались, даже те, кто потехи ради издевался над ним.
Однажды, в конце июня, он нанялся жнецом к фермеру Ле-Ариво, около Рувиля. Три недели кряду он днем и ночью развлекал жнецов и жниц своими шутками. Днем, в поле, посреди скошенных колосьев, нахлобучив старую соломенную шляпу, скрывавшую его рыжий хохол, он длинными худыми руками подбирал и вязал в снопы желтую рожь; потом вдруг останавливался, выкидывал какое-нибудь смешное коленце, и по всему полю раздавался хохот жнецов, не спускавших с него глаз. Ночью он, словно огромное пресмыкающееся, пробирался по соломенной подстилке чердака, где спали женщины. Он давал волю рукам, кругом раздавались крики, поднимался шум. Его выгоняли, пинали деревянными башмаками, и среди взрывов хохота всего чердака он убегал на четвереньках, как фантастическая обезьяна.
В последний день уборки урожая, когда шесть лошадей в яблоках, управляемые парнем в блузе, с бантом на фуражке, медленно катили по широкой белой дороге украшенную лентами телегу со жнецами, из которой неслись звуки волынки, пение, крики веселящихся и подвыпивших людей, Павильи выплясывал посреди развалившихся на телеге женщин такой танец пьяного сатира, что сопливые мальчишки только рты разевали, а крестьяне дивились его невероятному телосложению.
Вдруг, когда телега уже подъезжала к воротам фермы Ле-Ариво, Павильи подпрыгнул, подняв руки, но прежде, чем встать на ноги, неудачно зацепился за борт длинной тележки, кувырнулся вниз, треснулся о колесо и свалился на дорогу.
Товарищи бросились к нему. Он не шевелился. Один глаз был открыт, другой закрыт, огромные руки и ноги растянулись в пыли, а сам он был мертвенно бледен от страха.
Когда дотронулись до его правой ноги, он закричал, а когда его попытались поднять, снова рухнул на землю.
– Похоже, лапу сломал, – сказал один из крестьян.
Однако мало-помалу туман стал проясняться, и перед моими глазами всплыло лицо девушки. Потом внезапно, как взрыв ракеты, в ушах прозвучала фамилия: мадмуазель де Мандаль. И тогда я вспомнил все. Эго была действительно любовная история, но самая банальная. Когда я встречался с этим молодым человеком, девушка была влюблена в него и шли толки о близкой свадьбе. Он тоже казался очень увлеченным, очень счастливым.
Я поднял глаза к сетке, где вздрагивали от толчков поезда свертки, принесенные слугой соседа, и голос слуги снова раздался в моих ушах, как будто бы он еще не смолк.
Он сказал:
«Все здесь, сударь. Пять мест: конфеты, кукла, барабан, ружье и паштет из гусиной печенки».
Тогда у меня в голове мгновенно возник и развернулся весь роман. Он похож был на все читанные мной романы, где жених или невеста вступает в брак со своей нареченной и нареченным, несмотря на физическую или денежную катастрофу. Итак, после конца кампании этот искалеченный на войне офицер вернулся к помолвленной с ним девушке, и она, верная своему обещанию, вышла за него замуж.
Мне казалось, что это прекрасно, но банально; так кажутся банальными все жертвы и развязки в книгах или в театре. Когда читаешь или слышишь о таких примерах великодушия и благородства, думается, что и сам можешь принести себя в жертву с восторженной радостью, с великолепным порывом. А на другой день, когда приятель, у которого плохи дела, попросит денег взаймы, приходишь в очень скверное расположение духа.
Но вдруг первоначальное мое предположение сменилось новым, менее поэтичным, но более жизненным. Может быть, они поженились еще до войны, до этого ужасного несчастья с ядром, оторвавшим ему ноги, и ей, безутешной, но покорной, пришлось принять, окружить заботами, утешать и поддерживать мужа, уехавшего красивым и сильным, а вернувшегося безногим, жалким обломком человека, обреченным на неподвижность, на вспышки бессильной злобы и неизбежную тучность.
Счастлив он или страдает? Меня охватило сначала еле ощутимое, потом все растущее и наконец непреодолимое желание узнать его историю, хотя бы главнейшие ее вехи, по которым я угадал бы то, чего он не может или не захочет сказать сам.
Разговаривая с ним, я продолжал думать об этом. Мы обменялись несколькими обыденными фразами; я взглянул на сетку для вещей и стал соображать: «У него, очевидно, трое детей: конфеты он везет жене, куклу – дочурке, барабан и ружье – сыновьям, а паштет из гусиной печенки – себе».
Я спросил его:
– У вас есть дети, сударь?
Он ответил:
– Нет, сударь.
Я вдруг почувствовал себя смущенным, как будто совершил большую бестактность.
– Простите меня, – сказал я. – Мне пришло это в голову, когда ваш слуга говорил об игрушках. Ведь иной раз слышишь, не слушая, и делаешь выводы, сам того не сознавая.
Он улыбнулся, потом проговорил:
– Нет, я даже не женат. Дальше жениховства я не пошел.
Я сделал вид, будто внезапно что-то вспомнил:
– Ах!.. Правда, вы ведь были помолвлены, когда я вас знал. Помолвлены, если не ошибаюсь, с мадемуазель де Мандаль.
– Да, сударь, у вас превосходная память.
Я рискнул пойти еще дальше и прибавил:
– Да, помнится, я слышал также, что мадемуазель де Мандаль вышла замуж за господина… господина…
Он спокойно произнес фамилию:
– За господина де Флерель.
– Вот-вот! Да… теперь я даже припоминаю, что по этому поводу узнал и о вашем ранении.
Я взглянул ему в глаза, и он покраснел.
Его полное, пухлое лицо, багровое от постоянных приливов крови, побагровело еще сильнее.
Он отвечал с живостью, с внезапным пылом человека, защищающего дело, которое проиграно давно, проиграно в его глазах и сердце, но которое он хочет выиграть в чужом мнении.
– Совершенно напрасно, сударь, имя госпожи де Флерель произносится рядом с моим. Когда я вернулся с войны – увы, без ног, – я ни за что, никогда не согласился бы, чтобы она стала моей женой. Разве это возможно? В брак, сударь, вступают не для того, чтобы демонстрировать свое великодушие! Это делают для того, чтобы жить вместе каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. И если человек представляет собой, как я, например, бесформенную массу, то выйти за него замуж – значит обречь себя на мучение, которое кончится только со смертью! О, я понимаю, я восхищаюсь всякими жертвами, всяким самоотвержением, если они имеют какой-то предел, но не могу же я допустить, чтобы в угоду восторгам галерки женщина пожертвовала всей своей жизнью, всеми надеждами на счастье, всеми радостями, всеми мечтами! Когда я слышу, как мои деревяшки и костыли стучат по полу у меня в комнате, когда я при каждом своем шаге слышу этот мельничный грохот, я так раздражаюсь, что готов задушить слугу. Как вы думаете, допустимо ли предложить женщине терпеть то, что не выносишь сам? И потом, как вам кажется, очень красивы мои деревяшки?
Он замолк. Что можно было сказать? Я видел, что он прав. Мог ли я ее порицать, презирать или хотя бы считать неправой? Нет. И все же… Развязка, согласная с общим правилом, с обыденностью, с реальностью, с правдоподобием, не удовлетворяла моим поэтическим запросам. Эти обрубки героя взывали о прекрасной жертве. Мне ее не хватало, и я был разочарован.
Я неожиданно спросил его:
– У госпожи де Флерель есть дети?
– Да, девочка и два мальчика. Я и везу им эти игрушки. Ее муж и она очень добры ко мне.
Поезд поднимался по сен-жерменскому откосу. Он прошел туннели, подошел к вокзалу и остановился.
Я хотел предложить свои услуги и помочь искалеченному офицеру выйти, но в это время через открытую дверь к нему протянулись две руки:
– Здравствуйте, милый Ревальер!
– A-а! Здравствуйте, Флерель.
Позади мужчины улыбалась, сияя, красивая еще женщина. Руками, затянутыми в перчатки, она делала приветственные знаки. Рядом с ней прыгала от радости маленькая девочка, а два мальчугана жадными глазами смотрели на барабан и ружье, которые отец их вынимал из вагонной сетки.
Когда калека сошел на перрон, дети бросились обнимать его. Потом все тронулись в путь, и девочка доверчиво держалась ручонкой за лакированную перекладину костыля, как держалась бы за палец своего большого друга, идя рядом с ним.
Двадцать пять франков старшей сестры
Да, он был в самом деле смешон, папаша Павильи: длинные паучьи ноги, длинные руки, маленькое туловище, остроконечная голова и на макушке «огненно-рыжий хохол.
Он был по природе шут, деревенский шут, рожденный проказничать, смешить, выкидывать шутки – шутки незамысловатые, потому что он был сын крестьянина и сам полуграмотный крестьянин. Да, господь бог создал его потешать прочих деревенских бедняков, у которых нет ни театров, ни праздников. И он потешал их на совесть. В кафе люди ставили ему выпивку, чтобы он только не уходил; и он храбро пил, смеясь, подшучивая, подтрунивая надо всеми и никого не обижая, а люди вокруг него покатывались со смеху.
Он был так забавен, что, несмотря на все его безобразие, даже девки не в силах были ему противиться, до того они хохотали. Не переставая шутить, он затаскивал девку куда-нибудь за забор, в канаву или в хлев и там принимался щекотать и тискать ее с такими смешными прибаутками, что она животики надрывала, отталкивая его. Тогда он начинал прыгать и притворяться, будто хочет повеситься; она помирала со смеху, и слезы текли у нее из глаз, а он улучал момент и валил ее наземь так ловко, что все они попадались, даже те, кто потехи ради издевался над ним.
Однажды, в конце июня, он нанялся жнецом к фермеру Ле-Ариво, около Рувиля. Три недели кряду он днем и ночью развлекал жнецов и жниц своими шутками. Днем, в поле, посреди скошенных колосьев, нахлобучив старую соломенную шляпу, скрывавшую его рыжий хохол, он длинными худыми руками подбирал и вязал в снопы желтую рожь; потом вдруг останавливался, выкидывал какое-нибудь смешное коленце, и по всему полю раздавался хохот жнецов, не спускавших с него глаз. Ночью он, словно огромное пресмыкающееся, пробирался по соломенной подстилке чердака, где спали женщины. Он давал волю рукам, кругом раздавались крики, поднимался шум. Его выгоняли, пинали деревянными башмаками, и среди взрывов хохота всего чердака он убегал на четвереньках, как фантастическая обезьяна.
В последний день уборки урожая, когда шесть лошадей в яблоках, управляемые парнем в блузе, с бантом на фуражке, медленно катили по широкой белой дороге украшенную лентами телегу со жнецами, из которой неслись звуки волынки, пение, крики веселящихся и подвыпивших людей, Павильи выплясывал посреди развалившихся на телеге женщин такой танец пьяного сатира, что сопливые мальчишки только рты разевали, а крестьяне дивились его невероятному телосложению.
Вдруг, когда телега уже подъезжала к воротам фермы Ле-Ариво, Павильи подпрыгнул, подняв руки, но прежде, чем встать на ноги, неудачно зацепился за борт длинной тележки, кувырнулся вниз, треснулся о колесо и свалился на дорогу.
Товарищи бросились к нему. Он не шевелился. Один глаз был открыт, другой закрыт, огромные руки и ноги растянулись в пыли, а сам он был мертвенно бледен от страха.
Когда дотронулись до его правой ноги, он закричал, а когда его попытались поднять, снова рухнул на землю.
– Похоже, лапу сломал, – сказал один из крестьян.