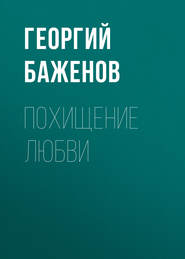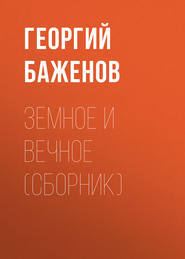По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Ловушка для Адама и Евы (сборник)
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Ловушка для Адама и Евы (сборник)
Георгий Викторович Баженов
Любовь, семья, дети – вот три кита, на которых стоит проза известного русского писателя Георгия Баженова. Нежность и страсть, верность и измены, безумство ревности и страдания от неразделенной любви – именно то, о чем рассказывает писатель в своей книге.
Георгий Баженов
Ловушка для Адама и Евы. Рассказы и новеллы
I
Мама
I
Скоробогатов нажал на кнопку звонка. Звонок работал плохо (что-то там было с контактом), дребезжал неуверенно, с перебоями. Руки не доходили починить его, а еще лучше – сменить совсем. Все некогда. Или лень. Всегда по дому столько недоделок, чего-то сломанного, требующего починки, мужской руки, что иной раз плюнешь на все – гори оно синим пламенем! – ляжешь на диван, возьмешься за газету, а там смотришь – всхрапнул. Вздрогнешь со сна, стыдно как-то и беспокойно, сытость заедает, лень, а ничего не можешь поделать с собой: яд безделья, душевной прострации давно течет по жилам. Обманываешь себя, жену, да что толку – сам-то про себя давно все знаешь…
Единственное, что по-настоящему встряхивало Скоробогатова, – командировки. После каждой из них он чувствовал себя обновленным, полным энергии, давал себе слово изменить жизнь, все ложное – отринуть и забыть, жить честно, в заботах о семье, с полной погруженностью в работу, одним словом – после командировок Скоробогатов как бы заново рождался для жизни: хотелось движения, правды, каких-то перемен, ощутимых результатов в работе. Жить хотелось!
В этот раз желание изменить жизнь было настолько горячим и нетерпеливым, что Скоробогатов вернулся из командировки на два дня раньше – поскорей засучить рукава и за дело. И вот стоял перед дверью, настойчиво звонил в квартиру.
Впрочем, не настойчиво; звонок дребезжал сам по себе, как всегда с перебоями.
«Надо наконец починить этот дурацкий звонок…»
Дверь открылась; не полностью, а так – слегка приоткрылась.
– Тсс… – приложила палец к губам жена, глядя на него так, будто они расстались не десять дней назад, а всего лишь утром. – У меня мама, – тихо, заговорщически прошептала она.
– О, черт! – вместо приветствия вырвалось у Скоробогатова. Он почувствовал, как весь его радостный, энергичный настрой рухнул, как в преисподнюю. – Ты что, не могла пригласить ее в другой раз? – зло, но тоже шепотом проговорил Скоробогатов.
– Откуда я знала, что ты вернешься сегодня? Ты же обещал послезавтра…
– Откуда… От верблюда! – Кажется, он даже ненавидел сейчас жену. А мать ее ненавидел еще больше. – В собственный дом вернуться нельзя… Дожил!
Жена смотрела на него виновато, но что можно было поделать сейчас?
«Небось, надеется – помирюсь с матерью. Черта с два!» – Скоробогатов шумно вздохнул и, ничего не сказав, обиженно сгорбившись, пошел по лестнице вниз: в руке у него был крепко зажат чемодан.
Он слышал, как щелкнул за спиной замок, и почувствовал в себе новый прилив злобы и раздражения.
Что-нибудь да всегда мешало начать новую жизнь!
Скоробогатов вышел из подъезда, постоял немного в раздумье около дома, посмотрел на освещенные окна своей квартиры: «Расселись там…»
Делать было нечего, поплелся в телефонную будку. Каждый раз, особенно в последнее время, он перебарывал себя, когда звонил Алисе Мартемьяновне. Он редко звал ее по имени, почти всегда – Алиса Мартемьяновна, она платила ему тем же, называла Скоробогатов, изредка – Скоробогатик. Да что Алиса Мартемьяновна, все женщины, включая жену, любили называть его по фамилии. Было в его тяжелой фигуре, несмотря на относительную молодость – тридцать три года, – что-то такое, что заставляло их обращаться к нему подчеркнуто вежливо и официально. Жена, правда, называла его так не без некоторой насмешки…
– Алиса Мартемьяновна? Здравствуй! Приехал, да… На вокзале стою… В гости? Даже не знаю… Впрочем… Чего-нибудь захватить? Ладно, понял.
Через полчаса Скоробогатов сидел у Алисы Мартемьяновны за столом, а через час лежал в постели. Алиса Мартемьяновна была на двенадцать лет старше Скоробогатова, роман их тянулся три года, последнее время Скоробогатов изрядно тяготился им, нервничал, чувствовал, что в нем иссякает последний родник, заставляющий иногда вздрагивать, метаться: все бросить, изменить, начать новую жизнь, отделаться от Мартемьяновны любыми путями…
Но каждый раз что-нибудь да мешало начать новую жизнь.
– Ты меня разлюбил? – Тяжелая грудь Мартемьяновны, тяжелая рука, тяжелый взгляд, – все взывало к ответу, а Скоробогатов молчал.
– Скоробогатик, я тебе надоела? – И опять этот тяжелый взгляд, а в глазах – искренняя боль, растерянность.
– Любишь же ты говорить о любви в самый неподходящий момент!
– Как это? – недоуменно спросила Алиса Мартемьяновна и чуть приподнялась на локте: – Когда же еще о любви говорить?
– Не видишь – тошно мне?
– А что такое? Почему? Что стряслось-то?
– Что, что… Сам себе надоел! Вот что!
Мартемьяновна облегченно вздохнула.
– Ах, глупый, – сказала она, – глупый ты мой, глупый… – И погладила его ласково по голове.
– Чего тут такого глупого?
– Да ты сам подумай. Умный мужчина – он всегда мучается. Он всегда недоволен собой, страдает. А это только украшает мужчину…
– Да, украсили меня мои страдания! – А про себя подумал: «Нет, в ней догадливость какая-то есть, прозорливость. И ведь добрая, главное. Не обижается никогда. Добрая…»
– Глупый на твоем месте сейчас бы радовался, пыжился: вот я какой, у меня то хорошо, это, я научный работник, у меня молодая жена, квартира, любовница, умею жить… А ты страдаешь. Ты честный в душе, Скоробогатик. Я тебя за это и люблю – что ты чистый внутри. Ты самый лучший у меня, Скоробогатик…
Он почувствовал к ней ток нежности и признательности, обнял ее, легонько притянул к себе, она ответила ему тоже нежностью, и тронулось, и потекло все сначала…
Позже Мартемьяновна то ли забылась, то ли заснула, лежала тихо, удовлетворенно и счастливо дыша, а у Скоробогатова сосало под ложечкой. Тошно ему было, ох тошно… И самое главное – ничего он не понимал и не мог понять в этой жизни, ни в себе, ни в других – ничего, ну совершенно ничего не понимал, так чтобы ясно, достойно, с выводами. Это его мучило больше всего…
Он бы и сам не мог ответить, например, как у него завязалось все с Мартемьяновной. Чепуха какая-то была, ерунда, а в результате… Три года протирает лысину на подушках доброй и сытой Мартемьяновны. И сам он такой же сытый, холеный. А ведь никогда в жизни не любил он женщин старше себя, просто не переваривал их; уж когда занимался этим, то на уме были только девочки, молодые, стройные, и чтоб обязательно в джинсах, в курточках там разных, беспечные, безголовые, но такие, Господи… Такие девочки, чтоб действительно забыться, радость получить, удовлетворение только оттого, что они рядом, похохатывают над тобой, посмеиваются, подтрунивают, но в конце-то концов деваться им некуда, он платит за все – за еду, за вино, за веселье, за роскошь чувствовать себя свободной, красивой, независимой… Он платит – они расплачиваются, и хоть мучают потом угрызения совести (ну, не всегда, не всегда), зато думаешь: эх, хоть не напрасно жизнь идет, красиво было! молодость резвилась и нежилась рядом с тобой! и ты с ней тоже нежился и резвился!
Ах, черт возьми! Девочки – это все же совсем другое, чем вот эта добрая и приветливая Алиса Мартемьяновна…
Но как же все-таки получилось? Как повернулось-то? Как это его, молодого, поймала на крючок именно Мартемьяновна? На двенадцать лет старше его?!
– Черт его знает, прямо наваждение какое-то, – вырвалось у него вслух.
– Что ты? О чем? – сквозь дремоту пробормотала Алиса Мартемьяновна. Пробормотала, обняла его покрепче: милый ты мой, залётный…
– Спи, спи… – сквозь зубы (как бы ласково, что ли) процедил он. А про себя подумал: «И не спрячешься от нее. Все слышит…»
Был у них тогда обычный загул, завелись с Серегой Петрухиным. О, Сергей Сергеич, тот ловелас большой, специалист тончайший по современным девочкам! Кажется, отмечали тогда премию – кафе, музыка, длинные сигареты в тонких девичьих пальцах, колечки летящего дыма, то пристальные, то насмешливые, то приценивающиеся взгляды. Серега знал, что делал, он ни к кому не приставал, ни с кем не заигрывал, он разговаривал только с ним, со Скоробогатовым, говорил, что такое жизнь, говорил всерьез: жизнь – это все вместе, низость и доброта, подлость и честность, и ты такой, и я, и вот она, и вон та тоже, все мы – такие… Они только разговаривали, не танцевали, не озирались по сторонам – взрослым мужчинам до лампочки все эти разнопёрые мальчики и девочки, особенно, конечно, мальчики, девочки могут и обратиться к ним, пожалуйста, не жалко, вам сигаретку? – пожалуйста! – огонька? – с превеликим удовольствием! – занято ли у нас? – нет, свободно, садитесь, располагайтесь… Они разговаривают, а девочки уже клюнули, сидят рядом, им это в диковинку, что на них совершенно не обращают внимания – простите, который час? – двадцать два ноль-ноль! – отвечает Сергеич вежливо, оторвавшись от разговора всего лишь на секунду… Потом все, конечно, становится на свои места, они вдвоем, а девочек вокруг много, шутки, прибаутки, ты присматриваешься, к тебе присматриваются; оказывается, девочки – практикантки, будущие филологини или что-то в этом роде; о, литература, великая русская литература, великая мировая литература, тут Сергеичу дай только место на трибуне, о литературе он говорить мастак, а будешь вспоминать потом, о чем шел разговор, – ни за что не вспомнишь: дымная благость слога, красивая заумь речений, несусветный трёп! Кончилось все тем, что оказались они в какой-то квартире, танцевали, веселились, целовались на брудершафт, дальнейшее провалилось для Скоробогатова во мрак…
Очнулся он за полночь; чужая комната; горит бра; в углу, за столиком, сидит женщина; извечная женская поза: склонившись над столом, что-то штопает. Скоробогатов ничего не понимал. Таращил со сна глаза. Где он? Кто эта женщина? Он пошевелился на диване. Женщина подняла к нему глаза. Улыбнулась; самое первое и самое главное – она улыбнулась ему:
– Проснулись?
Георгий Викторович Баженов
Любовь, семья, дети – вот три кита, на которых стоит проза известного русского писателя Георгия Баженова. Нежность и страсть, верность и измены, безумство ревности и страдания от неразделенной любви – именно то, о чем рассказывает писатель в своей книге.
Георгий Баженов
Ловушка для Адама и Евы. Рассказы и новеллы
I
Мама
I
Скоробогатов нажал на кнопку звонка. Звонок работал плохо (что-то там было с контактом), дребезжал неуверенно, с перебоями. Руки не доходили починить его, а еще лучше – сменить совсем. Все некогда. Или лень. Всегда по дому столько недоделок, чего-то сломанного, требующего починки, мужской руки, что иной раз плюнешь на все – гори оно синим пламенем! – ляжешь на диван, возьмешься за газету, а там смотришь – всхрапнул. Вздрогнешь со сна, стыдно как-то и беспокойно, сытость заедает, лень, а ничего не можешь поделать с собой: яд безделья, душевной прострации давно течет по жилам. Обманываешь себя, жену, да что толку – сам-то про себя давно все знаешь…
Единственное, что по-настоящему встряхивало Скоробогатова, – командировки. После каждой из них он чувствовал себя обновленным, полным энергии, давал себе слово изменить жизнь, все ложное – отринуть и забыть, жить честно, в заботах о семье, с полной погруженностью в работу, одним словом – после командировок Скоробогатов как бы заново рождался для жизни: хотелось движения, правды, каких-то перемен, ощутимых результатов в работе. Жить хотелось!
В этот раз желание изменить жизнь было настолько горячим и нетерпеливым, что Скоробогатов вернулся из командировки на два дня раньше – поскорей засучить рукава и за дело. И вот стоял перед дверью, настойчиво звонил в квартиру.
Впрочем, не настойчиво; звонок дребезжал сам по себе, как всегда с перебоями.
«Надо наконец починить этот дурацкий звонок…»
Дверь открылась; не полностью, а так – слегка приоткрылась.
– Тсс… – приложила палец к губам жена, глядя на него так, будто они расстались не десять дней назад, а всего лишь утром. – У меня мама, – тихо, заговорщически прошептала она.
– О, черт! – вместо приветствия вырвалось у Скоробогатова. Он почувствовал, как весь его радостный, энергичный настрой рухнул, как в преисподнюю. – Ты что, не могла пригласить ее в другой раз? – зло, но тоже шепотом проговорил Скоробогатов.
– Откуда я знала, что ты вернешься сегодня? Ты же обещал послезавтра…
– Откуда… От верблюда! – Кажется, он даже ненавидел сейчас жену. А мать ее ненавидел еще больше. – В собственный дом вернуться нельзя… Дожил!
Жена смотрела на него виновато, но что можно было поделать сейчас?
«Небось, надеется – помирюсь с матерью. Черта с два!» – Скоробогатов шумно вздохнул и, ничего не сказав, обиженно сгорбившись, пошел по лестнице вниз: в руке у него был крепко зажат чемодан.
Он слышал, как щелкнул за спиной замок, и почувствовал в себе новый прилив злобы и раздражения.
Что-нибудь да всегда мешало начать новую жизнь!
Скоробогатов вышел из подъезда, постоял немного в раздумье около дома, посмотрел на освещенные окна своей квартиры: «Расселись там…»
Делать было нечего, поплелся в телефонную будку. Каждый раз, особенно в последнее время, он перебарывал себя, когда звонил Алисе Мартемьяновне. Он редко звал ее по имени, почти всегда – Алиса Мартемьяновна, она платила ему тем же, называла Скоробогатов, изредка – Скоробогатик. Да что Алиса Мартемьяновна, все женщины, включая жену, любили называть его по фамилии. Было в его тяжелой фигуре, несмотря на относительную молодость – тридцать три года, – что-то такое, что заставляло их обращаться к нему подчеркнуто вежливо и официально. Жена, правда, называла его так не без некоторой насмешки…
– Алиса Мартемьяновна? Здравствуй! Приехал, да… На вокзале стою… В гости? Даже не знаю… Впрочем… Чего-нибудь захватить? Ладно, понял.
Через полчаса Скоробогатов сидел у Алисы Мартемьяновны за столом, а через час лежал в постели. Алиса Мартемьяновна была на двенадцать лет старше Скоробогатова, роман их тянулся три года, последнее время Скоробогатов изрядно тяготился им, нервничал, чувствовал, что в нем иссякает последний родник, заставляющий иногда вздрагивать, метаться: все бросить, изменить, начать новую жизнь, отделаться от Мартемьяновны любыми путями…
Но каждый раз что-нибудь да мешало начать новую жизнь.
– Ты меня разлюбил? – Тяжелая грудь Мартемьяновны, тяжелая рука, тяжелый взгляд, – все взывало к ответу, а Скоробогатов молчал.
– Скоробогатик, я тебе надоела? – И опять этот тяжелый взгляд, а в глазах – искренняя боль, растерянность.
– Любишь же ты говорить о любви в самый неподходящий момент!
– Как это? – недоуменно спросила Алиса Мартемьяновна и чуть приподнялась на локте: – Когда же еще о любви говорить?
– Не видишь – тошно мне?
– А что такое? Почему? Что стряслось-то?
– Что, что… Сам себе надоел! Вот что!
Мартемьяновна облегченно вздохнула.
– Ах, глупый, – сказала она, – глупый ты мой, глупый… – И погладила его ласково по голове.
– Чего тут такого глупого?
– Да ты сам подумай. Умный мужчина – он всегда мучается. Он всегда недоволен собой, страдает. А это только украшает мужчину…
– Да, украсили меня мои страдания! – А про себя подумал: «Нет, в ней догадливость какая-то есть, прозорливость. И ведь добрая, главное. Не обижается никогда. Добрая…»
– Глупый на твоем месте сейчас бы радовался, пыжился: вот я какой, у меня то хорошо, это, я научный работник, у меня молодая жена, квартира, любовница, умею жить… А ты страдаешь. Ты честный в душе, Скоробогатик. Я тебя за это и люблю – что ты чистый внутри. Ты самый лучший у меня, Скоробогатик…
Он почувствовал к ней ток нежности и признательности, обнял ее, легонько притянул к себе, она ответила ему тоже нежностью, и тронулось, и потекло все сначала…
Позже Мартемьяновна то ли забылась, то ли заснула, лежала тихо, удовлетворенно и счастливо дыша, а у Скоробогатова сосало под ложечкой. Тошно ему было, ох тошно… И самое главное – ничего он не понимал и не мог понять в этой жизни, ни в себе, ни в других – ничего, ну совершенно ничего не понимал, так чтобы ясно, достойно, с выводами. Это его мучило больше всего…
Он бы и сам не мог ответить, например, как у него завязалось все с Мартемьяновной. Чепуха какая-то была, ерунда, а в результате… Три года протирает лысину на подушках доброй и сытой Мартемьяновны. И сам он такой же сытый, холеный. А ведь никогда в жизни не любил он женщин старше себя, просто не переваривал их; уж когда занимался этим, то на уме были только девочки, молодые, стройные, и чтоб обязательно в джинсах, в курточках там разных, беспечные, безголовые, но такие, Господи… Такие девочки, чтоб действительно забыться, радость получить, удовлетворение только оттого, что они рядом, похохатывают над тобой, посмеиваются, подтрунивают, но в конце-то концов деваться им некуда, он платит за все – за еду, за вино, за веселье, за роскошь чувствовать себя свободной, красивой, независимой… Он платит – они расплачиваются, и хоть мучают потом угрызения совести (ну, не всегда, не всегда), зато думаешь: эх, хоть не напрасно жизнь идет, красиво было! молодость резвилась и нежилась рядом с тобой! и ты с ней тоже нежился и резвился!
Ах, черт возьми! Девочки – это все же совсем другое, чем вот эта добрая и приветливая Алиса Мартемьяновна…
Но как же все-таки получилось? Как повернулось-то? Как это его, молодого, поймала на крючок именно Мартемьяновна? На двенадцать лет старше его?!
– Черт его знает, прямо наваждение какое-то, – вырвалось у него вслух.
– Что ты? О чем? – сквозь дремоту пробормотала Алиса Мартемьяновна. Пробормотала, обняла его покрепче: милый ты мой, залётный…
– Спи, спи… – сквозь зубы (как бы ласково, что ли) процедил он. А про себя подумал: «И не спрячешься от нее. Все слышит…»
Был у них тогда обычный загул, завелись с Серегой Петрухиным. О, Сергей Сергеич, тот ловелас большой, специалист тончайший по современным девочкам! Кажется, отмечали тогда премию – кафе, музыка, длинные сигареты в тонких девичьих пальцах, колечки летящего дыма, то пристальные, то насмешливые, то приценивающиеся взгляды. Серега знал, что делал, он ни к кому не приставал, ни с кем не заигрывал, он разговаривал только с ним, со Скоробогатовым, говорил, что такое жизнь, говорил всерьез: жизнь – это все вместе, низость и доброта, подлость и честность, и ты такой, и я, и вот она, и вон та тоже, все мы – такие… Они только разговаривали, не танцевали, не озирались по сторонам – взрослым мужчинам до лампочки все эти разнопёрые мальчики и девочки, особенно, конечно, мальчики, девочки могут и обратиться к ним, пожалуйста, не жалко, вам сигаретку? – пожалуйста! – огонька? – с превеликим удовольствием! – занято ли у нас? – нет, свободно, садитесь, располагайтесь… Они разговаривают, а девочки уже клюнули, сидят рядом, им это в диковинку, что на них совершенно не обращают внимания – простите, который час? – двадцать два ноль-ноль! – отвечает Сергеич вежливо, оторвавшись от разговора всего лишь на секунду… Потом все, конечно, становится на свои места, они вдвоем, а девочек вокруг много, шутки, прибаутки, ты присматриваешься, к тебе присматриваются; оказывается, девочки – практикантки, будущие филологини или что-то в этом роде; о, литература, великая русская литература, великая мировая литература, тут Сергеичу дай только место на трибуне, о литературе он говорить мастак, а будешь вспоминать потом, о чем шел разговор, – ни за что не вспомнишь: дымная благость слога, красивая заумь речений, несусветный трёп! Кончилось все тем, что оказались они в какой-то квартире, танцевали, веселились, целовались на брудершафт, дальнейшее провалилось для Скоробогатова во мрак…
Очнулся он за полночь; чужая комната; горит бра; в углу, за столиком, сидит женщина; извечная женская поза: склонившись над столом, что-то штопает. Скоробогатов ничего не понимал. Таращил со сна глаза. Где он? Кто эта женщина? Он пошевелился на диване. Женщина подняла к нему глаза. Улыбнулась; самое первое и самое главное – она улыбнулась ему:
– Проснулись?