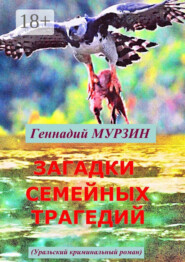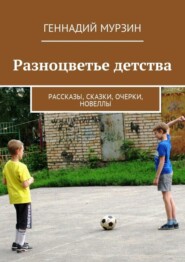По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Обжигающие вёрсты. Том 2. Роман-биография в двух томах
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Прочитал. Что могу сказать? Главное: аналитический обзор ученых расставил все точки над «I» и ответил со всей определенностью на основные спорные вопросы, возникавшие между мной и редактором. Это была моя нравственная победа в затянувшемся противостоянии. Победа полная и окончательная. Это многое объясняет, в том числе странное замалчивание того, о чем в полный голос было сказано на уровне области. Они не могли признать поражения, но в их власти оказалось предать забвению триумф не только мой, а и газеты, их газеты. Ни в чем не нуждался, а хотел лишь одного: обычного человеческого, главное, заслуженного, признания, что не зря четыре года трудился.
Запись в трудовой книжке:
«За большую работу по организации на страницах газеты „Под знаменем Ленина“ литературного конкурса под девизом „Коммунисты, вперед!“ и обсуждению письма коммунистов под рубрикой „Твоя позиция, коммунист?“ – объявлена благодарность. Редактор газеты – С. Леканов».
Что это, если не издевательство?! К тому же запись появилась лишь в последний день работы в редакции, то есть первого декабря 1978 года, спустя пять месяцев после областной научно-практической конференции. Редактор не мог скрыть радости, что ухожу-таки, и рассыпался в щедротах.
Как уходил? Своеобразно. Куда? Ну, это уже тема другой главы.
И последнее. Сравниваю двух первых секретарей – Василия Сюкосева (Шаля) и Михаила Морозова (Первоуральск). Первый действовал нахраписто и тупоголово, второй – умнее, тоньше, а потому гибче, интеллигентнее. Но результат один: там и тут партийная элита не поняла и не приняла меня. Значит? В этом что-то есть. Более глубинное, чем та пена, что на поверхности. Да, я – не ангел, но и не мерзавец… Переворачиваю еще одну страницу, длиною в четыре года, оставляя «за бортом» многое.
Глава 44. И смех и грех
Верхи – ругнули, низы – отреагировали
Ходило, кем-то сочиненное:
– В нашем крае[10 - Имеется в виду Свердловская область.] три дыры:
Шаля, Гари, Таборы.
В первой «дыре» не только был, а и работал, жил четыре года. В двух других, то есть в Гарях и Таборах, никогда не был, но много наслышан.
Например, что такое Гари? Центр одноименного района, великого по площади, но крайне мало населенного. Село расположено на северо-востоке Свердловской области и граничит с Тюменской областью. Добраться туда раньше, то есть в советское время (нынче вряд ли что-либо к лучшему изменилось), можно было только с помощью «кукурузника», то есть маленького самолета, летавшего один раз в неделю. Зимой, правда, когда лютые морозы сковывали реки и болота, со стороны Серова можно было попасть на тракторе или на лошади, запряженной в сани.
Всё то же самое можно сказать и о селе Таборы, расположенном восточнее Гарей, на берегу реки Тавда.
Одним словом, глухомань несусветная.
Помню рассказ очевидца, побывавшего в селе Гари летом 1964-го, то есть за несколько лет до того, когда страна Советов отмечала золотой юбилей. Рассказчик, работавший председателем профкома совхоза «Верхнетуринский», был откомандирован (в числе других) в Гаринский район, чтобы там организовать (подчеркиваю: впервые организовать) советские профсоюзы. Вот фрагмент рассказа:
– Никогда бы не подумал, что в области есть такие места, где советской властью и не пахнет. Будто бы, есть колхозы, но их найти можно лишь в пожелтевших от времени бумагах. Фактически, население ведет натуральное хозяйство. Колхозы ничего не производят, хотя дотации от государства получают. Можно проехать по бездорожью десятки километров и не встретить ни одной живой души. В самом райцентре (на одном из крестьянских домов дореволюционной постройки) висят древние две таблички, извещающие о том, что здесь размещаются власти – райком ВКП (б)[11 - Представьте себе, сколько десятилетий не меняли вывесок, если в стране партия давным-давно называется не ВКП (б), а КПСС.] и райисполком. На дверях – огромный ржавый амбарный замок. Высокое крыльцо покрылось мхом: по толстому слою пыли видно, что на него давно не ступала нога человека. Над коньком дома – флагшток, на котором болтается белый огрызок ткани. Мы так поняли, что это когда-то называлось красным государственным флагом. Мы нашли секретаря райкома и председателя райисполкома, якобы, когда-то и кем-то избранных, дома, лежавших на скамьях вдрызг пьяными. Они – местная элита, поэтому могут себе позволить вообще не работать и не заглядывать в служебные кабинеты. А зарплата? Регулярно получают. Приходят в местное почтовое отделение, где всего один работник, заполняют поступивший денежный перевод из области. В так называемых колхозах о профсоюзах ничего не знали, поэтому профсоюзные организации пришлось формировать с нуля. Не уверен, что после нашего отъезда там советские профсоюзы будут функционировать.
От себя добавлю: не уверен, что там и сейчас что-либо изменилось; скорее всего, люди не знают, что в России власть опять переменилась. Счастливые люди, если их не касаются никакие перемены.
Зачем вспомнил про это захолустье? Затем, чтобы читатель себе представил ту жизнь.
В Гаринском районе, как и везде, выходила районная газета, имевшая звучное название, – «Советский север». Были ли у нее подписчики? Не уверен.
Знаю только, что печатали газету в Серове тиражом в тысячу экземпляров. Однако редакция имела полноценный штат журналистов – от редактора и до корректора, то есть как и всякая другая районная газета.
Видел номера газеты «Советский север» и скажу одно: это что-то ужасное. Впрочем, можете судить об этом сами.
…В областном доме политпросвещения проходит инструктивное совещание редакторов городских и районных газет Свердловской области. Сначала – обком КПСС ставит задачи, потом – обзор газет, анализ достоинств и недостатков. Обозреватель ни словом не обмолвился о газете «Советский север». Однако этот недостаток обзора восполнил Виктор Дворянов. Он сказал:
– На четвертой полосе газеты «Советский север» недавно появился сатирический уголок. Похвально, что журналисты идут в ногу со временем и вспомнили, что в журналистике бывает и юмор. Но, – Виктор Дворянов обращается к залу, – знаете, какое название придумали? – вопрос повис в воздухе, потому что, кроме самого редактора, который, скорее всего, присутствовал на совещании, мало кто вообще видел это печатное издание. Дворянов сделал паузу, и сам ответил на свой вопрос. – «Колотушкой по макушке», – зал разразился хохотом. Когда наступила относительная тишина, Дворянов вполне серьезно заметил. – Товарищи журналисты из «Советского севера», все-таки думать надо, думать.
Редактор газеты «Советский север» партийную критику воспринял правильно, то есть конструктивно. Подумал и…
…Прошло полгода. Вновь инструктивное совещание. В зале – прежняя аудитория. В самом конце совещания Виктор Дворянов возвращается к газете «Советский север».
– Прошлый раз, – говорит он, – я покритиковал редакцию за неудачное название уголка сатиры и юмора. Напомню: раздел назвали «Колотушкой по макушке». Коллектив редакции, видимо, долго ломал голову над тем, какое новое название дать сатирическому уголку. И придумал! Знаете, как сейчас называется? Ни за что не догадаетесь. Назывался раньше «Колотушкой по макушке», а теперь – «Шайкой по кумполу».
Смеялся зал сильнее прежнего. Коллеги смеялись над собой. Потому что уровень журналистики и в некоторых других газетах был ничуть не выше, чем в «Советском севере».
Столь желанный БАМ
А вот это уж совсем не смешно…
…Как-то раз, когда находился в одном из основных цехов Первоуральского новотрубного завода, встречаясь с одним из рабочих, между нами состоялся такой диалог.
– Трусливы, до чего ж трусливы наши журналисты, – вдруг сказал, мне показалось, совсем не к месту рабочий.
Эти слова меня задели за живое, и потому не преминул в ответ обидчиво съязвить:
– «Ваши» журналисты – да, трусливы, но «наши» – нет.
– А, – рабочий махнул в сторону рукой, – все вы… Критикуете кого? Работягу. Начальство же не трогаете, обходите, боясь обжечься, стороной.
Само собой, пуще прежнего обиделся. Не считал, что в первоуральской городской газете «Под знаменем Ленина» мало критики в адрес начальства. Наоборот, считал эту газету смелой. На фоне, понятно, других изданий в области, в которых (тут собеседник прав) даже не на всякого рабочего могли замахнуться.
Попытался возразить:
– В нашей…
Рабочий прервал вопросом:
– В «Подзнамёнке»[12 - Так, сокращая длинное имя, именовали первоуральцы свою газету.], что ли?
– В ней.
– Да бросьте вы!
– И «бросать» нечего… Месяц назад, допустим, статья «В своём пиру похмелье»…[13 - История этой скандальной статьи рассказана в предыдущей главе.]
Рабочий закивал головой.
– Да-да, читал… Лихо автор прошелся по руководству завода сантехизделий… Приятное, но все-таки исключение, а не правило. А могла бы газета так же хорошо проехаться по Федьке[14 - Иногда подобным образом заводчане называли своего директора Фёдора Данилова, пришедшего на завод разнорабочим и доросшего до главного поста.] нашему или по тому же главному инженеру?
Отрицательно мотнул головой.
– Нет, не могла.
– Вот! – рабочий гордо взглянул мне в глаза. – А я о чем?
Действительно, фигура Фёдора Данилова негласно числилась в списке неприкасаемых, как, впрочем, и его заместитель, то есть главный инженер[15 - Фамилию не помню. То ли Трухин, то ли Трошин…].
Первого никто не смел коснуться (даже журналисты областных и центральных газет), потому что дал путевку в большую жизнь, будучи наставником, не кому-нибудь, а самому первому заместителю Председателя Совета Министров СССР Николаю Тихонову[16 - Через год Николай Тихонов возглавит союзное правительство. Это произойдет, когда уйдет из жизни Алексей Косыгин.], с которым до сих пор поддерживает дружеские отношения. На второго ни один не отважится «задрать хвост», потому что тот ходит в очень близких приятелях первого секретаря Свердловского обкома КПСС Якова Рябова (по слухам, сошлись близко, когда учились в УПИ; их объединяли две страсти – спорт и девчонки; им они отдавались с одинаковым желанием, щедро делясь своим свободным временем).