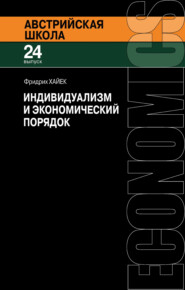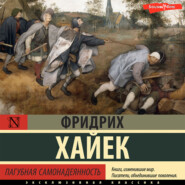По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Конституция свободы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Сто лет назад эту разницу понимали лучше, чем сегодня. В год европейских революций, в которых слились обе традиции, видный немецко-американский политический философ все еще мог четко описать отличие «англиканского» понимания свободы от «галликанского». «Галликанская свобода, – писал в 1848 году Франц Либер, – ищется в форме правления и, согласно англиканской точке зрения, она тем самым ищется не там, где ее можно найти. Необходимым следствием галликанского понимания является то, что французы ищут высшую степень политической цивилизации в организации, то есть в максимальной степени вмешательства публичной власти. Вопрос о том, представляет ли собой это вмешательство деспотизм или свободу, решается исключительно в соответствии с тем, кто вмешивается и в интересах какого класса, тогда как, согласно англиканской точке зрения, такое вмешательство всегда будет либо абсолютизмом, либо аристократией, и нынешняя диктатура oumiers [наемных работников (фр.)] воспринималась бы нами как бескомпромиссная аристократия oumiers»[93 - Работа Франца Либера «Англиканская и галликанская свобода» первоначально была опубликована в газете в штате Южная Каролина в 1849 году, а позднее вошла в сборник: Lieber F. Anglican and Gallican Liberty // The Miscellaneous Writings of Francis Lieber. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1881. Vol. 2. P. 382-383. См. также с. 385: «Тот факт, что галликанская свобода всего ждет от организации, тогда как англиканская склоняется к развитию, объясняет, почему во Франции мы находим столь мало совершенствования и развития институтов; и в то же время при попытке усовершенствования следует полная отмена предыдущего порядка вещей, и все начинается ab ovo – с нового обсуждения первых элементарных принципов». См. также: E?to?s J Der Einflu? der herrschenden Ideen der 19. Jahrhunderts auf den Staat. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1854 (особенно т. 1, с. 38); Mill J. Considerations on Representative Government. London: Parker, Son, and Bourn, 1861. P. 82-84.].
О тех пор как это было написано, французская традиция шаг за шагом повсеместно вытеснила английскую[94 - Одно из объяснений того, почему французские представления о свободе были столь привлекательными, предложил Фридрих Науманн в уже цитировавшемся выше трактате «Идеал свободы». Он писал: «Die L?nder, wo der Sieg der Freiheit das hei?t in diesem Falle der gleichen Rechte (!) am vollkommensten ist, sind vom Standpunkt liberaler Romantik die langweiligsten, den in ihnen gibt es keine Freiheitsk?mpfer mehr, h?chstens noch einen gewissen pharis?ischen Stolz denen gegen?ber, die noch nicht so weit sind, und ein gewisses erhabenes Mitleid f?r die Opfer zur?ckgebliebener Zust?nde. So etwa erscheint bisweilen der englische Liberalismus» [«Страны, в которых свобода (то есть равенство в правах) достигла наиболее полной победы, с точки зрения либерального романтизма являются самыми скучными, поскольку там больше нет никаких борцов за свободу, а то, что там осталось, представляет собой по большей части род фарисейской гордыни по отношению к странам, которые не продвинулись так далеко, и что-то вроде чувства жалости к народам, находящимся в столь отсталом состоянии. Именно таким в общих чертах выглядит английский либерализм»] (Naumann F. Das Ideal der Freiheit. P. 16-17).Одним из самых удивительных эпизодов Первой мировой войны был спор поверх линии фронта между французскими и немецкими интеллектуалами о том, какая их этих стран раскрыла секрет социальной организации. См.: Labadiе J. L’Allemagne: A-t-elle le secret de l’organisation? Paris: Biblioth?que de l’Opinion, 1916. Для англичанина было бы затруднительно выдвинуть такие претензии от имени своей страны. В этом контексте стоит вспомнить о дискуссии по поводу роли «организации» в наполеоновскую эпоху.]. Чтобы разделить эти две традиции, необходимо о братиться к их относительно чистым формам, в которых они появились в XVIII веке. То, что мы называем «британской традицией», было подробно разработано группой шотландских моральных философов во главе с Давидом Юмом, Адамом Смитом и Адамом Фергюсоном[95 - Хорошее изложение философии роста, ставшей интеллектуальным основанием политики свободы, еще не написано, и я не делаю здесь такой попытки. Более полное описание шотландско-английской школы и ее отличий от французской рационалистической традиции см.: Forbes D. Scientific Whiggism: Adam Smith and John Millar // Cambridge Journal. 1954. Vol. 7. P. 643-670, а также в моей лекции «Индивидуализм: истинный и ложный»(Науек F.A. Individualism, True and False. Dublin: Hodges Figgis, 1946; reprinted in: Idem. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, 1948. P. 1-32 [Хайек Ф.А. Индивидуализм: истинный и ложный // Он же. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000. С. 18-43]). В последней, в частности, отмечена роль, которую сыграл в этой традиции Бернард Мандевиль, о чем я здесь не упоминаю. Дополнительные ссылки можно найти в более ранней версии этой статьи: Науек F.A. Freedom, Reason, and Tradition // Ethics. 1958. Vol. 68. P. 229-245.], за которыми последовали их английские современники Джозайя Такер, Эдмунд Бёрк и Уильям Пейли, и представляло собой развитие традиции, коренившейся в теории общего права[96 - Прежде всего см. работу сэра Мэтью Хейла, опубликованную как приложение к труду Уильяма Холдсворта: Sir Mathew Hale’s Criticism on Hobbes Dialogs on the Common Law // Holdsworth W.S. A History of English Law. London: Methuen, 1924. Vol. 5. P. 504-505.]. Им противостояла традиция французского Просвещения, глубоко пропитанная картезианским рационализмом. Ее наиболее известные представители – энциклопедисты и Руссо, физиократы и Кондорсе. Разумеется, линия раздела не вполне совпадала с национальными границами. Такие французы, как Монтескье, Бенжамен Констан и в первую очередь Алексис де Токвиль, вероятно, располагаются ближе к тому, что мы называем «британской» традицией, чем к «французской»[97 - Соотечественники нередко считали Монтескье, Констана и Токвиля англоманами. Констан учился в Шотландии, а Токвиль мог сказать о себе: «Столь многие мои чувства и мысли разделяются англичанами, что Англия стала для моего разума второй родиной» (Tocqueville A. de. Journeys to England and Ireland / Ed. and trans. by J.P. Mayer. New Haven: Yale University Press, 1958. P. 13). Более полный перечень французских мыслителей, принадлежащих скорее к эволюционной «британской», чем к рационалистической «французской» традиции должен включать молодого Тюрго и де Кондильяка.]. А Британия дала миру по крайней мере одного из основателей рационалистической традиции – Томаса Гоббса – не говоря уж о целом поколении энтузиастов французской революции, таких как Годвин, Пристли, Прайс и Пейн, которые (подобно Джефферсону после его пребывания во Франции[98 - О том, как в результате длительного пребывания во Франции Джефферсон перешел от «британской» традиции к «французской», см. важную работу: Vossler О. Die amerikanischen Revolutionsideale in ihrem Yerhaltnis zn den europaischen: untersucht an Thomas Jefferson. Munich: Oldenbonrg, 1929.]) принадлежали исключительно ей.
2. Хотя сегодня об этих двух группах обычно говорят как об одном целом – как о предшественниках современного либерализма, вряд ли можно вообразить больший контраст, чем между их представлениями об эволюции и функционировании социального порядка и о той роли, которую в нем играет свобода. Это отличие напрямую восходит к преобладанию эмпирицистского в основе своей представления о мире в Англии и рационалистического во Франции. Главная разница в практических выводах, вытекающих из этих подходов, недавно была удачно сформулирована следующим образом: «Один усматривает сущность свободы в спонтанности и отсутствии принуждения, другой же считает, что свобода может быть реализована только в поиске и достижении абсолютной коллективной цели»[99 - Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. London: Seeker and Warburg, 1952. P. 2.]; кроме того, «один выступает за органичный, медленный, полуосознанный рост, а другой – за доктринерскую продуманность; один привержен процедуре проб и ошибок, а другой – проведению в жизнь единственно верной модели»[100 - Ibid. Р. 71. См. также: Mumforc L L. Faith for Living. New York: Harconrt, Brace and Co., 1940. P. 64-66, где противопоставлены «либерализм идеала» и «прагматичный либерализм», а также: Collier D. S., McGovern W.M. Radicals and Conservatives. Chicago: H. Regnery Co., 1958. P. 9-20, где проводится различие между «консервативными либералами» и «радикальными либералами». См. также высказывание Менгера об «одностороннем рационалистическом либерализме» (einseitigen rationalistischen Liberalismus), в котором он ошибочно обвинял Адама Смита (Мепдег: Untersuchungen. Р. 207 [Менгер. Избранные работы. С. 433]).]. Как показал Д.Л. Тальмон, из важной книги которого взяты эти формулировки, именно второй подход стал источником тоталитарной демократии.
Широкий успех политических доктрин, возникших в русле французской традиции, вероятно, объясняется тем, что они привлекательны для человеческой гордыни и тщеславия. Но мы не должны забывать, что политические выводы двух школ вытекают из разных представлений о том, как функционирует общество. В этом отношении британские философы заложили основу глубокой и по сути своей верной теории, тогда как рационалистическая школа была просто-напросто полностью ошибочной.
Эти британские философы дали нам интерпретацию роста цивилизации, до сих пор остающуюся обязательным основанием аргументации в пользу свободы. Они считали, что институты возникают не из чьих-либо планов или замыслов, а благодаря выживанию преуспевающих. Их взгляд выражен формулой: «Целые нации спотыкаются о те установления, которые представляют собой несомненно человеческое деяние, хотя и непреднамеренное»[101 - Ferguson A. An Essay on the History of Civil Society. P. 187 [Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. M.: РОССПЭН, 2000. С. 188].]. Здесь подчеркивается, что то, что мы называем политическим строем, в гораздо меньшей мере является плодом нашего упорядочивающего интеллекта, чем это принято думать. Адаму Смиту и его современникам, как отмечали их непосредственные преемники, удалось «свести почти все, что ранее приписывалось позитивным институтам, к спонтанному и неудержимому развитию определенных очевидных принципов – и показать, сколь мало нужно было изобретательности и политической мудрости для того, чтобы смогли возникнуть самые сложные и, на первый взгляд, искусственные системы политики»[102 - [Jeffrey F.] Craig’s Life of Millar // Edinburgh Review. 1807. Vol. 9. P. 84. Гораздо позже Фредерик У. Мейтленд высказал в каком-то из своих текстов сходную мысль о том, что «действуя эмпирическим образом, блуждая наугад, мы наталкиваемся на мудрость» (Maitland F. W. Outlines of English Legal History, 560–1600 // The Collected Papers of Frederic William Maitland / Ed. by H.A.L. Fisher. Cambridge University Press, 1911. Vol. 2. P. 439).].
Это «антирационалистическое понимание исторических событий, общее для Адама Смита, Юма, Адама Фергюсона и других»[103 - Forbes D. Scientific Whiggism: Adam Smith and John Millar // Cambridge Journal. 1954. Vol. 7. P. 645. Роль шотландских моральных философов как предшественников культурной антропологии была великодушно признана в работе: Evans-Pritchard Е.Е. Social Anthropology. London: Cohen and West, 1951. P. 23-25.] позволило им первыми постичь, каким образом институты и нравы, язык и право формировались в процессе кумулятивного роста и что только таким образом развился и смог успешно действовать человеческий разум. Их аргументация всецело направлена против картезианской концепции изначально и независимо существующего человеческого разума, который изобрел эти институты, и против концепции, согласно которой гражданское общество было сформировано неким мудрым законодателем, или первоначальным «общественным договором»[104 - Мизес пишет в связи с идеей общественного договора: «Рационализм не мог найти никакого другого объяснения после отказа от прежней веры, которая возводила общественные установления к божественным источникам или по крайней мере к озарению, посещавшему человека по божественному вдохновению. Поскольку результатом стало существующее положение вещей, люди рассматривали развитие общественной жизни как совершенно целесообразное и разумное. Как бы еще могло совершиться все это развитие, если не посредством сознательного выбора, признаваемого целесообразным и разумным?» (Mises L. von. Socialism / New ed. New Haven: Yale University Press, 1951. P. 43 [Мизес Л. фон. Социализм. M.: Catallaxy, 1994. С. 33]).]. Эта последняя идея о разумных людях, сошедшихся для обсуждения того, как пересоздать мир заново, пожалуй, самый характерный продукт этих теорий замысла (design theories). Она нашла свое совершеннейшее выражение, когда ведущий теоретик французской революции аббат Оийес призвал революционную ассамблею «действовать как люди, только что вышедшие из природного состояния и собравшиеся с целью подписать общественный договор»[105 - Цит. по: Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. London: Seeker and Warburg, 1952. P. 73.].
Древние лучше понимали условия свободы. Цицерон цитирует Катона, сказавшего, что римская конституция превосходит конституции других государств, потому что «создана умом не одного, а многих людей и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков и на протяжении жизни нескольких поколений. Ибо, говорил Катон, никогда не было такого одаренного человека, от которого ничто не могло бы ускользнуть, и все дарования, сосредоточенные в одном человеке, не могли бы в одно и то же время проявиться в такой предусмотрительности, чтобы он мог обнять все стороны дела, не обладая долговременным опытом»[106 - Цицерон. О государстве. II.1.2 [перевод В.О. Горенштейна]; см. также: 11.21.37 [«Вот и подтверждаются слова Катона, говорившего, что государство создается не сразу и не одним человеком. Ибо мы видим, как много благодетельных и полезных установлений прибавил каждый из царей»]. Я обратил внимание на этот источник благодаря лекциям профессора Бруно Леони, ныне опубликованным в виде книги: Leoni В. Freedom and the Law. Princeton, NJ: D. van Nostrand, 1961. P. 89 [Леони Б. Свобода и закон. М.: ИРИСЭН, 2008. С. 107-108]. Нераций, позднейший римский юрист, цитируемый в «Corpus inris civilis», доходит даже до того, что призывает юристов: «Rationes eorum quae constituuntur inquiri non oportet, alioquin multa ex his quae certa sunt subvertuntur» [«Мы должны воздерживаться от исследований разумных причин существования наших установлений, иначе многое, что считается несомненным, будет ниспровергнуто»] (Scott 8.Р. The Civil Law. Cincinnati: Central Trust Co., 1932. Vol. 2. P. 224. [Оригинал: Нераций. Пергаменты. Кн. VI. – Ред.]). Хотя в этом отношении греки были несколько более рационалистичны, нельзя сказать, что у них отсутствовала сходная концепция роста права. См., например, речь афинского оратора, где он говорит о законах, имеющих то «отличие, что они самые старые в этой стране… и это самый надежный признак хороших законов, потому что время и опыт показывают людям, что является несовершенным» (Antiphon. On the Choreutes. Par. 2 // Minor Attic Orators / Ed. by K.J. Maidment. Cambridge. MA: Harvard University Press, 1941. Vol. I. P. 247).]. Таким образом, ни республиканский Рим, ни Афины – две свободных страны древнего мира – не могут служить моделью для рационалистов. Для Декарта, родоначальника рационалистической традиции, образцом была Спарта, потому что она была великой «не оттого, что законы ее были хороши каждый в отдельности… но потому, что все они, будучи составлены одним человеком, направлялись к одной цели»[107 - Descartes R. A Discourse on Method / Ed. by Everyman. London: Dent, 1912. Pt. 2. P. 11 [Декарт P. Сочинения: В 2 т. M.: Мысль, 1989. T. 1. С. 257].]. Именно Спарта стала идеалом свободы для Руссо, как и для Робеспьера и Сен-Жюста, а равно и для большинства позднейших сторонников «социальной», или тоталитарной демократии[108 - Ср.: Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. London: Seeker and Warburg, 1952. P. 142. О влиянии спартанского образца на греческую философию и особенно на Платона и Аристотеля см.: Ollier Р. Le Mirage spartiate: Etude sur l’idealisation de Sparte dans l’antiquite grecque, de l’origine, jusqu’aux Cyniques. Paris: E. de Boccard, 1933; Popper K.R. The Open Society and Its Enemies. London: G. Routledge and Co., 1945 [Поппер K.P. Открытое общество и его враги. В 2 т. M.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992].].
Как и в древности, современные британские концепции свободы сформировались на фоне понимания того, как возникали институты, – и первыми это поняли юристы. «Есть много вещей, особенно в законах и в управлении, – писал в XVII веке, критикуя Гоббса, верховный судья Хейл, – которые по опосредствованным, отдаленным и косвенным основаниям заслуживают того, чтобы быть одобренными, хотя разум заинтересованной стороны в данный момент этого не усматривает с непосредственностью и определенностью. <…> Длительный опыт совершает больше открытий в отношении достоинств или недостатков законов, чем мог бы заранее предвидеть совет мудрейших мужей. И эти поправки и дополнения, которые благодаря разнообразному опыту мудрых и знающих людей были внесены в каждый закон, неизбежно делают законы более пригодными к применению, чем лучшие ухищрения самых изобретательных и острых умов, не располагающих подобным длительным опытом. <…> Из-за этого труднее понимать основания законов в настоящем, потому что они – порождение долгого и повторяющегося опыта, который, хотя обычно и именуется „умом глупцов“, но определенно оказывается самым благоразумным подручным средством человеческого рода и выявляет те недостатки и необходимые дополнения, которые никакое хитроумие не сможет сразу предвидеть или предложить. <…> Не обязательно, чтобы нам были открыты причины и основания институтов. Достаточно того, что это установленные законы, которые дают нам определенность, и их разумно соблюдать, хотя нам не известна конкретная причина, по которой они появились»[109 - Sir Mathew Hale’s Criticism on Hobbes Dialogs on the Common Law // Holdsworth W.S. A History of English Law. London, 1924. Vol. 5. P. 504-505. Холдсворт верно отмечает сходство некоторых из приводимых здесь аргументов с аргументами Эдмунда Бёрка. В конечном счете они, разумеется, представляют собой попытку развить идеи сэра Эдварда Кука (которого критиковал Гоббс), особенно его знаменитую концепцию «искусственного разума», которую он объясняет следующим образом: «Дни нашей жизни на земле – всего лишь тень в сравнении с прошедшим с древности временем, когда мудростью наилучших мужей, действовавших на протяжении многих поколений, на основании долгого и повторяющегося опыта (испытания на истину и правду) законы вновь и вновь совершенствовались, чего не мог бы достичь или совершить ни один человек любого поколения (живущий столь мало), обладай он даже мудростью всех людей мира» (Соке Е. Seventh Report / Ed. by I.H. Thomas, I.F. Fraser. London: J. Bntterworth and Son, 1826. Vol. 4. Pt. 7. P. 6). См. также пословицу юристов: «Per varios nsns experientia legem fecit» [«Через различное применение опыт становится законом»]. См.: Рососк J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law. New York: Cambridge University Press, 1957, а также: «Подобно тому как о всяком искусстве или науке, достигших совершенства, говорят „Per varios usus artem experiential fecit“, так и о нашем праве можно с полным правом сказать „Per varios usus Legem experiential fecit“. Долгий опыт и многочисленные попытки выявления того, что наилучшим образом служит общему благу, создали систему общего права» (Davies J. Les Reports des Cases en Lay. London, 1612 [это издание обычно цитируется как Irish Reports]. Предисловие).].
3. Из этих представлений постепенно возникла социальная теория, которая показала, каким образом в отношениях между людьми могут возникнуть сложные, упорядоченные и, в определенном смысле, весьма целенаправленные институты, которые почти никак не связаны с чьим-либо замыслом, не были никем изобретены, но возникли в результате отдельных действий множества людей, не знавших, что именно они делают. Нечто, превышающее возможности отдельного человеческого ума, может вырасти из осуществляемых наугад людских усилий – демонстрация этого представляла собой в некоторых отношениях больший вызов всем теориям замысла, чем даже возникшая впоследствии теория биологической эволюции. Впервые было показано, что наблюдаемый порядок, не являющийся плодом планирующего человеческого разума, не обязательно приписывать замыслу более высокого сверхъестественного разума, поскольку существует и третья возможность – возникновение порядка в результате эволюционной адаптации[110 - Обстоятельное исследование этих проблем, начиная с парадокса Бернарда Мандевиля и заканчивая первой аргументированной формулировкой в «Диалогах о естественной религии» Давида Юма, еще только предстоит осуществить (см.: Hume. Treatise of Human Nature. Vol. 2. P. 380-468 [Юм. Трактат о человеческой природе. С. 379-482]). Лучшим из известных мне обсуждений характера этого процесса социального развития до сих пор остается: Мепдег. Untersnchungen. Bk. 3 и Appendix 8, особенно с. 163-165, 203-204 прим., 208 [Мепгер. Избранные работы; книга третья «Органическое понимание социальных явлений», особенно с. 414-219, и приложение VIII «„Органическое“ происхождение права и точное уразумение его», особенно с. 479-482, 489]. См. также обсуждение «принципа, сформулированного Фрэйзером (Frazer J.G. Psyche’s Task. London: Macmillan, 1909. P. 4) и поддержанного Малиновским и другими антропологами, согласно которому любой институт сохраняется только до тех пор, пока он выполняет какую-либо полезную функцию» (Macbeath A. Experiments in Living: A Study of the Nature and Foundation of Ethics or Morals in the Light of Recent Work in Social Anthropology. London: Macmillan, 1952. P. 120, 120n), и добавленное в сноске замечание: «Но функция, которой он служит в данное время, может быть совсем не той, для которой он был создан изначально»; и следующее место, в котором лорд Актон обозначает, как он продолжил бы свои краткие очерки, посвященные свободе в Античности и христианстве: «Я должен был бы… рассказать, кем и в какой связи был обнаружен истинный закон формирования свободных государств и как это открытие, тесно родственное тем, которые под именами развития, эволюции и непрерывности дали новый и более глубокий метод другим наукам, разрешило древнее противоречие между потребностью в стабильности и необходимостью перемен и выявило авторитет традиции в процессе развития мысли; как [возникла] теория, которую сэр Джеймс Макинтош выразил словами: „конституции не делаются – они вырастают“; теория, согласно которой законы творятся обычаем и национальными качествами управляемых, а не волей правительства» (Acton. History of Freedom. P. 58 [Актон. Очерки становления свободы. С. 99-100]).].
Поскольку тот акцент, который мы сегодня делаем на роли отбора в социальной эволюции, по-видимому, создает впечатление, что мы позаимствовали эту идею из биологии, на самом деле – и это надо подчеркнуть – дело обстоит как раз наоборот: несомненно, Дарвин и его современники почерпнули эту идею именно из теорий социальной эволюции[111 - Я говорю здесь не о признанном факте использования Дарвином теории народонаселения Мальтуса (а через него и Кантильона), а об общей атмосфере эволюционной философии, определявшей способы мышления на общественные темы в XIX веке. Хотя это влияние не прошло незамеченным (см., например: Osborn H.F. From the Greeks to Darwin:An Outline of the Development of the Evolution Idea. New York: McMillan and Co., 1894. P. 87), оно не было систематически исследовано. Я убежден, что такое исследование показало бы, что большая часть использованного Дарвином понятийного аппарата была разработана до него. Одним из тех, через кого Дарвин мог познакомиться с шотландской эволюционной традицией, был, возможно, шотландский геолог Джеймс Хаттон.]. Более того, один из тех шотландских философов, которые первыми приступили к развитию этих идей, опередил Дарвина даже в области биологии[112 - См.: Lovejoy А.О. Monboddo and Rousseau [1983] // Modern Philology. 1933. Vol. 30. P. 275-296; переиздано: Idem. Essays in the History of Ideas. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1948. P. 38-61.]; а последующее использование этих концепций различными «историческими школами» в области права и языка сделало идею, согласно которой сходство структуры может объясняться общностью происхождения[113 - Пожалуй, показательно то, что в области лингвистики это первым ясно увидел сэр Уильям Джонс, который был юристом по образованию и вигом по убеждениям, причем влиятельным представителем этого направления. Ср. с его знаменитым высказыванием в «Третьем ежегодном докладе», опубликованном 2 февраля 1786 года: «Язык санскрит при всей его древности имеет поразительную структуру; он совершеннее греческого, богаче латыни, отличается более совершенным изяществом и при этом его близость к ним – как по корням слов, так и по грамматическими формам – больше, чем можно было бы объяснить чистой случайностью; эта близость настолько велика, что ни один филолог, изучивший все три языка, не может не поверить, что они возникли из некоего общего источника, возможно, более не существующего» (Jones W. Third Anniversary Discourse // Asiatic Researches. 1786. Vol. I. P. 422; переиздано: Idem. Works. London: Printed for John Stockdale, Piccadilly, and John Walker, Paternoster Row, 1807. Vol. 3. P. 34). Взаимосвязь между размышлениями о языке и о политических институтах наилучшим образом выражена в одной из самых полных, хотя и довольно поздних формулировок доктрины вигов, сделанной в лекциях Дугальда Стюарта: Stewart D. Lectures on Political Economy [1809-1810] // The Collected Works of Dugald Stewart. Edinburgh, 1856. Vol. 9. P. 422-424. Большие выдержки из этой работы были процитированы в примечании к предыдущему варианту этой главы (Ethics. 1958. Vol. 68). Это обстоятельство имеет особую важность в силу влияния Стюарта на последнюю группу вигов – кружок, издававший Edinburgh Review. Случайно ли то, что величайший из философов свободы в Германии, Вильгельм фон Гумбольдт, также был одним из величайших исследователей теории языка в этой стране?], общим местом в исследовании общественных явлений задолго до того, как она нашла свое применение в биологии. Печально, что впоследствии социальные науки вместо того, чтобы развивать собственные начала, в свою очередь позаимствовали некоторые из этих идей у биологии, и в них проникли и такие концепции, как «естественный отбор», «борьба за существование» и «выживание самых приспособленных», которые неприменимы в их собственной сфере, поскольку в области социальной эволюции решающий фактор не отбор физических и наследуемых свойств особей, а действующий через подражание отбор успешных институтов и привычек. Хотя этот отбор тоже действует через успешность индивидов и групп, но в итоге возникают не наследуемые признаки индивидов, а идеи и навыки – короче говоря, все культурное наследие, которое передается посредством обучения и подражания.
4. Для детального сопоставления двух традиций потребовалась бы отдельная книга, мы же ограничимся здесь только рядом критически важных различий.
В то время как рационалистическая традиция предполагает, что человек изначально наделен интеллектуальными и моральными достоинствами, позволяющими ему целенаправленно создавать цивилизацию, эволюционисты ясно показали, что цивилизация – результат накопленных проб и ошибок, которые дались нам нелегко, что она представляет собой сумму опыта, отчасти передававшегося от поколения к поколению в виде явного знания, но в гораздо большей степени воплощенного в инструментах и институтах, доказавших свое превосходство, – в институтах, значение которых может быть обнаружено с помощью анализа, но которые служат целям людей и без того, чтобы сами люди их понимали. Шотландские теоретики отлично осознавали хрупкость этой искусственной структуры цивилизации, которая зиждится на том, что примитивные и дикие инстинкты человека сдерживаются и укрощаются институтами, которых он не создавал и которые не может контролировать. Они были очень далеки от наивных представлений, которые позднее были несправедливо приписаны их либерализму, таких как «природная доброта человека», существование «естественной гармонии интересов» или благотворные последствия «естественной свободы» (хотя последнее выражение они порой использовали). Они знали, что для разрешения конфликта интересов необходимы далекие от естественности институты и традиции. Проблема, которую они перед собой ставили, состояла в том, чтобы понять, каким образом «универсальная движущая сила человеческой природы, себялюбие, может получить в этом случае (как и во всех других) такое направление, чтобы те усилия, которые предпринимаются для достижения собственных целей, служили бы общественному интересу»[114 - Tucker J. The Elements of Commerce [1755] ft Idem. A Selection from his Economic and Political Writings / Ed. by R.L. Schuyler. New York: Columbus University Press, 1931. P. 92.]. Благотворными эти индивидуальные усилия делала не «естественная свобода» в буквальном смысле, а институты, развившиеся для защиты «жизни, свободы и собственности»[115 - To, что благотворность работы экономической системы, в частности для Адама Смита, определяется не буквально понимаемой «естественной свободой», а свободой в рамках закона, ясно выражено в его книге «Исследование о природе и причинах богатства народов»: «Та уверенность, которую законы Великобритании дают каждому человеку в том, что он сможет пользоваться плодами своего труда, сама по себе уже является достаточной для процветания любой страны, несмотря на те или другие нелепые правила о торговле; и эта уверенность была упрочена революцией как раз около того времени, когда была установлена премия. Естественное стремление каждого человека улучшить свое положение, если ему обеспечена возможность свободно и беспрепятственно проявлять себя (security), представляет собой столь могущественное начало, что одно оно не только способно без всякого содействия со стороны довести общество до богатства и процветания, но и преодолеть сотни досадных препятствий, которыми безумие человеческих законов так часто затрудняет его деятельность» (Smith. Wealth of Nations. Bk. 4. Ch. 5. Vol. 2. P. 42-43 [Смит. Богатство народов. С. 517]). Ср.: «Теория политической экономии, которая возникает в „Богатстве народов“, может рассматриваться как последовательная теория права и законодательства… знаменитое высказывание о невидимой руке предстает как сущность взгляда Адама Смита на право» (Cooke С.A. Adam Smith and Jurisprudence // Law Quarterly Review. 1935. Vol. 51. Р. 328); а также интересное обсуждение: Cropsey J Polity and Economy: An Interpretation of the Principles of Adam Smith. The Hague: M. Mjhof, 1957. Примечательно, что общее рассуждение Смита о «невидимой руке», «которая понуждает человека содействовать цели, о которой он не заботился», появляется уже у Монтескье, где он говорит, что таким образом «каждый, думая преследовать свои личные интересы, по сути дела стремится к общему благу» (Montesquieu. The Spirit of the Laws. Yol. 1. P. 25 [Монтескье. О духе законов. С. 31]). См. также: «Но республиканское и свободное правление были бы очевидным абсурдом, если бы определенные ограничения и контроль, установленные конституцией, не имели никакого реального влияния и не заставляли бы даже плохих людей действовать в интересах общественного блага» [Hume D. That Politics May Ne Reduced to a Science I I Hume. Essays. Vol. 1. P. 99 [Юм Д. О том, что политика может стать наукой // Он же. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 491]). А также: «Aber nun kommt die Natur dem verehrten, aber zur Praxis ohnm?chtigen allgemeinen, in der Vernunft gegr?ndeten Willen, und zwar gerade durch jene selbsts?chtigen Neigungen, zu H?lfe, so, dass es nur auf eine gute Organisation des Staats ankommt (die allerdings im Verm?gen der Menschen ist), jener ihre Kr?fte so gegen einander zu richten, dass der Erfolg f?r die Vernunft so ausf?llt, als wenn beide gar nicht da w?ren, und so der Mensch, wenn gleich nicht ein moralisch-guter Mensch, dennoch ein guter B?rgers zu sein gezwungen wird» [«Но здесь общей, основанной на разуме воле, почитаемой, но на практике бессильной, природа оказывает поддержку с помощью как раз тех же эгоистических склонностей, так что лишь от хорошей организации государства (а это во всяком случае под силу человеку) зависит, как направить силы этих склонностей, чтобы каждая из них или сдерживала разрушительное действие другой, или уничтожала его»] [Kant I. Zum ewigen Frieden:Ein philosophischer Entwurf// Idem. Werke / Ed. by Weischedel W. Wiesebaden: Insel-Verlag. 1956-1964. Vol. 6. P. 223-224 [Кант И. К вечному миру// Он же. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 7. С. 32]).]. В отличие от Бентама, ни Локк, ни Юм, ни Смит, ни Бёрк никогда не утверждали, что «всякий закон – это зло, ибо всякий закон есть нарушение свободы»[116 - Bentham J. Theory of Legislation / 5
ed. London: Trubner, 1887. P. 48.]. Их аргументация никогда не была аргументацией за абсолютное laissez-faire[117 - Экономическая система, в которой государство никак не вмешивается в сделки между частными лицами, не используя для этого ни регулирование, ни пошлины и субсидии, не устанавливая монополии и т.п. [Здесь и далее под знаком звездочки – примеч. науч. ред.], которое, как видно из самого выражения, также принадлежит французской рационалистической традиции и в своем буквальном смысле никогда не поддерживалось английскими классическими экономистами[118 - См.: MacGregor D.H. Economic Thought and Policy. London: Oxford University Press, 1949. P. 54-89; Robbins L. The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy. London: Macmillan, 1952. P. 42-46.]. Они знали лучше большинства своих будущих критиков, что успешно направляет индивидуальные усилия к общественно полезным целям не какая-то магия, а эволюция «хорошо построенных институтов», в рамках которых будет происходить примирение «правил и принципов соперничающих интересов и частичных выгод»[119 - Burke E. Thoughts and Details on Scarcity // Burke. Works. Vol. 7. P. 398.]. В действительности, их аргументация никогда не была сама по себе антигосударственной или анархистской, что было бы логически неизбежным результатом рационалистической доктрины laissez-faire; это была аргументация, принимавшая во внимание как необходимые функции государства, так и пределы его деятельности.
Разница особенно заметна в соответствующих посылках двух школ в отношении индивидуальной природы человека. Рационалистические теории замысла по необходимости исходили из предположения об индивидуальной склонности человека к рациональным действиям и его природной разумности и добродетельности. Эволюционная теория, напротив, показала, как определенные институциональные структуры побуждают человека использовать свой разум для получения наилучших результатов и как институты могут быть выстроены таким образом, чтобы от плохих людей было как можно меньше вреда[120 - См., например, контраст между суждением Д. Юма (Hume D. On the Independency of Parliament // Hume. Essays. Vol. 1. P. 117-118 [Юм Д. Сочинения: В 2 т. M.: Мысль, 1965. T. 2. С. 593]): «Политические писатели утвердили в качестве принципа, что, разрабатывая любую систему правления и фиксируя в конституции отдельные механизмы сдерживания и контроля, следует в каждом человеке предполагать мошенника, который во всех своих действиях не имеет других целей, кроме своего частного интереса» (по-видимому, здесь содержится отсылка к Макиавелли: «учредителю республики и создателю ее законов необходимо заведомо считать всех людей злыми» (Machiavelli Ж Discorsi, I, 3 [.Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Он же. Государь: Сочинения. M.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 2001. С. 132])).Ср.: «Воля каждого человека, если она совершенно свободна от ограничений, неизменно приведет его к нравственности и добродетели» (Price R. Two Tracts on Civil Liberty, the War with America, and the Debts and Finances of the Kingdom. London, 1778. P. 11). См. также мою работу: Hayek F.A. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, 1948. P. 11-12 [Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. M.: Изограф, 2000. С. 31-33].]. Здесь антирационалистическая традиция ближе к христианскому пониманию человека как существа греховного и склонного к заблуждениям, тогда как перфекционизм рационалистов оказывается в непримиримом конфликте с ним. Даже такая знаменитая фикция, как «экономический человек», изначально не была частью британской эволюционной традиции. Можно без больших преувеличений утверждать, что с точки зрения этих британских философов, человек по природе своей ленив и бездеятелен, непредусмотрителен и расточителен, и лишь давление обстоятельств может заставить его действовать экономно или заботиться о том, чтобы его цели соответствовали его средствам. Только Милль-младший ввел понятие homo oeconomicus, а также много чего другого, принадлежащего не к эволюционной, а к рационалистической традиции[121 - См.: Mill J.S. On the definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It // Idem. Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. London: J.W. Parker, 1844. P. 120-164 [Милль Дж.С. Об определении предмета политической экономии; и о методе исследования, свойственном ей // Милль. Основы. С. 987-1023].].
5. Но наибольшая разница между двумя подходами заключается в их представлениях о роли традиций и ценности всех других плодов неосознаваемого роста, происходящего на протяжении веков[122 - Эрнест Ренан в важном эссе о принципах и тенденциях либеральной школы («M. de Sacy et l’еcole libеrale»), впервые опубликованном в 1858 году, а позднее вошедшем в его «Essais de morale et de critique», замечает: «Le libеralisme, ayant la prеtention de se fonder uniquement sur le principes de la raison, croit d’ordinaire n’avoir pas besoin de traditions.L? est son erreur… L’erreur de l’еcole libеrale est d’avoir trop cru qu’il est facile de crеer la libertе par la rеflexion, et de n’avoir pas vu qu’un еtablissement n’est solide que quand il a des racines historiques… Elle ne vit pas que de tous ses efforts ne pouvait sortir qu’une bonne administration, mais jamais la libertе, puisque la libertе rеsulte d’un droit antеrieur et supеrieur ? celui de l’Еtat, et non d’une dеclaration improvisеe ou d’un raisonnement philosophique plus ou moins bien dеduit» [«Либерализм претендовал на то, что он основывается только на принципах разума, и обычно полагал, что не нуждается в традициях. Это его ошибка… Ошибка либеральной школы была в том, что она не видела, что прочно утвердиться можно только на исторических корнях… Она не видела, что из всех ее усилий может получиться только система администрации, но не свободы, потому что свобода возникает из права более древнего и более высокого, чем государственное, а не из непродуманных деклараций и философских рассуждений, более или менее несерьезных»] (ДепапЕ. Cuvres compl?tes / Ed. by H. Psichari. Paris: Calmann-Lеvy, 1947. Yol. 2. P. 45-46). См. также наблюдение, высказанное Роналдом Б. Маккаллумом во введении к своему изданию «О свободе» Джона Стюарта Милля: «Хотя Милль признает огромную власть обычая него полезность в определенных границах, он готов критиковать все правила, основывающиеся на нем и не имеющие разумного обоснования. Он замечает: „Люди проповедуют нам, что такие-то вещи справедливы, потому что они справедливы, потому что мы чувствуем, что они справедливы; они учат нас, что мы должны искать в нашем собственном уме и в нашем сердце законы поведения, обязательные как для нас самих, так и для всех других людей“. Эту позицию Милль, будучи рационалистическим утилитаристом, принять не мог. Это принцип „симпатии-антипатии“, который Бейтам рассматривал как основу всех систем, отличающихся от рационалистского подхода. В качестве политического мыслителя Милль стоял на той позиции, что все эти предположения, не имеющие разумного обоснования, должны быть подвергнуты глубокой и сбалансированной оценке мыслящих людей» (McCallum R.B. Introduction // Mill J.S. On Liberty and Considerations on Representative Government. Oxford: B. Blackwell, 1946. P. xv).]. Вряд ли будет несправедливым утверждение, что в этом рационалистический подход противостоит почти всему, что является специфическим плодом свободы и придает свободе ее ценность. Те, кто верит, что все полезные институты – намеренно созданные приспособления, и кто не может представить себе, чтобы нечто, служащее целям человека, не было бы сознательно спроектировано, – все они просто не могут не быть врагами свободы. Для них свобода равнозначна хаосу.
Однако для эмпирицистской эволюционной традиции ценность свободы состоит главным образом в возможностях, которые она открывает для роста того, что не было заранее намечено и задумано, и благотворное функционирование свободного общества опирается преимущественно на существование таких свободно выросших институтов. Возможно, подлинной веры в свободу никогда бы не было, и уж определенно не было бы успешных попыток построить свободное общество, если бы не было подлинного уважения к сложившимся институтам, к традициям и обычаям и «всем тем гарантиям свободы, которые формируются на основе давних неписаных законов и древних обычаев»[123 - Butler J. The Works of Joseph Butler / Ed. by W.E. Gladstone. Oxford: Clarendon Press, 1896. Vol. 2. P. 278.]. Каким бы парадоксальным это ни казалось, но, скорее всего, верно утверждение, что успешное свободное общество всегда в значительной мере будет обществом, ограниченным традицией[124 - Даже Герберт Баттерфилд, понимающий это лучше многих, видит «один из парадоксов истории» в том, что «имя Англии оказалось столь тесно связанным со свободой, с одной стороны, и с традицией – с другой» (Butterfield Н. Liberty in the Modern World. Toronto: Ryerson Press, 1952. P. 21).].
Это уважение к традиции и обычаю, к выросшим институтам и правилам, происхождения и оснований для возникновения которых мы не знаем, не означает, конечно, – как полагал, с характерным для рационалистов непониманием, Томас Джефферсон, – что мы «приписываем людям прежних веков мудрость, превышающую человеческую и… предполагаем, что сделанное ими не подлежит изменению»[125 - Jefferson T. The Works of Thomas Jefferson / Ed. by P.L. Ford. New York: G.P. Putnam’s Sons, 1904. Vol. 12. P. 11.]. Никоим образом не допуская, что создатели институтов были мудрее нас, эволюционная точка зрения исходит из того, что в результатах экспериментирования многих поколений может быть воплощено больше опыта, чем есть у любого отдельного человека.
6. Мы уже рассмотрели разные институты и обычаи, инструменты и способы действия, возникшие в ходе этого процесса и образующие унаследованную нами цивилизацию. Но нам нужно присмотреться к тем правилам поведения, сформировавшимся в рамках этого же процесса, которые образуют одновременно и плод, и условие свободы. Из всех обычаев и традиций, направляющих человеческие отношения, наиболее важны нравственные правила, но не только они. Мы понимаем друг друга и ладим между собой, способны успешно действовать в соответствии с нашими планами, потому что в большинстве случаев члены нашей цивилизации следуют бессознательным моделям поведения, демонстрируют регулярность в своих действиях, которая является следствием не приказов или принуждения и часто не сознательного следования известным правилам, а прочно утвердившихся привычек и традиций. Общее соблюдение этих обычаев – необходимое условие упорядоченности мира, в котором мы живем, и нашей способности ориентироваться в нем, хотя мы не знаем их значения и даже не всегда осознаем их существование. Если бы подобные нормы или правила не соблюдались с достаточной регулярностью, в некоторых случаях оказалось бы необходимым для нормального управления обществом прибегнуть к принуждению, чтобы обеспечить аналогичное единообразие поведения. Следовательно, в некоторых случаях возможно избежать принуждения только благодаря высокой степени добровольного подчинения нормам, а это означает, что добровольное подчинение может быть условием благотворного действия свободы. Все великие поборники свободы за пределами рационалистической школы не уставали подчеркивать ту истину, что свобода никогда не бывает действенной без глубоко укоренившихся нравственных убеждений и что принуждение может быть сведено к минимуму только там, где можно рассчитывать, что люди будут, в большинстве случаев, добровольно следовать определенным принципам[126 - См., например: «Люди пригодны для гражданской свободы ровно в той мере, в какой они готовы ограничить моральными узами свои аппетиты; в той мере, в какой их любовь к справедливости превышает их алчность; в той мере, в какой их здравомыслие и трезвость понимания превосходят их тщеславие и самомнение; в той мере, в какой они предпочитают слушать совет мудрых и добродетельных, а не лесть мошенников» (Витке Е. A Letter to a Member of the National Assembly I I Burke. Works. Vol. 6. P. 64).Также см. высказывание Джеймса Мэдисона в ходе дебатов 20 июня 1788 года в конвенте штата Виргиния по ратификации Конституции США: «Предполагать, что какая бы то ни было форма правления обеспечит свободу или счастье, при том что люди не знают, что такое добродетель, – это химерическая идея» (The Debates in the Several State Conventions, on the Adoption of the Federal Constitution / Ed. by J. Elliot. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1863-1891. Vol. 2. P. 537), а также высказывания Токвиля: «Царства свободы нельзя достичь без господства нравственности, так же как нельзя сделать нравственным общество, лишенное веры»; «Никогда и нигде не существовало общества, свободного от морали» (Toequemlle. Democracy in America. Vol. 1. P. 12; Vol. 2. P. 235 [Токвиль. Демократия в Америке. С. 33, 428]).].
Положение дел, при котором подчинение таким правилам не навязывается принуждением, предпочтительно не только потому, что принуждение само по себе плохо, но и потому, что зачастую желательно, чтобы правила соблюдались только в большинстве случаев и чтобы человек имел возможность преступить их, когда, по его мнению, позор и бесчестье, которое он тем самым на себя навлечет, будут оправданной платой. Важно также, чтобы сила общественного давления и сила привычки, обеспечивающие их соблюдение, не были постоянными. Именно эта гибкость добровольных правил делает возможными постепенную эволюцию и спонтанный рост в сфере морали, создает условия для накопления нового опыта, ведущего к изменениям и совершенствованию. Подобная эволюция возможна только в случае правил, которые не являются целенаправленно навязанными и опирающимися на принуждение, – правил, соблюдение которых считается достоинством, и хотя большинство им подчиняется, они могут быть нарушены людьми, чувствующими, что имеют достаточно серьезные основания, чтобы противостоять осуждению со стороны ближних. В отличие от любых целенаправленно навязанных принудительных правил, которые могут быть изменены только скачкообразно и одновременно для всех, правила такого рода допускают постепенные экспериментальные изменения. Существование людей и групп, одновременно соблюдающих частично не совпадающие правила, создает возможность для отбора более эффективных правил.
Именно это подчинение никем сознательно не придуманным правилам и обычаям, значение и важность которых мы по большей части не понимаем, именно это уважение к традициям оказываются столь чуждыми рационалистическому складу мышления, хотя именно они необходимы для функционирования свободного общества. Основание свободного общества – в осознании того, что «правила морали не являются заключениями нашего разума», – эту мысль подчеркивал Давид Юм, и она имеет решающее значение для антирационалистической эволюционной традиции[127 - В главе «Моральные различия не проистекают из разума»: «Следовательно, правила морали не являются заключениями нашего разума» (Hume. Treatise of Human Nature. Vol. 2. P. 235 [Юм. Трактат о человеческой природе. С. 499]). Та же идея заключена уже в максиме схоластиков: «Ratio est instrumentum non est judex» [«Разум – это орудие, а не судья»]. Что же касается эволюционных представлений Юма о морали, я счастлив возможности процитировать утверждение, которого я сам сделать бы не решился из страха приписать Юму то, чего у него нет, но здесь оно исходит от автора, который, я уверен, смотрел на Юма под другим углом зрения, чем я. Кристиан Бэй пишет: «Нормы нравственности и справедливости есть то, что Юм называет „артефактами“; они не продиктованы божеством, не являются неотъемлемой частью изначальной человеческой природы и не являются плодом чистого разума. Они суть результат практического опыта человечества, и в ходе медленной проверки временем единственно важным является полезность каждого правила нравственности для достижения благополучия людей. Юма можно назвать предшественником Дарвина в сфере этики. По сути дела, он провозгласил доктрину выживания наиболее приспособленных из числа людских обычаев – наиболее приспособленных не в смысле хороших зубов, а в смысле наибольшей социальной полезности» (Вау С. The Structure of Freedom. Stanford, CA: Stanford University Press, 1958. P. 33).]. Подобно всем другим ценностям, наши правила морали являются не результатом, а предпосылкой разума, частью тех целей, для служения которым был развит инструмент нашего интеллекта. На любой стадии нашей эволюции система наследуемых ценностей обеспечивает нас целями, которым должен служить наш разум. Эта заданность системы целей предполагает, что, хотя мы всегда должны стремиться к совершенствованию наших институтов, нашей целью не может быть перестройка их в целом и что, стремясь к их усовершенствованию, мы должны принимать на веру много такого, чего мы не понимаем. Мы обречены работать в рамках не нами созданных систем ценностей и институтов. В частности, мы совсем не можем искусственно сконструировать новый корпус правил морали или сделать так, что соблюдение нами известных правил будет зависеть от того, понимаем мы или нет, какие результаты даст их соблюдение в той или иной конкретной ситуации.
7. Рационалистический подход к этим проблемам лучше всего можно проиллюстрировать отношением к так называемым предрассудкам[128 - См. работу: Acton Н.В. Prejudice // Revue internationale de philosophie. 1952. Vol. 21. P. 323-336, содержащую любопытную демонстрацию сходства взглядов Юма и Бёрка; см. также выступление того же автора: Idem. Tradition and Some Other Forms of Order H Proceedings of the Aristotelian Society. 1953. Vol. 53. P. 1, особенно замечание насчет того, что «либералы и коллективисты единым фронтом выступают против традиции, когда она содержит „предрассудок“, который они собираются атаковать». См. также: Bobbins L. The Theory of Economic Policy. London: Macmillan, 1952. P. 196n.]. Я не хочу недооценивать достоинства неустанной и настойчивой борьбы, которая велась в XVIII и XIX веках против очевидно ложных убеждений[129 - Пожалуй, даже в такой форме это слишком сильное утверждение. Гипотеза может быть очевидно ложной, но если из нее следуют новые выводы, которые оказываются истинными, все же она лучше, чем никакой гипотезы вообще. Такие пробные, хотя отчасти ошибочные ответы на важные вопросы могут иметь большую ценность в практическом плане, хотя ученый не любит их, потому что они нередко могут препятствовать прогрессу.]. Но мы должны помнить, что распространение понятия «предрассудок» на все верования и убеждения, истинность которых неочевидна, не может быть таким образом оправдано и часто бывает вредно. Из того, что мы не должны верить утверждению, ложность которого была доказана, не следует, что верить нужно только в то, истинность чего была доказана. Есть существенные основания, по которым любой человек, желающий жить и успешно действовать в обществе, должен принимать многие распространенные представления, хотя ценность этих оснований никак не связана с доказуемой истинностью представлений, о которых идет речь[130 - См.: «Формы социального поведения иногда бывает необходимо осознавать для того, чтобы лучше приспособиться к изменившимся условия, но я думаю, можно признать за принцип (с широкой сферой применения), что при нормальном течении жизни отдельному индивиду нет смысла и даже вредно заниматься сознательным анализированием окружающих его социокультурных стереотипов. Это дело ученого, обязанного разбираться в таких стереотипах. Здоровая бессознательность форм социализированного поведения, которым все мы подчиняемся, так же необходима для общества, как для телесного здоровья организма необходимо, чтобы мозг не знал или, вернее, не осознавал, как работают внутренние органы» (Sapir Е. Selected Writings in Language, Culture, and Personality / Ed. by D.G. Mandelbaum. Berkeley: University of California Press, 1949. P. 558-559 [Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс Универе, 1993. С. 609]; см. также с. 26 [с. 241-242]).]. Кроме того, такие представления опираются на некий прошлый опыт, а не на опыт, который может быть кем-то подтвержден. Разумеется, ученый, если его попросят согласиться с каким-либо обобщением в его области, имеет право потребовать данные, на которых это обобщение основывается. Многие представления, которые в прошлом выражали накопленный опыт человеческого рода, были опровергнуты именно таким образом. Это, однако, не означает, что мы сможем на каком-то этапе избавиться от всех представлений, не подкрепленных научными доказательствами. Опыт дан человеку в гораздо более разнообразных формах, чем те, с которыми обычно работает профессиональный экспериментатор или исследователь, ищущий явного знания. Мы разрушили бы фундамент многих успешных действий, если бы стали пренебрегать методами, выработанными в процессе проб и ошибок, лишь потому, что нам не была сообщена причина, по которой мы должны усвоить эти методы. Адекватность нашего поведения вовсе не зависит от того, знаем ли мы, почему оно адекватно. Понимание этого – лишь один из способов сделать наше поведение адекватным, но отнюдь не единственный. Выхолощенный мир представлений, очищенных от всего, ценность чего не может быть позитивно продемонстрирована, вероятно, окажется не менее губительным, чем аналогичное состояние в сфере биологии.
Хотя сказанное применимо ко всем нашим ценностям, оно имеет особую важность в случае правил нравственного поведения. Последние, наряду с языком, являются, пожалуй, важнейшим примером непреднамеренного роста, примером совокупности правил, направляющих жизнь каждого из нас, о которых мы при всем при том не можем сказать, ни почему они такие, какие есть, ни как именно они на нас влияют: нам неизвестно, каковы будут последствия их соблюдения как для каждого из нас в отдельности, так и для группы. Именно против требования подчиняться подобного рода правилам постоянно восстает дух рационализма. Он требует применять к ним декартовский принцип: «отбросить как безусловно ложное все, в чем мог вообразить малейший повод к сомнению»[131 - Descartes R. A Discourse on Method. London: Dent, 1912. Pt. 4. P. 26 [Декарт P. Сочинения: B 2 т. M.: Мысль, 1989. T. 1. C. 268].]. Рационалисты всегда мечтали о целенаправленно построенной, синтезированной системе моральных норм, о системе, в которой, по словам Эдмунда Бёрка, «исполнение всех моральных обязанностей и все основания общества, покоящиеся на соответствующих доводах, сделаны ясными и наглядными для каждого человека»[132 - Burke E. A Vindication of Natural Society § Burke. Works. Vol. 1. P. 7.]. Рационалисты XVIII столетия и в самом деле утверждали, что, поскольку они знают природу человека, они «легко могут найти соответствующие ей моральные нормы»[133 - Holdback P.H.T. baron de. Systeme social, Ou Principes naturels de la morale et de la politique. London [Rouen], 1773. Vol. 1. P. 55; цит. no: Talmon J.L. Origins of Totalitarian Democracy. London: Seeker and Warburg, 1952. P. 273. Столь же наивные утверждения нетрудно найти в работах современных психологов. Например, Беррес Ф. Скиннер заставляет героя своей утопии утверждать следующее: «Почему бы не заняться экспериментированием? Вопросы достаточно просты. Что является лучшим поведением для индивида с точки зрения интересов группы? И как можно побудить индивида действовать именно таким образом? Почему бы не исследовать эти вопросы в духе науки? В Уолден-два мы можем сделать это. Мы уже разработали кодекс поведения – разумеется, подлежащий модификации в соответствии с экспериментами. Если все будут жить в соответствии с этим кодексом, все пойдет как по маслу. Наше дело – присмотреть, чтобы все именно так и жили» (Skinner B.F. Walden Two. New York: Macmillan, 1948. P. 85).]. Они не понимали, что то, что они называли «природой человека», в значительной мере является плодом тех самых моральных представлений, которые каждый усваивает вместе с языком и мышлением.
8. Любопытным симптомом растущего влияния этой рационалистической концепции является то, что во всех известных мне языках вместо слов «нравственный», «моральный» (moral) или просто «хороший» (good) все чаще используется слово «общественный» (social). Было бы полезно кратко рассмотреть, что же это значит[134 - См. мою статью: Hayek F.A. Was ist und was heisst “sozial”? // Masse und Demokratie / Ed. by A. Hunold. Zurich: Erlenbach-Zurich: E. Rentsch, 1957. P. 71-84, переиздано: What is “Social”? – What Does it Mean? // Idem. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1967. P. 237-247. См. также попытку защитить это понятие: Jahrreiss Н. Freiheit und Sozialstaat // K?lner Universit?tsreden. № 17. Krefeld, 1957, вошедшую в сборник того же автора: Idem. Mensch und Staat. Rechtsphilosophische, staatsrechtliche und v?lkerrechtliche Grundfragen in unserer Zeit&. Cologne; Berlin: Carl Heymann, 1957. P. 69–88.]. Когда люди говорят об «общественной совести» (social conscience) вместо просто «совести», они, предположительно, имеют в виду осознание конкретных последствий наших действий для других людей, попытку руководствоваться в своих действиях не просто традиционными правилами, а пристально рассматривать конкретные последствия действия в том или ином случае. В сущности, они говорят, что в своих действиях мы должны руководствоваться полным пониманием того, как функционирует социальный процесс, и должны стремиться – через сознательную оценку конкретных фактов, относящихся к ситуации, – к достижению предвидимого результата, который они обозначают как «общественное благо».
Здесь любопытно то, что этот призыв к «общественному» на самом деле подразумевает требование, чтобы действиями индивида руководили не правила, выработанные обществом, а индивидуальный разум – чтобы люди отказались от использования того, что в полном смысле слова может быть названо «общественным» (в том смысле, что это является плодом безличного социального процесса), а вместо этого каждый раз полагались на свое личное суждение. Это предпочтение «общественных соображений» в ущерб приверженности моральным правилам представляет собой в конечном итоге следствие презрения к тому, что является подлинным общественным феноменом, и веры в превосходящую силу индивидуального человеческого разума.
Ответ на эти рационалистические требования заключается, разумеется, в том, что они предполагают в качестве условия наличие знаний, превосходящих возможности отдельного человеческого ума, и что в попытке их выполнить большинство людей станут менее полезными членами общества, чем были бы, если бы преследовали свои цели в границах, установленных нормами права и морали.
В данном случае рационалистический аргумент игнорирует то, что в общем случае опора на абстрактные правила – это инструмент, которым мы научились пользоваться потому, что наш разум недостаточно силен, чтобы совладать со всеми деталями сложной реальности[135 - См. у Токвиля подчеркивание того факта, что «общие идеи свидетельствуют не о силе человеческого разума, но, скорее, о его несовершенстве» (Tocqueville. Democracy in America. Vol. 2. P. 13 [Токвиль. Демократия в Америке. С. 325]).]. Это верно и когда мы обдуманно формулируем абстрактное правило, которым должен руководствоваться человек, и когда мы подчиняемся общим правилам деятельности, развившимся в ходе социального процесса.
Нам всем известно, что мы вряд ли сумеем добиться успеха в достижении личных целей, если не установим для себя некие общие правила, которых будем придерживаться, не проверяя заново их обоснованность в каждом конкретном случае. Упорядочивая свой день, выполняя, а не откладывая на будущее, малоприятные, но необходимые задачи, отказываясь от употребления возбуждающих средств или подавляя определенные импульсы, мы часто приходим к необходимости превратить все эти действия в бессознательную привычку, потому что знаем, что без этого разумные основания, делающие такое поведение желательным, окажутся недостаточно эффективными, чтобы постоянно перевешивать сиюминутные желания и побуждать нас делать то, что нам следовало бы делать с учетом долговременных перспектив. Хотя тезис, согласно которому, чтобы действовать рационально, нам часто необходимо руководствоваться привычкой, а не размышлением, или тезис, в соответствии с которым, чтобы не дать себе принять неверное решение, нам следует сознательно сузить свои возможности выбора, может звучать парадоксально, на практике всем известно, что для достижения долгосрочных целей нам зачастую необходимо именно это.
Те же соображения в еще большей степени применимы там, где наше поведение напрямую затрагивает не нас, а других, и где, следовательно, нашей главной заботой становится приспособление собственных действий к действиям и ожиданиям других, чтобы не нанести им ненужного вреда. В таких случаях маловероятно, чтобы какой-либо индивид сумел рационально сформулировать правила более эффективные для целей, которым они служат, чем правила, развившиеся постепенно; и даже если кому-либо это и удалось бы, эти правила не смогут достичь цели, если они не станут соблюдаться всеми. Таким образом, у нас нет другого выбора, кроме как подчиниться правилам, обоснования которых мы часто не знаем, и делать это безотносительно к тому, зависит ли, по нашему мнению, что-либо важное от их соблюдения в конкретной ситуации или нет. Правила морали инструментальны в том смысле, что они помогают главным образом достигать других человеческих ценностей; однако, поскольку мы только изредка можем знать, что именно зависит от их соблюдения в конкретном случае, следование им надо рассматривать как ценность саму по себе, как своего рода промежуточную цель, к которой мы должны стремиться, не думая, оправданны они или нет в каждом отдельном случае.
9. Разумеется, эти соображения не доказывают, что все возникшие в обществе наборы моральных представлений приносят пользу. Группа может подняться благодаря моральным нормам, которым следуют ее члены, и ее ценностям в результате будет подражать вся страна, во главе которой окажется эта преуспевшая группа, но точно так же группа или нация может разрушить себя теми моральными нормами, которым она привержена. Только конечные результаты могут показать, благотворны или разрушительны идеалы, которыми руководствуется группа. Тот факт, что общество стало рассматривать учение определенных людей как воплощение добродетели, не доказывает, что следование их принципам не приведет общество к гибели. Вполне возможно, что нация может уничтожить себя, последовав учению тех, кого считает лучшими из людей, даже настоящими святыми, бесспорно руководствующимися самыми бескорыстными идеалами. Подобного рода опасность невелика в обществе, члены которого все еще вольны выбирать образ практической жизни, потому что тенденции такого рода будут подвергаться самокоррекции: группы, руководствующиеся «непрактичными» идеалами, и только они, будут приходить в упадок, а их место займут другие, менее нравственные по текущим стандартам. Но так может получиться только в свободном обществе, в котором подобные идеалы не навязываются всем в принудительном порядке. Там, где все обречены служить одним и тем же идеалам, где инакомыслящим не позволено следовать тому, во что они верят, нерациональность правил может быть доказана только упадком всей нации, которая ими руководствуется.
Здесь возникает важный вопрос: является ли согласие большинства по поводу того или иного правила морали достаточным основанием, чтобы принуждать инакомыслящее меньшинство к его исполнению, или же такая власть большинства должна быть ограничена более общими правилами – иными словами, не должно ли обычное законодательство быть ограничено общими принципами, подобно тому как нравственные правила индивидуального поведения не допускают определенные виды действий независимо от того, насколько благими являются преследуемые цели? Существует огромная потребность в нравственных правилах не только индивидуальной, но и политической деятельности, а результаты последовательности коллективных решений (точно так же как и индивидуальных) могут быть благотворными лишь тогда, когда они согласуются с общими принципами.
Такие моральные правила коллективных действий возникают лишь с большим трудом и очень медленно. Но в этом следует видеть доказательство того, насколько они драгоценны. Важнейшим из немногих развитых нами принципов такого рода является индивидуальная свобода, которую уместнее всего рассматривать как моральный принцип политического действия. Подобно всем принципам морали, она требует, чтобы ее принимали как ценность саму по себе, как принцип, который надо уважать, не задаваясь вопросом, будут ли его последствия благотворны в частном случае. Мы не достигнем желаемых результатов, если не примем его как символ веры или как презумпцию настолько сильную, что никаким соображениям целесообразности не будет позволено ее ограничивать.
В конечном итоге аргумент в пользу свободы является аргументом за принципы и против целесообразности в коллективных действиях[136 - Сегодня часто высказывается сомнение в том, что последовательность – достоинство в общественной деятельности. Иногда стремление к последовательности характеризуется даже как рационалистический предрассудок, тогда как принятие решения в каждом случае в соответствии с особыми обстоятельствами превозносится как истинно экспериментальная или эмпирическая процедура. На самом деле здесь все обстоит ровно наоборот. Стремление к последовательности имеет источником осознание неспособности нашего разума точно учесть все последствия каждого отдельного решения, тогда как якобы прагматичная процедура основывается на претензии, что мы можем должным образом оценить все последствия, не обращаясь к тем принципам, которые говорят нам, какие именно факты нам следует учитывать.], что, как мы увидим, эквивалентно утверждению, что решение о применении мер принуждения может принимать только судья, но не администратор. Когда один из интеллектуальных лидеров либерализма XIX века, Бенжамен Констан, описал либерализм как systeme de principes[137 - Constant В. De l’arbitraire // Cuvres politiques de Benjamin Constant / Ed. by C. Louandre. Paris: Charpentier et Cie, 1874. P. 91-92.] [систему принципов (фр.)], он выявил суть дела. Свобода – это не только система, при которой все действия правительства направляются принципами, но это еще и идеал, который не удастся сохранить, если он не будет принят как доминирующий принцип, направляющий все отдельные акты законодательства. Там, где нет непреклонной приверженности такому фундаментальному правилу как конечному идеалу, по поводу которого недопустимы компромиссы ради материальных выгод, – как идеалу, временный отход от которого хотя и возможен в критическом положении, но который при этом является основой всего постоянного общественного устройства, – свобода почти заведомо будет разрушена частичными посягательствами на нее. Потому что в каждом отдельном случае можно будет пообещать конкретные и ощутимые выгоды, достижимые благодаря ограничению свободы, тогда как приносимые при этом в жертву блага всегда будут, в силу своей природы, неизвестными и неопределенными. Если не относиться к свободе как к верховному принципу, тот факт, что свободное общество всегда может обещать только возможности, а не гарантии, только перспективы, а не конкретные дары определенным индивидам, неизбежно окажется фатальным недостатком и станет причиной медленного разрушения свободы[138 - См.: «Благотворный результат государственного вмешательства, особенно в форме законодательства, является прямым, непосредственным и, так сказать, наблюдаемым, в то время как его пагубные результаты проявляются постепенно, опосредованно и вне поля зрения. <…> Поэтому большинство людей почти неизбежно относятся к государственному вмешательству с необоснованным одобрением. Этой неизбежной предвзятости можно противопоставить только присутствие в данном обществе… презумпции или предрассудка, отдающего предпочтение индивидуальной свободе, то есть laissez faire-» (Dicey. Law and Public Opinion. P. 257-258). См. также рассуждения Карла Менгера о «прагматизме, который вопреки намерению его представителей неминуемо ведет к социализму» (Mengen Untersuchungen. P. 208 \_Менгер. Избранные работы. С. 433]), а также мое эссе: Hayek F.A. Die Ursachen der st?ndigen Gef?hrdung der Freiheit // Ordo. 1961. Vol. 12. P. 103-109.].
10. К этому моменту у читателя может возникнуть вопрос, какую же роль может играть разум в упорядочении общественных дел, если политика свободы требует столь значительного воздержания от целенаправленного контроля, столь полного принятия всего, что развилось спонтанно и ненаправленно. Первый ответ заключается в том, что если уж возникла необходимость в поиске адекватных границ использования разума, то поиск этих границ как раз и представляет собой самое важное и трудное применение разума. Более того, хотя нам здесь пришлось сосредоточиться именно на этих границах, мы никоим образом не подразумевали, что у разума нет важных положительных задач. Разум, несомненно, самое драгоценное, что есть у человека. Наше рассуждение стремилось продемонстрировать лишь то, что он не всемогущ и что вера, будто он может стать господином самому себе и контролировать собственное развитие, способна разрушить его. На самом деле мы попытались защитить разум от злоупотреблений со стороны тех, кто не понимает условий его эффективного функционирования и непрерывного роста. Это призыв к тому, чтобы люди увидели, что мы должны использовать наш разум осмотрительно, а для этого нам следует сохранить ту незаменимую матрицу неконтролируемого и внерационального, которая представляет собой единственную среду, в которой разум может расти и эффективно действовать.
Эту антирационалистическую позицию не следует путать с иррационализмом или призывом к мистицизму[139 - Надо признать, что после того, как обсуждаемая здесь традиция перешла через Бёрка к французским реакционерам и немецким романтикам, она превратилась из антирационалистической позиции в иррационалистическую веру и сохранилась почти исключительно в этой форме. Но извращение, за которое Бёрк несет частичную ответственность, не следует использовать для дискредитации того ценного, что есть в этой традиции, и не следует забывать, как верно отметил Фредерик Уильям Мейтленд, «сколь основательным вигом [Бёрк] был во всем» (Maitland F. W. Collected Papers. Cambridge: Cambridge University Press, 1911. Vol. 1. P. 67).]. Здесь мы защищаем не отречение от разума, а рациональное исследование той области, в которой разум имеет смысл держать под контролем. Отчасти этот аргумент состоит в том, что такое здравое использование разума не означает применение продумывающего и планирующего разума в максимально возможном числе случаев. В противоположность наивному рационализму, который считает имеющийся у нас разум абсолютным, мы должны продолжать дело Давида Юма, который «обратил против Просвещения его собственное оружие» и принялся «с помощью рационального анализа понижать притязания разума»[140 - Wolin S.S. Hume and Conservatism // American Political Science Review. 1954. Vol. 48. P. 1001. См. также: «В эпоху Разума Юм занял позицию методичного антирационалиста» (Mossner Е.С. Life of David Hume. Oxford: Clarendon Press, 1954. P. 125).].
Первым условием такого осмотрительного использования разума для упорядочивания общественных дел является понимание той роли, которую он на деле играет и может играть в жизни любого общества, основанного на сотрудничестве множества отдельных умов. Это означает, что прежде, чем мы сможем попытаться перестроить общество со знанием дела, нам следует понять, как оно функционирует; мы должны осознать, что можем ошибаться, даже когда считаем, что уже это поняли. Мы должны научиться понимать, что человеческая цивилизация живет своей собственной жизнью, что улучшать состояние дел мы должны лишь в рамках функционирующего целого, которое мы не в состоянии полностью контролировать, и что мы можем рассчитывать только на то, что у нас получится облегчать работу и помогать силам, действующим в нем, поскольку мы их понимаем. Нам нужно такое же отношение к обществу, как у врача – к живому организму: нам тоже приходится работать с самостоятельным целым, существующим благодаря силам, которые мы не в состоянии заменить, а потому должны использовать их во всем, чего пытаемся достичь. То, что может быть сделано для его усовершенствования, должно быть сделано с помощью этих сил, а не вопреки им[141 - См.: «Der Gesetzgeber gleicht eher dem G?rtner, der mit dem vorhandenen Erdreich und mit den Wachstumsbedingungen der Pflanzen zu rechnen hat, als dem Maler, der seiner Phantasie freies Spiel l??t» [«Законодатель больше напоминает садовника, который должен оценивать почву и условия, необходимые для роста его саженцев, чем художника, дающего волю своему воображению»] [Schindler D. Recht, Staat, V?lkergemeinschaft: ausgew?hlte Schriften und Fragmente aus dem Nachlass. Zurich, Schulthess and Co., 1948. P. 86).]. Во всех наших попытках усовершенствований мы всегда должны работать внутри этого данного целого, стремиться к постепенному, а не тотальному конструированию[142 - Ср.: Popper K.R. The Open Society and Its Enemies. London, 1945. Passim [Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Феникс; Культурная инициатива, 1992].], на каждой стадии использовать имеющийся исторический материал, шаг за шагом улучшать детали и не стремиться переустроить все сразу.
Среди этих выводов нет ни одного аргумента против использования разума, но лишь аргументы против такого его использования, которое требует исключительных и применяющих принуждение полномочий правительства; нет аргументов против экспериментирования, но есть аргументы против любой монополистической власти, обладающей исключительным правом заниматься экспериментированием в определенной области – власти, которая не терпит альтернатив и претендует на обладание высшей мудростью, – и против неизбежных в таком случае барьеров на пути решений, лучших по сравнению с теми, которые выбраны самой властью.
Глава 5
Ответственность и свобода
Сомнительно, чтобы демократии смогла выжить в обществе, организованном на принципе терапии, а не наказании, ошибки, а не греха.
Если люди свободны и равны, их следует судить, а не лечить.
Ф.Д. Уормут[143 - Wormuth F.D. The Origins of Modern Constitutionalism. New York: Harper, 1949. P. 212-213.]
1. Свобода означает не только то, что у человека есть возможность и бремя выбора, но и что он должен отвечать за последствия своих действий и что будет получать за них хвалу либо порицание. Свобода и ответственность неразделимы. Свободное общество не сможет ни функционировать, ни поддерживать свое существование, если его члены не считают правильным, чтобы каждый человек занимал то положение, которое является результатом его действий, и считал, что именно его действия позволили ему занять это положение. Хотя общество может предложить индивиду лишь шанс на успех и хотя результат его усилий будет зависеть от бесчисленных случайностей, оно настойчиво привлекает его внимание к тем обстоятельствам, которые он может контролировать, как если бы только они имели значение. Поскольку индивид должен иметь возможность использовать обстоятельства, которые могут быть известны только ему одному, и поскольку, как правило, никто не может знать, использовал ли он их в полной мере, предполагается, что результат его действий определяют именно сами действия, если только нет полной уверенности в обратном.
Эта вера в личную ответственность, которая всегда сильна там, где люди твердо верят в свободу индивида, заметно ослабла с упадком уважения к свободе. Ответственность стала непопулярным понятием, словом, которого избегают опытные ораторы и писатели из-за очевидной скуки и враждебности, с которой встречало это слово поколение, питавшее неприязнь ко всякому морализаторству. Это понятие часто возбуждает прямую враждебность в людях, которые приучены думать, что их положение в жизни или даже их действия определены исключительно обстоятельствами, над которыми у них нет никакого контроля. Однако это отречение от ответственности обычно порождается страхом перед ответственностью – страхом, который неизбежно превращается и в страх перед свободой[144 - Эту старую истину лаконично выразил Бернард Шоу: «Свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей перед ней трепещут» (Shaw G.B. Maxims for Revolutionaries // Idem. Man and Superman: A Comedy and a Philosophy. Westminster: Archibald Constable, 1903. P. 229). Эту тему, разумеется, полностью раскрыл в некоторых своих романах Федор Достоевский (особенно в эпизоде с Великим инквизитором в «Братьях Карамазовых»), и современные психоаналитики и философы-экзистенциалисты мало что смогли добавить к его психологическому прозрению. Но см. книги Эриха Фромма (Fromm Е. Escape from Freedom. New York: Farrar and Rinehart, Inc., 1941 [Фромм Э. Бегство от свободы. M.: ACT, 2016]), Марджори Г. Грина (Grene M.G. Dreadfuk Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 1948) и Отто Бейта (Veit О. Die Flucht vor der Freiheit: Versuch zur geschichtsphilosophischen Erhellung der Kulturkrise. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1947). Вере в личную свободу и связанному с ней уважению к закону, преобладающим в свободных обществах, противостоит симпатия к нарушителям закона, которая постоянно проявляется в несвободных обществах и которая была столь характерна для русской литературы XIX столетия.]. Несомненно, многие люди боятся свободы именно потому, что возможность строить собственную жизнь означает также неустанный труд и дисциплину, которой человек должен подчинить себя, если желает достичь своих целей.
2. Одновременный упадок уважения к свободе и ответственности индивида в значительной мере является результатом ошибочной интерпретации уроков науки. Прежние взгляды были тесно связаны с верой в «свободу воли» – концепцию, которая никогда не имела четкого смысла и которую впоследствии современная наука, по-видимому, лишила всяких оснований. Растущая вера в то, что все природные явления однозначно определены предшествующими событиями или подчинены познаваемым законам и что самого человека следует рассматривать как часть природы, привела к выводу, что действия человека и работу его ума также следует рассматривать как непременно определяемые внешними обстоятельствами. Господствовавшая в науке XIX столетия концепция всеобщего детерминизма[145 - Тщательное исследование философских проблем детерминизма см.: Popper К.В. The Logic of Scientific Discovery – Postscript: After Twenty Years. London: Hutchinson & Co., 1959; см. также мое эссе: Hayek F.A. Degrees of Explanation II British Journal for the Philosophy of Science. 1955. Vol. 6. P. 209-225; переиздано: Idem. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1967. P. 3-21. См. также мою статью: Hayek F.A. The Theory of Complex Phenomena //The Critical Approach: Essays in Honor of Karl R. Popper / Ed. by M. Bunge. New York: Free Press, 1964. P. 332-349. [Также переиздано: Idem. Studies in Philosophy, Politics and Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1967. P. 22-42. – Ред.]] была, таким образом, применена к поведению людей, и это, по-видимому, привело к исключению спонтанности из действий человека. Конечно, следует признать, что утверждение, будто действия человека тоже подчиняются законам природы, было не более чем общим предположением и что на самом деле мы не знали, за исключением редчайших случаев, как именно они определяются конкретными обстоятельствами. Но само допущение, что работу человеческого ума, по крайней мере в принципе, следует рассматривать как подчиняющуюся единым законам, похоже, устранило роль отдельной личности, которая имеет существенное значение для концепции свободы и ответственности.
Интеллектуальная история нескольких последних поколений дает нам сколько угодно примеров того, как эта детерминистская картина мира сотрясла основание веры в свободу в сфере морали и политики. И сегодня многие люди с естественно-научным образованием, вероятно, согласятся с ученым, который, обращаясь к широкой аудитории, признает, что «ученому очень трудно обсуждать понятие [свободы], отчасти потому, что он в конечном счете неуверен, что нечто подобное существует»[146 - Waddington СИ. The Scientific Attitude. Pelican Books; Harmondsworth: Penguin Books, 1941. P. 110. См. также: «Я вообще отрицаю, что свобода существует. Я должен отрицать ее, или моя программа будет абсурдной. Не может быть науки о предмете, который скачет туда-сюда по собственному капризу» (Skinner В.F. Walden Two. New York: Macmillan, 1948. P. 257). См. также работу: Skinner В.F. Science and Human Behaviour. New York: Macmillan, 1953, которая являет собой самый крайний пример антилиберального подхода, принятого современными представителями «наук о поведении».]. Да, впоследствии физики и в самом деле отказались (по-видимому, с некоторым облегчением) от идеи всеобщего детерминизма. Однако сомнительно, что новая концепция подчиненности мира всего лишь статистической регулярности каким-либо образом влияет на решение загадки свободы воли. Так как, судя по всему, трудности, с которыми люди сталкиваются, пытаясь понять смысл произвольности действий и ответственности за них, вовсе не вытекают логически из веры в причинную детерминированность человеческих действий, а рождаются интеллектуальной путаницей, приводящей к заключениям, которые никак не следуют из посылок.
По-видимому, утверждение, что воля свободна, имеет столь же мало смысла, как и отрицание этого, и вся эта проблема иллюзорна[147 - Это ясно понимал уже Джон Локк, который говорил о «невразумительном вследствие непонятности вопросе о том, свободна ли человеческая воля или нет. Ведь если я не ошибаюсь, то из сказанного мною следует, что вопрос сам по себе совершенно неправилен» (Locke J. An Essay concerning Human Understanding. London: Printed for Thomas Basset and sold by Edward Могу, 1690. Bk. 2. Ch. 14. Sec. 14 [Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Кн. 2, 14 // Он же. Сочинения: В 3 т. M.: Мысль, 1985. Т. 1. С. 292]); и даже Томас Гоббс (Hobbes Т. Leviathan; or, The Matter, Forme, and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil / Ed. by M. Oakeshott. Oxford: B. Blackwell, 1946. P. 137-138 [Гоббс T. Левиафан // Он же. Сочинения: В 2 т. M.: Мысль, 1989-1991. Т. 2. С. 163-164]). Позднейшие высказывания об этом см.: Comperz Н. Das Problem der Willensfreiheit. Jena: Diedrichs, 1907; SchlickM. Problems of Ethics. New York: Prentice-Hall, 1939; Broad C.D. Determinism, Indeterminism, and Libertarianism: An Inaugural Lecture. Cambridge: Cambridge University Press, 1934; Hare R.M. The Language of Morals. Oxford: Clarendon Press, 1952; Hart H.L.A. The Ascription of Responsibility and Rights // Proceeding of the Aristotelian Society. 1949. Vol. 49. P. 171-194, переиздано в: Logic and Language. 1
ser. / Ed. by A. Flew. Oxford: B. Blackwell, 1951. P. 145-166; Nowell-Smith P. H Free Will and Moral Responsibility // Mind. 1948. Vol. 17. P. 45-61, и того же автора: Idem. Ethics. Pelican Books; London: Penguin Books, 1954; Mabbott ID. Freewill and Punishment // Contemporary British Philosophy: Personal Statements, 3
Series / Ed. by H.D. Lewis. London: Allen and Unwin, 1956. P. 287-309; Campbell C.A. Is Free Will a Pseudo-Problem // Mind. 1951. Vol. 60. P. 441-465; MacKay D.M. On Comparing the Brain with Machines // Advancement of Science. (British Association Symposium on Cybernetics.) 1954. Vol. 10. P. 402-406, особенно c. 406; Determinism and Freedom in the Age of Modern Science: A Philosophical Symposium / Ed. by S. Hook. New York: New York Press, 1958; Kelsen H. Causality and Imputation // Ethics. 1950-1951. Vol. 61. P. 1-11; Pap A. Determinism and Moral Responsibility // Journal of Philosophy. 1946. Vol. 43. P. 318-327; Farrer A.M. The Freedom of the Will: The Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh, 1957. London: Adam and Charles Black, 1958.], спор о словах, в котором спорящие стороны не договорились о том, что значит положительный или отрицательный ответ. Безусловно, отрицающие свободу воли лишают слово «свобода» его обычного значения, связанного с действием, совершаемым по собственной, а не по чужой воле; чтобы избежать бессмысленности, им следовало бы предложить другое определение, чего они никогда не делают[148 - См.: «Таким образом, мы можем подразумевать под свободой только способность действовать или не действовать сообразно решениям воли» (Hume D. An Enquiry concerning Human Understanding // Hume. Essays. Vol. 2. P. 78 [Юм Д. Исследование о человеческом познании // Он же. Сочинения: В 2 т. M.: Мысль, 1996. T. 2. С. 81]). См. также обсуждение вопроса в моей книге: Науек F.A. The Sensory Order. Chicago: University of Chicago Press, 1952. Secs. 8.93-8.94.]. Более того, само представление о том, что «свобода» в каком-либо содержательном или существенном смысле исключает идею, что действие с необходимостью определяется некими факторами, оказывается при ближайшем рассмотрении совершенно необоснованным.
Путаница становится очевидной, если проанализировать выводы, к которым приходят обе стороны в соответствии со своими позициями. Детерминисты обычно доказывают, что поскольку действия людей полностью определяются естественными причинами, нет никаких оснований говорить об их ответственности, хвалить или порицать то, что они делают. Волюнтаристы, со своей стороны, утверждают, что поскольку в человеке существует некое действующее начало, стоящее вне цепи причин и следствий, это действующее начало является носителем ответственности и законным объектом похвалы или порицания. Мало оснований сомневаться, что в плане практических выводов волюнтаристы ближе к истине, тогда как детерминисты просто зашли в тупик. Но, как ни странно, ни у одной из сторон этого спора выводы не следуют из заявленных посылок. Как неоднократно было показано, концепция ответственности опирается фактически на детерминистскую точку зрения[149 - Хотя это утверждение кажется парадоксом, оно восходит к Давиду Юму и даже к Аристотелю. Юм четко сформулировал: «Поступки какого-либо лица могут быть поставлены ему в заслугу или вменены в вину только при условии принципа необходимости, хотя бы общее мнение и склонялось к противоположному взгляду» (Hume. Treatise of Human Nature. Vol. 2. P. 192 [Юм. Трактат о человеческой природе. С. 454]). Об Аристотеле см.: Simon Y. Traitй du libre arbitre. Liиge: Sciences et lettres, 1951. P. 93–99; Heman C.F. Des Aristoteles Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens. Leipzig: Fues’s R. Riesland, 1887, особенно с. 168–194, которые цитируются в книге Симона. Более новые публикации см.: Hobart R.E. Free Will as Involving Determination and Inconceivable without It // Mind. 1934. Vol. 43. P. 1–27; Foot P. Free Will as Involving Determinism // Philosophical Review. 1957. Vol. 66. P. 439–450.], тогда как только конструкция метафизического «я», пребывающего вне цепи причинно-следственных связей, а потому не затрагиваемого ни хвалой, ни порицанием, может обосновать освобождение человека от ответственности.
3. Конечно, можно было бы для иллюстрации заявленной детерминистской позиции сконструировать автомат, который неизменно предсказуемым образом реагировал бы на все события окружающего мира. Однако эта конструкция не соответствовала бы ни одной позиции, всерьез отстаиваемой даже самыми крайними оппонентами «свободы воли». Они утверждают, что поведение личности в каждый момент времени, ее реакция на тот или иной набор внешних обстоятельств определяются совместным действием наследственной внутренней организации и всего предшествующего опыта, так что каждый новый опыт интерпретируется в свете всего предыдущего индивидуального опыта, – кумулятивный процесс, порождающий в каждом случае отдельную уникальную личность. Эта личность действует как своего рода фильтр для внешних событий, вызывая соответствующее поведение, которое может быть с уверенностью предсказано только в исключительных обстоятельствах. Детерминистская позиция утверждает, что совокупные результаты наследственности и прошлого опыта составляют целое индивидуальной личности и поэтому не существует никакого другого «я», на характер которого не влияли бы никакие внешние или материальные факторы. Это значит, что все те факторы, влияние которых порой непоследовательно отрицают те, кто не признает «свободу воли», такие как рассуждение и аргументация, убеждение или порицание, ожидание похвалы или неодобрения, на самом деле относятся к числу наиболее важных, определяющих личность, а через нее и отдельные действия человека. Именно потому, что не существует никакого отдельного «я», которое пребывало бы вне цепи причинно-следственных связей, не существует и такого «я», на которое мы не могли бы попытаться разумно повлиять с помощью вознаграждения и наказания[150 - Наиболее крайняя детерминистская позиция тяготеет к отрицанию того, что у термина «воля» есть какой-либо смысл (употребление этого слова было даже запрещено в некоторых направлениях супернаучной психологии) или что существует такая вещь, как произвольное действие. Но даже те, кто придерживается такой позиции, не могут избежать различения между действиями, на которые могут влиять рациональные соображения, и теми, которые не поддаются такому влиянию. Но в этом все и дело. Они будут вынуждены признать – и это оказывается reductio ad absurdum для их позиции, – что то, верит или не верит человек в свою способность составлять и осуществлять планы (что обычно и подразумевается под утверждением, что его воля свободна или не свободна), может сильно влиять на то, что он будет делать.].
О тех пор как это было написано, французская традиция шаг за шагом повсеместно вытеснила английскую[94 - Одно из объяснений того, почему французские представления о свободе были столь привлекательными, предложил Фридрих Науманн в уже цитировавшемся выше трактате «Идеал свободы». Он писал: «Die L?nder, wo der Sieg der Freiheit das hei?t in diesem Falle der gleichen Rechte (!) am vollkommensten ist, sind vom Standpunkt liberaler Romantik die langweiligsten, den in ihnen gibt es keine Freiheitsk?mpfer mehr, h?chstens noch einen gewissen pharis?ischen Stolz denen gegen?ber, die noch nicht so weit sind, und ein gewisses erhabenes Mitleid f?r die Opfer zur?ckgebliebener Zust?nde. So etwa erscheint bisweilen der englische Liberalismus» [«Страны, в которых свобода (то есть равенство в правах) достигла наиболее полной победы, с точки зрения либерального романтизма являются самыми скучными, поскольку там больше нет никаких борцов за свободу, а то, что там осталось, представляет собой по большей части род фарисейской гордыни по отношению к странам, которые не продвинулись так далеко, и что-то вроде чувства жалости к народам, находящимся в столь отсталом состоянии. Именно таким в общих чертах выглядит английский либерализм»] (Naumann F. Das Ideal der Freiheit. P. 16-17).Одним из самых удивительных эпизодов Первой мировой войны был спор поверх линии фронта между французскими и немецкими интеллектуалами о том, какая их этих стран раскрыла секрет социальной организации. См.: Labadiе J. L’Allemagne: A-t-elle le secret de l’organisation? Paris: Biblioth?que de l’Opinion, 1916. Для англичанина было бы затруднительно выдвинуть такие претензии от имени своей страны. В этом контексте стоит вспомнить о дискуссии по поводу роли «организации» в наполеоновскую эпоху.]. Чтобы разделить эти две традиции, необходимо о братиться к их относительно чистым формам, в которых они появились в XVIII веке. То, что мы называем «британской традицией», было подробно разработано группой шотландских моральных философов во главе с Давидом Юмом, Адамом Смитом и Адамом Фергюсоном[95 - Хорошее изложение философии роста, ставшей интеллектуальным основанием политики свободы, еще не написано, и я не делаю здесь такой попытки. Более полное описание шотландско-английской школы и ее отличий от французской рационалистической традиции см.: Forbes D. Scientific Whiggism: Adam Smith and John Millar // Cambridge Journal. 1954. Vol. 7. P. 643-670, а также в моей лекции «Индивидуализм: истинный и ложный»(Науек F.A. Individualism, True and False. Dublin: Hodges Figgis, 1946; reprinted in: Idem. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, 1948. P. 1-32 [Хайек Ф.А. Индивидуализм: истинный и ложный // Он же. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000. С. 18-43]). В последней, в частности, отмечена роль, которую сыграл в этой традиции Бернард Мандевиль, о чем я здесь не упоминаю. Дополнительные ссылки можно найти в более ранней версии этой статьи: Науек F.A. Freedom, Reason, and Tradition // Ethics. 1958. Vol. 68. P. 229-245.], за которыми последовали их английские современники Джозайя Такер, Эдмунд Бёрк и Уильям Пейли, и представляло собой развитие традиции, коренившейся в теории общего права[96 - Прежде всего см. работу сэра Мэтью Хейла, опубликованную как приложение к труду Уильяма Холдсворта: Sir Mathew Hale’s Criticism on Hobbes Dialogs on the Common Law // Holdsworth W.S. A History of English Law. London: Methuen, 1924. Vol. 5. P. 504-505.]. Им противостояла традиция французского Просвещения, глубоко пропитанная картезианским рационализмом. Ее наиболее известные представители – энциклопедисты и Руссо, физиократы и Кондорсе. Разумеется, линия раздела не вполне совпадала с национальными границами. Такие французы, как Монтескье, Бенжамен Констан и в первую очередь Алексис де Токвиль, вероятно, располагаются ближе к тому, что мы называем «британской» традицией, чем к «французской»[97 - Соотечественники нередко считали Монтескье, Констана и Токвиля англоманами. Констан учился в Шотландии, а Токвиль мог сказать о себе: «Столь многие мои чувства и мысли разделяются англичанами, что Англия стала для моего разума второй родиной» (Tocqueville A. de. Journeys to England and Ireland / Ed. and trans. by J.P. Mayer. New Haven: Yale University Press, 1958. P. 13). Более полный перечень французских мыслителей, принадлежащих скорее к эволюционной «британской», чем к рационалистической «французской» традиции должен включать молодого Тюрго и де Кондильяка.]. А Британия дала миру по крайней мере одного из основателей рационалистической традиции – Томаса Гоббса – не говоря уж о целом поколении энтузиастов французской революции, таких как Годвин, Пристли, Прайс и Пейн, которые (подобно Джефферсону после его пребывания во Франции[98 - О том, как в результате длительного пребывания во Франции Джефферсон перешел от «британской» традиции к «французской», см. важную работу: Vossler О. Die amerikanischen Revolutionsideale in ihrem Yerhaltnis zn den europaischen: untersucht an Thomas Jefferson. Munich: Oldenbonrg, 1929.]) принадлежали исключительно ей.
2. Хотя сегодня об этих двух группах обычно говорят как об одном целом – как о предшественниках современного либерализма, вряд ли можно вообразить больший контраст, чем между их представлениями об эволюции и функционировании социального порядка и о той роли, которую в нем играет свобода. Это отличие напрямую восходит к преобладанию эмпирицистского в основе своей представления о мире в Англии и рационалистического во Франции. Главная разница в практических выводах, вытекающих из этих подходов, недавно была удачно сформулирована следующим образом: «Один усматривает сущность свободы в спонтанности и отсутствии принуждения, другой же считает, что свобода может быть реализована только в поиске и достижении абсолютной коллективной цели»[99 - Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. London: Seeker and Warburg, 1952. P. 2.]; кроме того, «один выступает за органичный, медленный, полуосознанный рост, а другой – за доктринерскую продуманность; один привержен процедуре проб и ошибок, а другой – проведению в жизнь единственно верной модели»[100 - Ibid. Р. 71. См. также: Mumforc L L. Faith for Living. New York: Harconrt, Brace and Co., 1940. P. 64-66, где противопоставлены «либерализм идеала» и «прагматичный либерализм», а также: Collier D. S., McGovern W.M. Radicals and Conservatives. Chicago: H. Regnery Co., 1958. P. 9-20, где проводится различие между «консервативными либералами» и «радикальными либералами». См. также высказывание Менгера об «одностороннем рационалистическом либерализме» (einseitigen rationalistischen Liberalismus), в котором он ошибочно обвинял Адама Смита (Мепдег: Untersuchungen. Р. 207 [Менгер. Избранные работы. С. 433]).]. Как показал Д.Л. Тальмон, из важной книги которого взяты эти формулировки, именно второй подход стал источником тоталитарной демократии.
Широкий успех политических доктрин, возникших в русле французской традиции, вероятно, объясняется тем, что они привлекательны для человеческой гордыни и тщеславия. Но мы не должны забывать, что политические выводы двух школ вытекают из разных представлений о том, как функционирует общество. В этом отношении британские философы заложили основу глубокой и по сути своей верной теории, тогда как рационалистическая школа была просто-напросто полностью ошибочной.
Эти британские философы дали нам интерпретацию роста цивилизации, до сих пор остающуюся обязательным основанием аргументации в пользу свободы. Они считали, что институты возникают не из чьих-либо планов или замыслов, а благодаря выживанию преуспевающих. Их взгляд выражен формулой: «Целые нации спотыкаются о те установления, которые представляют собой несомненно человеческое деяние, хотя и непреднамеренное»[101 - Ferguson A. An Essay on the History of Civil Society. P. 187 [Фергюсон А. Опыт истории гражданского общества. M.: РОССПЭН, 2000. С. 188].]. Здесь подчеркивается, что то, что мы называем политическим строем, в гораздо меньшей мере является плодом нашего упорядочивающего интеллекта, чем это принято думать. Адаму Смиту и его современникам, как отмечали их непосредственные преемники, удалось «свести почти все, что ранее приписывалось позитивным институтам, к спонтанному и неудержимому развитию определенных очевидных принципов – и показать, сколь мало нужно было изобретательности и политической мудрости для того, чтобы смогли возникнуть самые сложные и, на первый взгляд, искусственные системы политики»[102 - [Jeffrey F.] Craig’s Life of Millar // Edinburgh Review. 1807. Vol. 9. P. 84. Гораздо позже Фредерик У. Мейтленд высказал в каком-то из своих текстов сходную мысль о том, что «действуя эмпирическим образом, блуждая наугад, мы наталкиваемся на мудрость» (Maitland F. W. Outlines of English Legal History, 560–1600 // The Collected Papers of Frederic William Maitland / Ed. by H.A.L. Fisher. Cambridge University Press, 1911. Vol. 2. P. 439).].
Это «антирационалистическое понимание исторических событий, общее для Адама Смита, Юма, Адама Фергюсона и других»[103 - Forbes D. Scientific Whiggism: Adam Smith and John Millar // Cambridge Journal. 1954. Vol. 7. P. 645. Роль шотландских моральных философов как предшественников культурной антропологии была великодушно признана в работе: Evans-Pritchard Е.Е. Social Anthropology. London: Cohen and West, 1951. P. 23-25.] позволило им первыми постичь, каким образом институты и нравы, язык и право формировались в процессе кумулятивного роста и что только таким образом развился и смог успешно действовать человеческий разум. Их аргументация всецело направлена против картезианской концепции изначально и независимо существующего человеческого разума, который изобрел эти институты, и против концепции, согласно которой гражданское общество было сформировано неким мудрым законодателем, или первоначальным «общественным договором»[104 - Мизес пишет в связи с идеей общественного договора: «Рационализм не мог найти никакого другого объяснения после отказа от прежней веры, которая возводила общественные установления к божественным источникам или по крайней мере к озарению, посещавшему человека по божественному вдохновению. Поскольку результатом стало существующее положение вещей, люди рассматривали развитие общественной жизни как совершенно целесообразное и разумное. Как бы еще могло совершиться все это развитие, если не посредством сознательного выбора, признаваемого целесообразным и разумным?» (Mises L. von. Socialism / New ed. New Haven: Yale University Press, 1951. P. 43 [Мизес Л. фон. Социализм. M.: Catallaxy, 1994. С. 33]).]. Эта последняя идея о разумных людях, сошедшихся для обсуждения того, как пересоздать мир заново, пожалуй, самый характерный продукт этих теорий замысла (design theories). Она нашла свое совершеннейшее выражение, когда ведущий теоретик французской революции аббат Оийес призвал революционную ассамблею «действовать как люди, только что вышедшие из природного состояния и собравшиеся с целью подписать общественный договор»[105 - Цит. по: Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. London: Seeker and Warburg, 1952. P. 73.].
Древние лучше понимали условия свободы. Цицерон цитирует Катона, сказавшего, что римская конституция превосходит конституции других государств, потому что «создана умом не одного, а многих людей и не в течение одной человеческой жизни, а в течение нескольких веков и на протяжении жизни нескольких поколений. Ибо, говорил Катон, никогда не было такого одаренного человека, от которого ничто не могло бы ускользнуть, и все дарования, сосредоточенные в одном человеке, не могли бы в одно и то же время проявиться в такой предусмотрительности, чтобы он мог обнять все стороны дела, не обладая долговременным опытом»[106 - Цицерон. О государстве. II.1.2 [перевод В.О. Горенштейна]; см. также: 11.21.37 [«Вот и подтверждаются слова Катона, говорившего, что государство создается не сразу и не одним человеком. Ибо мы видим, как много благодетельных и полезных установлений прибавил каждый из царей»]. Я обратил внимание на этот источник благодаря лекциям профессора Бруно Леони, ныне опубликованным в виде книги: Leoni В. Freedom and the Law. Princeton, NJ: D. van Nostrand, 1961. P. 89 [Леони Б. Свобода и закон. М.: ИРИСЭН, 2008. С. 107-108]. Нераций, позднейший римский юрист, цитируемый в «Corpus inris civilis», доходит даже до того, что призывает юристов: «Rationes eorum quae constituuntur inquiri non oportet, alioquin multa ex his quae certa sunt subvertuntur» [«Мы должны воздерживаться от исследований разумных причин существования наших установлений, иначе многое, что считается несомненным, будет ниспровергнуто»] (Scott 8.Р. The Civil Law. Cincinnati: Central Trust Co., 1932. Vol. 2. P. 224. [Оригинал: Нераций. Пергаменты. Кн. VI. – Ред.]). Хотя в этом отношении греки были несколько более рационалистичны, нельзя сказать, что у них отсутствовала сходная концепция роста права. См., например, речь афинского оратора, где он говорит о законах, имеющих то «отличие, что они самые старые в этой стране… и это самый надежный признак хороших законов, потому что время и опыт показывают людям, что является несовершенным» (Antiphon. On the Choreutes. Par. 2 // Minor Attic Orators / Ed. by K.J. Maidment. Cambridge. MA: Harvard University Press, 1941. Vol. I. P. 247).]. Таким образом, ни республиканский Рим, ни Афины – две свободных страны древнего мира – не могут служить моделью для рационалистов. Для Декарта, родоначальника рационалистической традиции, образцом была Спарта, потому что она была великой «не оттого, что законы ее были хороши каждый в отдельности… но потому, что все они, будучи составлены одним человеком, направлялись к одной цели»[107 - Descartes R. A Discourse on Method / Ed. by Everyman. London: Dent, 1912. Pt. 2. P. 11 [Декарт P. Сочинения: В 2 т. M.: Мысль, 1989. T. 1. С. 257].]. Именно Спарта стала идеалом свободы для Руссо, как и для Робеспьера и Сен-Жюста, а равно и для большинства позднейших сторонников «социальной», или тоталитарной демократии[108 - Ср.: Talmon J.L. The Origins of Totalitarian Democracy. London: Seeker and Warburg, 1952. P. 142. О влиянии спартанского образца на греческую философию и особенно на Платона и Аристотеля см.: Ollier Р. Le Mirage spartiate: Etude sur l’idealisation de Sparte dans l’antiquite grecque, de l’origine, jusqu’aux Cyniques. Paris: E. de Boccard, 1933; Popper K.R. The Open Society and Its Enemies. London: G. Routledge and Co., 1945 [Поппер K.P. Открытое общество и его враги. В 2 т. M.: Феникс, Международный фонд «Культурная инициатива», 1992].].
Как и в древности, современные британские концепции свободы сформировались на фоне понимания того, как возникали институты, – и первыми это поняли юристы. «Есть много вещей, особенно в законах и в управлении, – писал в XVII веке, критикуя Гоббса, верховный судья Хейл, – которые по опосредствованным, отдаленным и косвенным основаниям заслуживают того, чтобы быть одобренными, хотя разум заинтересованной стороны в данный момент этого не усматривает с непосредственностью и определенностью. <…> Длительный опыт совершает больше открытий в отношении достоинств или недостатков законов, чем мог бы заранее предвидеть совет мудрейших мужей. И эти поправки и дополнения, которые благодаря разнообразному опыту мудрых и знающих людей были внесены в каждый закон, неизбежно делают законы более пригодными к применению, чем лучшие ухищрения самых изобретательных и острых умов, не располагающих подобным длительным опытом. <…> Из-за этого труднее понимать основания законов в настоящем, потому что они – порождение долгого и повторяющегося опыта, который, хотя обычно и именуется „умом глупцов“, но определенно оказывается самым благоразумным подручным средством человеческого рода и выявляет те недостатки и необходимые дополнения, которые никакое хитроумие не сможет сразу предвидеть или предложить. <…> Не обязательно, чтобы нам были открыты причины и основания институтов. Достаточно того, что это установленные законы, которые дают нам определенность, и их разумно соблюдать, хотя нам не известна конкретная причина, по которой они появились»[109 - Sir Mathew Hale’s Criticism on Hobbes Dialogs on the Common Law // Holdsworth W.S. A History of English Law. London, 1924. Vol. 5. P. 504-505. Холдсворт верно отмечает сходство некоторых из приводимых здесь аргументов с аргументами Эдмунда Бёрка. В конечном счете они, разумеется, представляют собой попытку развить идеи сэра Эдварда Кука (которого критиковал Гоббс), особенно его знаменитую концепцию «искусственного разума», которую он объясняет следующим образом: «Дни нашей жизни на земле – всего лишь тень в сравнении с прошедшим с древности временем, когда мудростью наилучших мужей, действовавших на протяжении многих поколений, на основании долгого и повторяющегося опыта (испытания на истину и правду) законы вновь и вновь совершенствовались, чего не мог бы достичь или совершить ни один человек любого поколения (живущий столь мало), обладай он даже мудростью всех людей мира» (Соке Е. Seventh Report / Ed. by I.H. Thomas, I.F. Fraser. London: J. Bntterworth and Son, 1826. Vol. 4. Pt. 7. P. 6). См. также пословицу юристов: «Per varios nsns experientia legem fecit» [«Через различное применение опыт становится законом»]. См.: Рососк J.G.A. The Ancient Constitution and the Feudal Law. New York: Cambridge University Press, 1957, а также: «Подобно тому как о всяком искусстве или науке, достигших совершенства, говорят „Per varios usus artem experiential fecit“, так и о нашем праве можно с полным правом сказать „Per varios usus Legem experiential fecit“. Долгий опыт и многочисленные попытки выявления того, что наилучшим образом служит общему благу, создали систему общего права» (Davies J. Les Reports des Cases en Lay. London, 1612 [это издание обычно цитируется как Irish Reports]. Предисловие).].
3. Из этих представлений постепенно возникла социальная теория, которая показала, каким образом в отношениях между людьми могут возникнуть сложные, упорядоченные и, в определенном смысле, весьма целенаправленные институты, которые почти никак не связаны с чьим-либо замыслом, не были никем изобретены, но возникли в результате отдельных действий множества людей, не знавших, что именно они делают. Нечто, превышающее возможности отдельного человеческого ума, может вырасти из осуществляемых наугад людских усилий – демонстрация этого представляла собой в некоторых отношениях больший вызов всем теориям замысла, чем даже возникшая впоследствии теория биологической эволюции. Впервые было показано, что наблюдаемый порядок, не являющийся плодом планирующего человеческого разума, не обязательно приписывать замыслу более высокого сверхъестественного разума, поскольку существует и третья возможность – возникновение порядка в результате эволюционной адаптации[110 - Обстоятельное исследование этих проблем, начиная с парадокса Бернарда Мандевиля и заканчивая первой аргументированной формулировкой в «Диалогах о естественной религии» Давида Юма, еще только предстоит осуществить (см.: Hume. Treatise of Human Nature. Vol. 2. P. 380-468 [Юм. Трактат о человеческой природе. С. 379-482]). Лучшим из известных мне обсуждений характера этого процесса социального развития до сих пор остается: Мепдег. Untersnchungen. Bk. 3 и Appendix 8, особенно с. 163-165, 203-204 прим., 208 [Мепгер. Избранные работы; книга третья «Органическое понимание социальных явлений», особенно с. 414-219, и приложение VIII «„Органическое“ происхождение права и точное уразумение его», особенно с. 479-482, 489]. См. также обсуждение «принципа, сформулированного Фрэйзером (Frazer J.G. Psyche’s Task. London: Macmillan, 1909. P. 4) и поддержанного Малиновским и другими антропологами, согласно которому любой институт сохраняется только до тех пор, пока он выполняет какую-либо полезную функцию» (Macbeath A. Experiments in Living: A Study of the Nature and Foundation of Ethics or Morals in the Light of Recent Work in Social Anthropology. London: Macmillan, 1952. P. 120, 120n), и добавленное в сноске замечание: «Но функция, которой он служит в данное время, может быть совсем не той, для которой он был создан изначально»; и следующее место, в котором лорд Актон обозначает, как он продолжил бы свои краткие очерки, посвященные свободе в Античности и христианстве: «Я должен был бы… рассказать, кем и в какой связи был обнаружен истинный закон формирования свободных государств и как это открытие, тесно родственное тем, которые под именами развития, эволюции и непрерывности дали новый и более глубокий метод другим наукам, разрешило древнее противоречие между потребностью в стабильности и необходимостью перемен и выявило авторитет традиции в процессе развития мысли; как [возникла] теория, которую сэр Джеймс Макинтош выразил словами: „конституции не делаются – они вырастают“; теория, согласно которой законы творятся обычаем и национальными качествами управляемых, а не волей правительства» (Acton. History of Freedom. P. 58 [Актон. Очерки становления свободы. С. 99-100]).].
Поскольку тот акцент, который мы сегодня делаем на роли отбора в социальной эволюции, по-видимому, создает впечатление, что мы позаимствовали эту идею из биологии, на самом деле – и это надо подчеркнуть – дело обстоит как раз наоборот: несомненно, Дарвин и его современники почерпнули эту идею именно из теорий социальной эволюции[111 - Я говорю здесь не о признанном факте использования Дарвином теории народонаселения Мальтуса (а через него и Кантильона), а об общей атмосфере эволюционной философии, определявшей способы мышления на общественные темы в XIX веке. Хотя это влияние не прошло незамеченным (см., например: Osborn H.F. From the Greeks to Darwin:An Outline of the Development of the Evolution Idea. New York: McMillan and Co., 1894. P. 87), оно не было систематически исследовано. Я убежден, что такое исследование показало бы, что большая часть использованного Дарвином понятийного аппарата была разработана до него. Одним из тех, через кого Дарвин мог познакомиться с шотландской эволюционной традицией, был, возможно, шотландский геолог Джеймс Хаттон.]. Более того, один из тех шотландских философов, которые первыми приступили к развитию этих идей, опередил Дарвина даже в области биологии[112 - См.: Lovejoy А.О. Monboddo and Rousseau [1983] // Modern Philology. 1933. Vol. 30. P. 275-296; переиздано: Idem. Essays in the History of Ideas. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1948. P. 38-61.]; а последующее использование этих концепций различными «историческими школами» в области права и языка сделало идею, согласно которой сходство структуры может объясняться общностью происхождения[113 - Пожалуй, показательно то, что в области лингвистики это первым ясно увидел сэр Уильям Джонс, который был юристом по образованию и вигом по убеждениям, причем влиятельным представителем этого направления. Ср. с его знаменитым высказыванием в «Третьем ежегодном докладе», опубликованном 2 февраля 1786 года: «Язык санскрит при всей его древности имеет поразительную структуру; он совершеннее греческого, богаче латыни, отличается более совершенным изяществом и при этом его близость к ним – как по корням слов, так и по грамматическими формам – больше, чем можно было бы объяснить чистой случайностью; эта близость настолько велика, что ни один филолог, изучивший все три языка, не может не поверить, что они возникли из некоего общего источника, возможно, более не существующего» (Jones W. Third Anniversary Discourse // Asiatic Researches. 1786. Vol. I. P. 422; переиздано: Idem. Works. London: Printed for John Stockdale, Piccadilly, and John Walker, Paternoster Row, 1807. Vol. 3. P. 34). Взаимосвязь между размышлениями о языке и о политических институтах наилучшим образом выражена в одной из самых полных, хотя и довольно поздних формулировок доктрины вигов, сделанной в лекциях Дугальда Стюарта: Stewart D. Lectures on Political Economy [1809-1810] // The Collected Works of Dugald Stewart. Edinburgh, 1856. Vol. 9. P. 422-424. Большие выдержки из этой работы были процитированы в примечании к предыдущему варианту этой главы (Ethics. 1958. Vol. 68). Это обстоятельство имеет особую важность в силу влияния Стюарта на последнюю группу вигов – кружок, издававший Edinburgh Review. Случайно ли то, что величайший из философов свободы в Германии, Вильгельм фон Гумбольдт, также был одним из величайших исследователей теории языка в этой стране?], общим местом в исследовании общественных явлений задолго до того, как она нашла свое применение в биологии. Печально, что впоследствии социальные науки вместо того, чтобы развивать собственные начала, в свою очередь позаимствовали некоторые из этих идей у биологии, и в них проникли и такие концепции, как «естественный отбор», «борьба за существование» и «выживание самых приспособленных», которые неприменимы в их собственной сфере, поскольку в области социальной эволюции решающий фактор не отбор физических и наследуемых свойств особей, а действующий через подражание отбор успешных институтов и привычек. Хотя этот отбор тоже действует через успешность индивидов и групп, но в итоге возникают не наследуемые признаки индивидов, а идеи и навыки – короче говоря, все культурное наследие, которое передается посредством обучения и подражания.
4. Для детального сопоставления двух традиций потребовалась бы отдельная книга, мы же ограничимся здесь только рядом критически важных различий.
В то время как рационалистическая традиция предполагает, что человек изначально наделен интеллектуальными и моральными достоинствами, позволяющими ему целенаправленно создавать цивилизацию, эволюционисты ясно показали, что цивилизация – результат накопленных проб и ошибок, которые дались нам нелегко, что она представляет собой сумму опыта, отчасти передававшегося от поколения к поколению в виде явного знания, но в гораздо большей степени воплощенного в инструментах и институтах, доказавших свое превосходство, – в институтах, значение которых может быть обнаружено с помощью анализа, но которые служат целям людей и без того, чтобы сами люди их понимали. Шотландские теоретики отлично осознавали хрупкость этой искусственной структуры цивилизации, которая зиждится на том, что примитивные и дикие инстинкты человека сдерживаются и укрощаются институтами, которых он не создавал и которые не может контролировать. Они были очень далеки от наивных представлений, которые позднее были несправедливо приписаны их либерализму, таких как «природная доброта человека», существование «естественной гармонии интересов» или благотворные последствия «естественной свободы» (хотя последнее выражение они порой использовали). Они знали, что для разрешения конфликта интересов необходимы далекие от естественности институты и традиции. Проблема, которую они перед собой ставили, состояла в том, чтобы понять, каким образом «универсальная движущая сила человеческой природы, себялюбие, может получить в этом случае (как и во всех других) такое направление, чтобы те усилия, которые предпринимаются для достижения собственных целей, служили бы общественному интересу»[114 - Tucker J. The Elements of Commerce [1755] ft Idem. A Selection from his Economic and Political Writings / Ed. by R.L. Schuyler. New York: Columbus University Press, 1931. P. 92.]. Благотворными эти индивидуальные усилия делала не «естественная свобода» в буквальном смысле, а институты, развившиеся для защиты «жизни, свободы и собственности»[115 - To, что благотворность работы экономической системы, в частности для Адама Смита, определяется не буквально понимаемой «естественной свободой», а свободой в рамках закона, ясно выражено в его книге «Исследование о природе и причинах богатства народов»: «Та уверенность, которую законы Великобритании дают каждому человеку в том, что он сможет пользоваться плодами своего труда, сама по себе уже является достаточной для процветания любой страны, несмотря на те или другие нелепые правила о торговле; и эта уверенность была упрочена революцией как раз около того времени, когда была установлена премия. Естественное стремление каждого человека улучшить свое положение, если ему обеспечена возможность свободно и беспрепятственно проявлять себя (security), представляет собой столь могущественное начало, что одно оно не только способно без всякого содействия со стороны довести общество до богатства и процветания, но и преодолеть сотни досадных препятствий, которыми безумие человеческих законов так часто затрудняет его деятельность» (Smith. Wealth of Nations. Bk. 4. Ch. 5. Vol. 2. P. 42-43 [Смит. Богатство народов. С. 517]). Ср.: «Теория политической экономии, которая возникает в „Богатстве народов“, может рассматриваться как последовательная теория права и законодательства… знаменитое высказывание о невидимой руке предстает как сущность взгляда Адама Смита на право» (Cooke С.A. Adam Smith and Jurisprudence // Law Quarterly Review. 1935. Vol. 51. Р. 328); а также интересное обсуждение: Cropsey J Polity and Economy: An Interpretation of the Principles of Adam Smith. The Hague: M. Mjhof, 1957. Примечательно, что общее рассуждение Смита о «невидимой руке», «которая понуждает человека содействовать цели, о которой он не заботился», появляется уже у Монтескье, где он говорит, что таким образом «каждый, думая преследовать свои личные интересы, по сути дела стремится к общему благу» (Montesquieu. The Spirit of the Laws. Yol. 1. P. 25 [Монтескье. О духе законов. С. 31]). См. также: «Но республиканское и свободное правление были бы очевидным абсурдом, если бы определенные ограничения и контроль, установленные конституцией, не имели никакого реального влияния и не заставляли бы даже плохих людей действовать в интересах общественного блага» [Hume D. That Politics May Ne Reduced to a Science I I Hume. Essays. Vol. 1. P. 99 [Юм Д. О том, что политика может стать наукой // Он же. Сочинения: В 2 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 491]). А также: «Aber nun kommt die Natur dem verehrten, aber zur Praxis ohnm?chtigen allgemeinen, in der Vernunft gegr?ndeten Willen, und zwar gerade durch jene selbsts?chtigen Neigungen, zu H?lfe, so, dass es nur auf eine gute Organisation des Staats ankommt (die allerdings im Verm?gen der Menschen ist), jener ihre Kr?fte so gegen einander zu richten, dass der Erfolg f?r die Vernunft so ausf?llt, als wenn beide gar nicht da w?ren, und so der Mensch, wenn gleich nicht ein moralisch-guter Mensch, dennoch ein guter B?rgers zu sein gezwungen wird» [«Но здесь общей, основанной на разуме воле, почитаемой, но на практике бессильной, природа оказывает поддержку с помощью как раз тех же эгоистических склонностей, так что лишь от хорошей организации государства (а это во всяком случае под силу человеку) зависит, как направить силы этих склонностей, чтобы каждая из них или сдерживала разрушительное действие другой, или уничтожала его»] [Kant I. Zum ewigen Frieden:Ein philosophischer Entwurf// Idem. Werke / Ed. by Weischedel W. Wiesebaden: Insel-Verlag. 1956-1964. Vol. 6. P. 223-224 [Кант И. К вечному миру// Он же. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 7. С. 32]).]. В отличие от Бентама, ни Локк, ни Юм, ни Смит, ни Бёрк никогда не утверждали, что «всякий закон – это зло, ибо всякий закон есть нарушение свободы»[116 - Bentham J. Theory of Legislation / 5
ed. London: Trubner, 1887. P. 48.]. Их аргументация никогда не была аргументацией за абсолютное laissez-faire[117 - Экономическая система, в которой государство никак не вмешивается в сделки между частными лицами, не используя для этого ни регулирование, ни пошлины и субсидии, не устанавливая монополии и т.п. [Здесь и далее под знаком звездочки – примеч. науч. ред.], которое, как видно из самого выражения, также принадлежит французской рационалистической традиции и в своем буквальном смысле никогда не поддерживалось английскими классическими экономистами[118 - См.: MacGregor D.H. Economic Thought and Policy. London: Oxford University Press, 1949. P. 54-89; Robbins L. The Theory of Economic Policy in English Classical Political Economy. London: Macmillan, 1952. P. 42-46.]. Они знали лучше большинства своих будущих критиков, что успешно направляет индивидуальные усилия к общественно полезным целям не какая-то магия, а эволюция «хорошо построенных институтов», в рамках которых будет происходить примирение «правил и принципов соперничающих интересов и частичных выгод»[119 - Burke E. Thoughts and Details on Scarcity // Burke. Works. Vol. 7. P. 398.]. В действительности, их аргументация никогда не была сама по себе антигосударственной или анархистской, что было бы логически неизбежным результатом рационалистической доктрины laissez-faire; это была аргументация, принимавшая во внимание как необходимые функции государства, так и пределы его деятельности.
Разница особенно заметна в соответствующих посылках двух школ в отношении индивидуальной природы человека. Рационалистические теории замысла по необходимости исходили из предположения об индивидуальной склонности человека к рациональным действиям и его природной разумности и добродетельности. Эволюционная теория, напротив, показала, как определенные институциональные структуры побуждают человека использовать свой разум для получения наилучших результатов и как институты могут быть выстроены таким образом, чтобы от плохих людей было как можно меньше вреда[120 - См., например, контраст между суждением Д. Юма (Hume D. On the Independency of Parliament // Hume. Essays. Vol. 1. P. 117-118 [Юм Д. Сочинения: В 2 т. M.: Мысль, 1965. T. 2. С. 593]): «Политические писатели утвердили в качестве принципа, что, разрабатывая любую систему правления и фиксируя в конституции отдельные механизмы сдерживания и контроля, следует в каждом человеке предполагать мошенника, который во всех своих действиях не имеет других целей, кроме своего частного интереса» (по-видимому, здесь содержится отсылка к Макиавелли: «учредителю республики и создателю ее законов необходимо заведомо считать всех людей злыми» (Machiavelli Ж Discorsi, I, 3 [.Макиавелли Н. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия // Он же. Государь: Сочинения. M.: Эксмо-Пресс; Харьков: Фолио, 2001. С. 132])).Ср.: «Воля каждого человека, если она совершенно свободна от ограничений, неизменно приведет его к нравственности и добродетели» (Price R. Two Tracts on Civil Liberty, the War with America, and the Debts and Finances of the Kingdom. London, 1778. P. 11). См. также мою работу: Hayek F.A. Individualism and Economic Order. Chicago: University of Chicago Press, 1948. P. 11-12 [Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. M.: Изограф, 2000. С. 31-33].]. Здесь антирационалистическая традиция ближе к христианскому пониманию человека как существа греховного и склонного к заблуждениям, тогда как перфекционизм рационалистов оказывается в непримиримом конфликте с ним. Даже такая знаменитая фикция, как «экономический человек», изначально не была частью британской эволюционной традиции. Можно без больших преувеличений утверждать, что с точки зрения этих британских философов, человек по природе своей ленив и бездеятелен, непредусмотрителен и расточителен, и лишь давление обстоятельств может заставить его действовать экономно или заботиться о том, чтобы его цели соответствовали его средствам. Только Милль-младший ввел понятие homo oeconomicus, а также много чего другого, принадлежащего не к эволюционной, а к рационалистической традиции[121 - См.: Mill J.S. On the definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It // Idem. Essays on Some Unsettled Questions of Political Economy. London: J.W. Parker, 1844. P. 120-164 [Милль Дж.С. Об определении предмета политической экономии; и о методе исследования, свойственном ей // Милль. Основы. С. 987-1023].].
5. Но наибольшая разница между двумя подходами заключается в их представлениях о роли традиций и ценности всех других плодов неосознаваемого роста, происходящего на протяжении веков[122 - Эрнест Ренан в важном эссе о принципах и тенденциях либеральной школы («M. de Sacy et l’еcole libеrale»), впервые опубликованном в 1858 году, а позднее вошедшем в его «Essais de morale et de critique», замечает: «Le libеralisme, ayant la prеtention de se fonder uniquement sur le principes de la raison, croit d’ordinaire n’avoir pas besoin de traditions.L? est son erreur… L’erreur de l’еcole libеrale est d’avoir trop cru qu’il est facile de crеer la libertе par la rеflexion, et de n’avoir pas vu qu’un еtablissement n’est solide que quand il a des racines historiques… Elle ne vit pas que de tous ses efforts ne pouvait sortir qu’une bonne administration, mais jamais la libertе, puisque la libertе rеsulte d’un droit antеrieur et supеrieur ? celui de l’Еtat, et non d’une dеclaration improvisеe ou d’un raisonnement philosophique plus ou moins bien dеduit» [«Либерализм претендовал на то, что он основывается только на принципах разума, и обычно полагал, что не нуждается в традициях. Это его ошибка… Ошибка либеральной школы была в том, что она не видела, что прочно утвердиться можно только на исторических корнях… Она не видела, что из всех ее усилий может получиться только система администрации, но не свободы, потому что свобода возникает из права более древнего и более высокого, чем государственное, а не из непродуманных деклараций и философских рассуждений, более или менее несерьезных»] (ДепапЕ. Cuvres compl?tes / Ed. by H. Psichari. Paris: Calmann-Lеvy, 1947. Yol. 2. P. 45-46). См. также наблюдение, высказанное Роналдом Б. Маккаллумом во введении к своему изданию «О свободе» Джона Стюарта Милля: «Хотя Милль признает огромную власть обычая него полезность в определенных границах, он готов критиковать все правила, основывающиеся на нем и не имеющие разумного обоснования. Он замечает: „Люди проповедуют нам, что такие-то вещи справедливы, потому что они справедливы, потому что мы чувствуем, что они справедливы; они учат нас, что мы должны искать в нашем собственном уме и в нашем сердце законы поведения, обязательные как для нас самих, так и для всех других людей“. Эту позицию Милль, будучи рационалистическим утилитаристом, принять не мог. Это принцип „симпатии-антипатии“, который Бейтам рассматривал как основу всех систем, отличающихся от рационалистского подхода. В качестве политического мыслителя Милль стоял на той позиции, что все эти предположения, не имеющие разумного обоснования, должны быть подвергнуты глубокой и сбалансированной оценке мыслящих людей» (McCallum R.B. Introduction // Mill J.S. On Liberty and Considerations on Representative Government. Oxford: B. Blackwell, 1946. P. xv).]. Вряд ли будет несправедливым утверждение, что в этом рационалистический подход противостоит почти всему, что является специфическим плодом свободы и придает свободе ее ценность. Те, кто верит, что все полезные институты – намеренно созданные приспособления, и кто не может представить себе, чтобы нечто, служащее целям человека, не было бы сознательно спроектировано, – все они просто не могут не быть врагами свободы. Для них свобода равнозначна хаосу.
Однако для эмпирицистской эволюционной традиции ценность свободы состоит главным образом в возможностях, которые она открывает для роста того, что не было заранее намечено и задумано, и благотворное функционирование свободного общества опирается преимущественно на существование таких свободно выросших институтов. Возможно, подлинной веры в свободу никогда бы не было, и уж определенно не было бы успешных попыток построить свободное общество, если бы не было подлинного уважения к сложившимся институтам, к традициям и обычаям и «всем тем гарантиям свободы, которые формируются на основе давних неписаных законов и древних обычаев»[123 - Butler J. The Works of Joseph Butler / Ed. by W.E. Gladstone. Oxford: Clarendon Press, 1896. Vol. 2. P. 278.]. Каким бы парадоксальным это ни казалось, но, скорее всего, верно утверждение, что успешное свободное общество всегда в значительной мере будет обществом, ограниченным традицией[124 - Даже Герберт Баттерфилд, понимающий это лучше многих, видит «один из парадоксов истории» в том, что «имя Англии оказалось столь тесно связанным со свободой, с одной стороны, и с традицией – с другой» (Butterfield Н. Liberty in the Modern World. Toronto: Ryerson Press, 1952. P. 21).].
Это уважение к традиции и обычаю, к выросшим институтам и правилам, происхождения и оснований для возникновения которых мы не знаем, не означает, конечно, – как полагал, с характерным для рационалистов непониманием, Томас Джефферсон, – что мы «приписываем людям прежних веков мудрость, превышающую человеческую и… предполагаем, что сделанное ими не подлежит изменению»[125 - Jefferson T. The Works of Thomas Jefferson / Ed. by P.L. Ford. New York: G.P. Putnam’s Sons, 1904. Vol. 12. P. 11.]. Никоим образом не допуская, что создатели институтов были мудрее нас, эволюционная точка зрения исходит из того, что в результатах экспериментирования многих поколений может быть воплощено больше опыта, чем есть у любого отдельного человека.
6. Мы уже рассмотрели разные институты и обычаи, инструменты и способы действия, возникшие в ходе этого процесса и образующие унаследованную нами цивилизацию. Но нам нужно присмотреться к тем правилам поведения, сформировавшимся в рамках этого же процесса, которые образуют одновременно и плод, и условие свободы. Из всех обычаев и традиций, направляющих человеческие отношения, наиболее важны нравственные правила, но не только они. Мы понимаем друг друга и ладим между собой, способны успешно действовать в соответствии с нашими планами, потому что в большинстве случаев члены нашей цивилизации следуют бессознательным моделям поведения, демонстрируют регулярность в своих действиях, которая является следствием не приказов или принуждения и часто не сознательного следования известным правилам, а прочно утвердившихся привычек и традиций. Общее соблюдение этих обычаев – необходимое условие упорядоченности мира, в котором мы живем, и нашей способности ориентироваться в нем, хотя мы не знаем их значения и даже не всегда осознаем их существование. Если бы подобные нормы или правила не соблюдались с достаточной регулярностью, в некоторых случаях оказалось бы необходимым для нормального управления обществом прибегнуть к принуждению, чтобы обеспечить аналогичное единообразие поведения. Следовательно, в некоторых случаях возможно избежать принуждения только благодаря высокой степени добровольного подчинения нормам, а это означает, что добровольное подчинение может быть условием благотворного действия свободы. Все великие поборники свободы за пределами рационалистической школы не уставали подчеркивать ту истину, что свобода никогда не бывает действенной без глубоко укоренившихся нравственных убеждений и что принуждение может быть сведено к минимуму только там, где можно рассчитывать, что люди будут, в большинстве случаев, добровольно следовать определенным принципам[126 - См., например: «Люди пригодны для гражданской свободы ровно в той мере, в какой они готовы ограничить моральными узами свои аппетиты; в той мере, в какой их любовь к справедливости превышает их алчность; в той мере, в какой их здравомыслие и трезвость понимания превосходят их тщеславие и самомнение; в той мере, в какой они предпочитают слушать совет мудрых и добродетельных, а не лесть мошенников» (Витке Е. A Letter to a Member of the National Assembly I I Burke. Works. Vol. 6. P. 64).Также см. высказывание Джеймса Мэдисона в ходе дебатов 20 июня 1788 года в конвенте штата Виргиния по ратификации Конституции США: «Предполагать, что какая бы то ни было форма правления обеспечит свободу или счастье, при том что люди не знают, что такое добродетель, – это химерическая идея» (The Debates in the Several State Conventions, on the Adoption of the Federal Constitution / Ed. by J. Elliot. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1863-1891. Vol. 2. P. 537), а также высказывания Токвиля: «Царства свободы нельзя достичь без господства нравственности, так же как нельзя сделать нравственным общество, лишенное веры»; «Никогда и нигде не существовало общества, свободного от морали» (Toequemlle. Democracy in America. Vol. 1. P. 12; Vol. 2. P. 235 [Токвиль. Демократия в Америке. С. 33, 428]).].
Положение дел, при котором подчинение таким правилам не навязывается принуждением, предпочтительно не только потому, что принуждение само по себе плохо, но и потому, что зачастую желательно, чтобы правила соблюдались только в большинстве случаев и чтобы человек имел возможность преступить их, когда, по его мнению, позор и бесчестье, которое он тем самым на себя навлечет, будут оправданной платой. Важно также, чтобы сила общественного давления и сила привычки, обеспечивающие их соблюдение, не были постоянными. Именно эта гибкость добровольных правил делает возможными постепенную эволюцию и спонтанный рост в сфере морали, создает условия для накопления нового опыта, ведущего к изменениям и совершенствованию. Подобная эволюция возможна только в случае правил, которые не являются целенаправленно навязанными и опирающимися на принуждение, – правил, соблюдение которых считается достоинством, и хотя большинство им подчиняется, они могут быть нарушены людьми, чувствующими, что имеют достаточно серьезные основания, чтобы противостоять осуждению со стороны ближних. В отличие от любых целенаправленно навязанных принудительных правил, которые могут быть изменены только скачкообразно и одновременно для всех, правила такого рода допускают постепенные экспериментальные изменения. Существование людей и групп, одновременно соблюдающих частично не совпадающие правила, создает возможность для отбора более эффективных правил.
Именно это подчинение никем сознательно не придуманным правилам и обычаям, значение и важность которых мы по большей части не понимаем, именно это уважение к традициям оказываются столь чуждыми рационалистическому складу мышления, хотя именно они необходимы для функционирования свободного общества. Основание свободного общества – в осознании того, что «правила морали не являются заключениями нашего разума», – эту мысль подчеркивал Давид Юм, и она имеет решающее значение для антирационалистической эволюционной традиции[127 - В главе «Моральные различия не проистекают из разума»: «Следовательно, правила морали не являются заключениями нашего разума» (Hume. Treatise of Human Nature. Vol. 2. P. 235 [Юм. Трактат о человеческой природе. С. 499]). Та же идея заключена уже в максиме схоластиков: «Ratio est instrumentum non est judex» [«Разум – это орудие, а не судья»]. Что же касается эволюционных представлений Юма о морали, я счастлив возможности процитировать утверждение, которого я сам сделать бы не решился из страха приписать Юму то, чего у него нет, но здесь оно исходит от автора, который, я уверен, смотрел на Юма под другим углом зрения, чем я. Кристиан Бэй пишет: «Нормы нравственности и справедливости есть то, что Юм называет „артефактами“; они не продиктованы божеством, не являются неотъемлемой частью изначальной человеческой природы и не являются плодом чистого разума. Они суть результат практического опыта человечества, и в ходе медленной проверки временем единственно важным является полезность каждого правила нравственности для достижения благополучия людей. Юма можно назвать предшественником Дарвина в сфере этики. По сути дела, он провозгласил доктрину выживания наиболее приспособленных из числа людских обычаев – наиболее приспособленных не в смысле хороших зубов, а в смысле наибольшей социальной полезности» (Вау С. The Structure of Freedom. Stanford, CA: Stanford University Press, 1958. P. 33).]. Подобно всем другим ценностям, наши правила морали являются не результатом, а предпосылкой разума, частью тех целей, для служения которым был развит инструмент нашего интеллекта. На любой стадии нашей эволюции система наследуемых ценностей обеспечивает нас целями, которым должен служить наш разум. Эта заданность системы целей предполагает, что, хотя мы всегда должны стремиться к совершенствованию наших институтов, нашей целью не может быть перестройка их в целом и что, стремясь к их усовершенствованию, мы должны принимать на веру много такого, чего мы не понимаем. Мы обречены работать в рамках не нами созданных систем ценностей и институтов. В частности, мы совсем не можем искусственно сконструировать новый корпус правил морали или сделать так, что соблюдение нами известных правил будет зависеть от того, понимаем мы или нет, какие результаты даст их соблюдение в той или иной конкретной ситуации.
7. Рационалистический подход к этим проблемам лучше всего можно проиллюстрировать отношением к так называемым предрассудкам[128 - См. работу: Acton Н.В. Prejudice // Revue internationale de philosophie. 1952. Vol. 21. P. 323-336, содержащую любопытную демонстрацию сходства взглядов Юма и Бёрка; см. также выступление того же автора: Idem. Tradition and Some Other Forms of Order H Proceedings of the Aristotelian Society. 1953. Vol. 53. P. 1, особенно замечание насчет того, что «либералы и коллективисты единым фронтом выступают против традиции, когда она содержит „предрассудок“, который они собираются атаковать». См. также: Bobbins L. The Theory of Economic Policy. London: Macmillan, 1952. P. 196n.]. Я не хочу недооценивать достоинства неустанной и настойчивой борьбы, которая велась в XVIII и XIX веках против очевидно ложных убеждений[129 - Пожалуй, даже в такой форме это слишком сильное утверждение. Гипотеза может быть очевидно ложной, но если из нее следуют новые выводы, которые оказываются истинными, все же она лучше, чем никакой гипотезы вообще. Такие пробные, хотя отчасти ошибочные ответы на важные вопросы могут иметь большую ценность в практическом плане, хотя ученый не любит их, потому что они нередко могут препятствовать прогрессу.]. Но мы должны помнить, что распространение понятия «предрассудок» на все верования и убеждения, истинность которых неочевидна, не может быть таким образом оправдано и часто бывает вредно. Из того, что мы не должны верить утверждению, ложность которого была доказана, не следует, что верить нужно только в то, истинность чего была доказана. Есть существенные основания, по которым любой человек, желающий жить и успешно действовать в обществе, должен принимать многие распространенные представления, хотя ценность этих оснований никак не связана с доказуемой истинностью представлений, о которых идет речь[130 - См.: «Формы социального поведения иногда бывает необходимо осознавать для того, чтобы лучше приспособиться к изменившимся условия, но я думаю, можно признать за принцип (с широкой сферой применения), что при нормальном течении жизни отдельному индивиду нет смысла и даже вредно заниматься сознательным анализированием окружающих его социокультурных стереотипов. Это дело ученого, обязанного разбираться в таких стереотипах. Здоровая бессознательность форм социализированного поведения, которым все мы подчиняемся, так же необходима для общества, как для телесного здоровья организма необходимо, чтобы мозг не знал или, вернее, не осознавал, как работают внутренние органы» (Sapir Е. Selected Writings in Language, Culture, and Personality / Ed. by D.G. Mandelbaum. Berkeley: University of California Press, 1949. P. 558-559 [Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс Универе, 1993. С. 609]; см. также с. 26 [с. 241-242]).]. Кроме того, такие представления опираются на некий прошлый опыт, а не на опыт, который может быть кем-то подтвержден. Разумеется, ученый, если его попросят согласиться с каким-либо обобщением в его области, имеет право потребовать данные, на которых это обобщение основывается. Многие представления, которые в прошлом выражали накопленный опыт человеческого рода, были опровергнуты именно таким образом. Это, однако, не означает, что мы сможем на каком-то этапе избавиться от всех представлений, не подкрепленных научными доказательствами. Опыт дан человеку в гораздо более разнообразных формах, чем те, с которыми обычно работает профессиональный экспериментатор или исследователь, ищущий явного знания. Мы разрушили бы фундамент многих успешных действий, если бы стали пренебрегать методами, выработанными в процессе проб и ошибок, лишь потому, что нам не была сообщена причина, по которой мы должны усвоить эти методы. Адекватность нашего поведения вовсе не зависит от того, знаем ли мы, почему оно адекватно. Понимание этого – лишь один из способов сделать наше поведение адекватным, но отнюдь не единственный. Выхолощенный мир представлений, очищенных от всего, ценность чего не может быть позитивно продемонстрирована, вероятно, окажется не менее губительным, чем аналогичное состояние в сфере биологии.
Хотя сказанное применимо ко всем нашим ценностям, оно имеет особую важность в случае правил нравственного поведения. Последние, наряду с языком, являются, пожалуй, важнейшим примером непреднамеренного роста, примером совокупности правил, направляющих жизнь каждого из нас, о которых мы при всем при том не можем сказать, ни почему они такие, какие есть, ни как именно они на нас влияют: нам неизвестно, каковы будут последствия их соблюдения как для каждого из нас в отдельности, так и для группы. Именно против требования подчиняться подобного рода правилам постоянно восстает дух рационализма. Он требует применять к ним декартовский принцип: «отбросить как безусловно ложное все, в чем мог вообразить малейший повод к сомнению»[131 - Descartes R. A Discourse on Method. London: Dent, 1912. Pt. 4. P. 26 [Декарт P. Сочинения: B 2 т. M.: Мысль, 1989. T. 1. C. 268].]. Рационалисты всегда мечтали о целенаправленно построенной, синтезированной системе моральных норм, о системе, в которой, по словам Эдмунда Бёрка, «исполнение всех моральных обязанностей и все основания общества, покоящиеся на соответствующих доводах, сделаны ясными и наглядными для каждого человека»[132 - Burke E. A Vindication of Natural Society § Burke. Works. Vol. 1. P. 7.]. Рационалисты XVIII столетия и в самом деле утверждали, что, поскольку они знают природу человека, они «легко могут найти соответствующие ей моральные нормы»[133 - Holdback P.H.T. baron de. Systeme social, Ou Principes naturels de la morale et de la politique. London [Rouen], 1773. Vol. 1. P. 55; цит. no: Talmon J.L. Origins of Totalitarian Democracy. London: Seeker and Warburg, 1952. P. 273. Столь же наивные утверждения нетрудно найти в работах современных психологов. Например, Беррес Ф. Скиннер заставляет героя своей утопии утверждать следующее: «Почему бы не заняться экспериментированием? Вопросы достаточно просты. Что является лучшим поведением для индивида с точки зрения интересов группы? И как можно побудить индивида действовать именно таким образом? Почему бы не исследовать эти вопросы в духе науки? В Уолден-два мы можем сделать это. Мы уже разработали кодекс поведения – разумеется, подлежащий модификации в соответствии с экспериментами. Если все будут жить в соответствии с этим кодексом, все пойдет как по маслу. Наше дело – присмотреть, чтобы все именно так и жили» (Skinner B.F. Walden Two. New York: Macmillan, 1948. P. 85).]. Они не понимали, что то, что они называли «природой человека», в значительной мере является плодом тех самых моральных представлений, которые каждый усваивает вместе с языком и мышлением.
8. Любопытным симптомом растущего влияния этой рационалистической концепции является то, что во всех известных мне языках вместо слов «нравственный», «моральный» (moral) или просто «хороший» (good) все чаще используется слово «общественный» (social). Было бы полезно кратко рассмотреть, что же это значит[134 - См. мою статью: Hayek F.A. Was ist und was heisst “sozial”? // Masse und Demokratie / Ed. by A. Hunold. Zurich: Erlenbach-Zurich: E. Rentsch, 1957. P. 71-84, переиздано: What is “Social”? – What Does it Mean? // Idem. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1967. P. 237-247. См. также попытку защитить это понятие: Jahrreiss Н. Freiheit und Sozialstaat // K?lner Universit?tsreden. № 17. Krefeld, 1957, вошедшую в сборник того же автора: Idem. Mensch und Staat. Rechtsphilosophische, staatsrechtliche und v?lkerrechtliche Grundfragen in unserer Zeit&. Cologne; Berlin: Carl Heymann, 1957. P. 69–88.]. Когда люди говорят об «общественной совести» (social conscience) вместо просто «совести», они, предположительно, имеют в виду осознание конкретных последствий наших действий для других людей, попытку руководствоваться в своих действиях не просто традиционными правилами, а пристально рассматривать конкретные последствия действия в том или ином случае. В сущности, они говорят, что в своих действиях мы должны руководствоваться полным пониманием того, как функционирует социальный процесс, и должны стремиться – через сознательную оценку конкретных фактов, относящихся к ситуации, – к достижению предвидимого результата, который они обозначают как «общественное благо».
Здесь любопытно то, что этот призыв к «общественному» на самом деле подразумевает требование, чтобы действиями индивида руководили не правила, выработанные обществом, а индивидуальный разум – чтобы люди отказались от использования того, что в полном смысле слова может быть названо «общественным» (в том смысле, что это является плодом безличного социального процесса), а вместо этого каждый раз полагались на свое личное суждение. Это предпочтение «общественных соображений» в ущерб приверженности моральным правилам представляет собой в конечном итоге следствие презрения к тому, что является подлинным общественным феноменом, и веры в превосходящую силу индивидуального человеческого разума.
Ответ на эти рационалистические требования заключается, разумеется, в том, что они предполагают в качестве условия наличие знаний, превосходящих возможности отдельного человеческого ума, и что в попытке их выполнить большинство людей станут менее полезными членами общества, чем были бы, если бы преследовали свои цели в границах, установленных нормами права и морали.
В данном случае рационалистический аргумент игнорирует то, что в общем случае опора на абстрактные правила – это инструмент, которым мы научились пользоваться потому, что наш разум недостаточно силен, чтобы совладать со всеми деталями сложной реальности[135 - См. у Токвиля подчеркивание того факта, что «общие идеи свидетельствуют не о силе человеческого разума, но, скорее, о его несовершенстве» (Tocqueville. Democracy in America. Vol. 2. P. 13 [Токвиль. Демократия в Америке. С. 325]).]. Это верно и когда мы обдуманно формулируем абстрактное правило, которым должен руководствоваться человек, и когда мы подчиняемся общим правилам деятельности, развившимся в ходе социального процесса.
Нам всем известно, что мы вряд ли сумеем добиться успеха в достижении личных целей, если не установим для себя некие общие правила, которых будем придерживаться, не проверяя заново их обоснованность в каждом конкретном случае. Упорядочивая свой день, выполняя, а не откладывая на будущее, малоприятные, но необходимые задачи, отказываясь от употребления возбуждающих средств или подавляя определенные импульсы, мы часто приходим к необходимости превратить все эти действия в бессознательную привычку, потому что знаем, что без этого разумные основания, делающие такое поведение желательным, окажутся недостаточно эффективными, чтобы постоянно перевешивать сиюминутные желания и побуждать нас делать то, что нам следовало бы делать с учетом долговременных перспектив. Хотя тезис, согласно которому, чтобы действовать рационально, нам часто необходимо руководствоваться привычкой, а не размышлением, или тезис, в соответствии с которым, чтобы не дать себе принять неверное решение, нам следует сознательно сузить свои возможности выбора, может звучать парадоксально, на практике всем известно, что для достижения долгосрочных целей нам зачастую необходимо именно это.
Те же соображения в еще большей степени применимы там, где наше поведение напрямую затрагивает не нас, а других, и где, следовательно, нашей главной заботой становится приспособление собственных действий к действиям и ожиданиям других, чтобы не нанести им ненужного вреда. В таких случаях маловероятно, чтобы какой-либо индивид сумел рационально сформулировать правила более эффективные для целей, которым они служат, чем правила, развившиеся постепенно; и даже если кому-либо это и удалось бы, эти правила не смогут достичь цели, если они не станут соблюдаться всеми. Таким образом, у нас нет другого выбора, кроме как подчиниться правилам, обоснования которых мы часто не знаем, и делать это безотносительно к тому, зависит ли, по нашему мнению, что-либо важное от их соблюдения в конкретной ситуации или нет. Правила морали инструментальны в том смысле, что они помогают главным образом достигать других человеческих ценностей; однако, поскольку мы только изредка можем знать, что именно зависит от их соблюдения в конкретном случае, следование им надо рассматривать как ценность саму по себе, как своего рода промежуточную цель, к которой мы должны стремиться, не думая, оправданны они или нет в каждом отдельном случае.
9. Разумеется, эти соображения не доказывают, что все возникшие в обществе наборы моральных представлений приносят пользу. Группа может подняться благодаря моральным нормам, которым следуют ее члены, и ее ценностям в результате будет подражать вся страна, во главе которой окажется эта преуспевшая группа, но точно так же группа или нация может разрушить себя теми моральными нормами, которым она привержена. Только конечные результаты могут показать, благотворны или разрушительны идеалы, которыми руководствуется группа. Тот факт, что общество стало рассматривать учение определенных людей как воплощение добродетели, не доказывает, что следование их принципам не приведет общество к гибели. Вполне возможно, что нация может уничтожить себя, последовав учению тех, кого считает лучшими из людей, даже настоящими святыми, бесспорно руководствующимися самыми бескорыстными идеалами. Подобного рода опасность невелика в обществе, члены которого все еще вольны выбирать образ практической жизни, потому что тенденции такого рода будут подвергаться самокоррекции: группы, руководствующиеся «непрактичными» идеалами, и только они, будут приходить в упадок, а их место займут другие, менее нравственные по текущим стандартам. Но так может получиться только в свободном обществе, в котором подобные идеалы не навязываются всем в принудительном порядке. Там, где все обречены служить одним и тем же идеалам, где инакомыслящим не позволено следовать тому, во что они верят, нерациональность правил может быть доказана только упадком всей нации, которая ими руководствуется.
Здесь возникает важный вопрос: является ли согласие большинства по поводу того или иного правила морали достаточным основанием, чтобы принуждать инакомыслящее меньшинство к его исполнению, или же такая власть большинства должна быть ограничена более общими правилами – иными словами, не должно ли обычное законодательство быть ограничено общими принципами, подобно тому как нравственные правила индивидуального поведения не допускают определенные виды действий независимо от того, насколько благими являются преследуемые цели? Существует огромная потребность в нравственных правилах не только индивидуальной, но и политической деятельности, а результаты последовательности коллективных решений (точно так же как и индивидуальных) могут быть благотворными лишь тогда, когда они согласуются с общими принципами.
Такие моральные правила коллективных действий возникают лишь с большим трудом и очень медленно. Но в этом следует видеть доказательство того, насколько они драгоценны. Важнейшим из немногих развитых нами принципов такого рода является индивидуальная свобода, которую уместнее всего рассматривать как моральный принцип политического действия. Подобно всем принципам морали, она требует, чтобы ее принимали как ценность саму по себе, как принцип, который надо уважать, не задаваясь вопросом, будут ли его последствия благотворны в частном случае. Мы не достигнем желаемых результатов, если не примем его как символ веры или как презумпцию настолько сильную, что никаким соображениям целесообразности не будет позволено ее ограничивать.
В конечном итоге аргумент в пользу свободы является аргументом за принципы и против целесообразности в коллективных действиях[136 - Сегодня часто высказывается сомнение в том, что последовательность – достоинство в общественной деятельности. Иногда стремление к последовательности характеризуется даже как рационалистический предрассудок, тогда как принятие решения в каждом случае в соответствии с особыми обстоятельствами превозносится как истинно экспериментальная или эмпирическая процедура. На самом деле здесь все обстоит ровно наоборот. Стремление к последовательности имеет источником осознание неспособности нашего разума точно учесть все последствия каждого отдельного решения, тогда как якобы прагматичная процедура основывается на претензии, что мы можем должным образом оценить все последствия, не обращаясь к тем принципам, которые говорят нам, какие именно факты нам следует учитывать.], что, как мы увидим, эквивалентно утверждению, что решение о применении мер принуждения может принимать только судья, но не администратор. Когда один из интеллектуальных лидеров либерализма XIX века, Бенжамен Констан, описал либерализм как systeme de principes[137 - Constant В. De l’arbitraire // Cuvres politiques de Benjamin Constant / Ed. by C. Louandre. Paris: Charpentier et Cie, 1874. P. 91-92.] [систему принципов (фр.)], он выявил суть дела. Свобода – это не только система, при которой все действия правительства направляются принципами, но это еще и идеал, который не удастся сохранить, если он не будет принят как доминирующий принцип, направляющий все отдельные акты законодательства. Там, где нет непреклонной приверженности такому фундаментальному правилу как конечному идеалу, по поводу которого недопустимы компромиссы ради материальных выгод, – как идеалу, временный отход от которого хотя и возможен в критическом положении, но который при этом является основой всего постоянного общественного устройства, – свобода почти заведомо будет разрушена частичными посягательствами на нее. Потому что в каждом отдельном случае можно будет пообещать конкретные и ощутимые выгоды, достижимые благодаря ограничению свободы, тогда как приносимые при этом в жертву блага всегда будут, в силу своей природы, неизвестными и неопределенными. Если не относиться к свободе как к верховному принципу, тот факт, что свободное общество всегда может обещать только возможности, а не гарантии, только перспективы, а не конкретные дары определенным индивидам, неизбежно окажется фатальным недостатком и станет причиной медленного разрушения свободы[138 - См.: «Благотворный результат государственного вмешательства, особенно в форме законодательства, является прямым, непосредственным и, так сказать, наблюдаемым, в то время как его пагубные результаты проявляются постепенно, опосредованно и вне поля зрения. <…> Поэтому большинство людей почти неизбежно относятся к государственному вмешательству с необоснованным одобрением. Этой неизбежной предвзятости можно противопоставить только присутствие в данном обществе… презумпции или предрассудка, отдающего предпочтение индивидуальной свободе, то есть laissez faire-» (Dicey. Law and Public Opinion. P. 257-258). См. также рассуждения Карла Менгера о «прагматизме, который вопреки намерению его представителей неминуемо ведет к социализму» (Mengen Untersuchungen. P. 208 \_Менгер. Избранные работы. С. 433]), а также мое эссе: Hayek F.A. Die Ursachen der st?ndigen Gef?hrdung der Freiheit // Ordo. 1961. Vol. 12. P. 103-109.].
10. К этому моменту у читателя может возникнуть вопрос, какую же роль может играть разум в упорядочении общественных дел, если политика свободы требует столь значительного воздержания от целенаправленного контроля, столь полного принятия всего, что развилось спонтанно и ненаправленно. Первый ответ заключается в том, что если уж возникла необходимость в поиске адекватных границ использования разума, то поиск этих границ как раз и представляет собой самое важное и трудное применение разума. Более того, хотя нам здесь пришлось сосредоточиться именно на этих границах, мы никоим образом не подразумевали, что у разума нет важных положительных задач. Разум, несомненно, самое драгоценное, что есть у человека. Наше рассуждение стремилось продемонстрировать лишь то, что он не всемогущ и что вера, будто он может стать господином самому себе и контролировать собственное развитие, способна разрушить его. На самом деле мы попытались защитить разум от злоупотреблений со стороны тех, кто не понимает условий его эффективного функционирования и непрерывного роста. Это призыв к тому, чтобы люди увидели, что мы должны использовать наш разум осмотрительно, а для этого нам следует сохранить ту незаменимую матрицу неконтролируемого и внерационального, которая представляет собой единственную среду, в которой разум может расти и эффективно действовать.
Эту антирационалистическую позицию не следует путать с иррационализмом или призывом к мистицизму[139 - Надо признать, что после того, как обсуждаемая здесь традиция перешла через Бёрка к французским реакционерам и немецким романтикам, она превратилась из антирационалистической позиции в иррационалистическую веру и сохранилась почти исключительно в этой форме. Но извращение, за которое Бёрк несет частичную ответственность, не следует использовать для дискредитации того ценного, что есть в этой традиции, и не следует забывать, как верно отметил Фредерик Уильям Мейтленд, «сколь основательным вигом [Бёрк] был во всем» (Maitland F. W. Collected Papers. Cambridge: Cambridge University Press, 1911. Vol. 1. P. 67).]. Здесь мы защищаем не отречение от разума, а рациональное исследование той области, в которой разум имеет смысл держать под контролем. Отчасти этот аргумент состоит в том, что такое здравое использование разума не означает применение продумывающего и планирующего разума в максимально возможном числе случаев. В противоположность наивному рационализму, который считает имеющийся у нас разум абсолютным, мы должны продолжать дело Давида Юма, который «обратил против Просвещения его собственное оружие» и принялся «с помощью рационального анализа понижать притязания разума»[140 - Wolin S.S. Hume and Conservatism // American Political Science Review. 1954. Vol. 48. P. 1001. См. также: «В эпоху Разума Юм занял позицию методичного антирационалиста» (Mossner Е.С. Life of David Hume. Oxford: Clarendon Press, 1954. P. 125).].
Первым условием такого осмотрительного использования разума для упорядочивания общественных дел является понимание той роли, которую он на деле играет и может играть в жизни любого общества, основанного на сотрудничестве множества отдельных умов. Это означает, что прежде, чем мы сможем попытаться перестроить общество со знанием дела, нам следует понять, как оно функционирует; мы должны осознать, что можем ошибаться, даже когда считаем, что уже это поняли. Мы должны научиться понимать, что человеческая цивилизация живет своей собственной жизнью, что улучшать состояние дел мы должны лишь в рамках функционирующего целого, которое мы не в состоянии полностью контролировать, и что мы можем рассчитывать только на то, что у нас получится облегчать работу и помогать силам, действующим в нем, поскольку мы их понимаем. Нам нужно такое же отношение к обществу, как у врача – к живому организму: нам тоже приходится работать с самостоятельным целым, существующим благодаря силам, которые мы не в состоянии заменить, а потому должны использовать их во всем, чего пытаемся достичь. То, что может быть сделано для его усовершенствования, должно быть сделано с помощью этих сил, а не вопреки им[141 - См.: «Der Gesetzgeber gleicht eher dem G?rtner, der mit dem vorhandenen Erdreich und mit den Wachstumsbedingungen der Pflanzen zu rechnen hat, als dem Maler, der seiner Phantasie freies Spiel l??t» [«Законодатель больше напоминает садовника, который должен оценивать почву и условия, необходимые для роста его саженцев, чем художника, дающего волю своему воображению»] [Schindler D. Recht, Staat, V?lkergemeinschaft: ausgew?hlte Schriften und Fragmente aus dem Nachlass. Zurich, Schulthess and Co., 1948. P. 86).]. Во всех наших попытках усовершенствований мы всегда должны работать внутри этого данного целого, стремиться к постепенному, а не тотальному конструированию[142 - Ср.: Popper K.R. The Open Society and Its Enemies. London, 1945. Passim [Поппер К. Открытое общество и его враги. М.: Феникс; Культурная инициатива, 1992].], на каждой стадии использовать имеющийся исторический материал, шаг за шагом улучшать детали и не стремиться переустроить все сразу.
Среди этих выводов нет ни одного аргумента против использования разума, но лишь аргументы против такого его использования, которое требует исключительных и применяющих принуждение полномочий правительства; нет аргументов против экспериментирования, но есть аргументы против любой монополистической власти, обладающей исключительным правом заниматься экспериментированием в определенной области – власти, которая не терпит альтернатив и претендует на обладание высшей мудростью, – и против неизбежных в таком случае барьеров на пути решений, лучших по сравнению с теми, которые выбраны самой властью.
Глава 5
Ответственность и свобода
Сомнительно, чтобы демократии смогла выжить в обществе, организованном на принципе терапии, а не наказании, ошибки, а не греха.
Если люди свободны и равны, их следует судить, а не лечить.
Ф.Д. Уормут[143 - Wormuth F.D. The Origins of Modern Constitutionalism. New York: Harper, 1949. P. 212-213.]
1. Свобода означает не только то, что у человека есть возможность и бремя выбора, но и что он должен отвечать за последствия своих действий и что будет получать за них хвалу либо порицание. Свобода и ответственность неразделимы. Свободное общество не сможет ни функционировать, ни поддерживать свое существование, если его члены не считают правильным, чтобы каждый человек занимал то положение, которое является результатом его действий, и считал, что именно его действия позволили ему занять это положение. Хотя общество может предложить индивиду лишь шанс на успех и хотя результат его усилий будет зависеть от бесчисленных случайностей, оно настойчиво привлекает его внимание к тем обстоятельствам, которые он может контролировать, как если бы только они имели значение. Поскольку индивид должен иметь возможность использовать обстоятельства, которые могут быть известны только ему одному, и поскольку, как правило, никто не может знать, использовал ли он их в полной мере, предполагается, что результат его действий определяют именно сами действия, если только нет полной уверенности в обратном.
Эта вера в личную ответственность, которая всегда сильна там, где люди твердо верят в свободу индивида, заметно ослабла с упадком уважения к свободе. Ответственность стала непопулярным понятием, словом, которого избегают опытные ораторы и писатели из-за очевидной скуки и враждебности, с которой встречало это слово поколение, питавшее неприязнь ко всякому морализаторству. Это понятие часто возбуждает прямую враждебность в людях, которые приучены думать, что их положение в жизни или даже их действия определены исключительно обстоятельствами, над которыми у них нет никакого контроля. Однако это отречение от ответственности обычно порождается страхом перед ответственностью – страхом, который неизбежно превращается и в страх перед свободой[144 - Эту старую истину лаконично выразил Бернард Шоу: «Свобода означает ответственность. Вот почему большинство людей перед ней трепещут» (Shaw G.B. Maxims for Revolutionaries // Idem. Man and Superman: A Comedy and a Philosophy. Westminster: Archibald Constable, 1903. P. 229). Эту тему, разумеется, полностью раскрыл в некоторых своих романах Федор Достоевский (особенно в эпизоде с Великим инквизитором в «Братьях Карамазовых»), и современные психоаналитики и философы-экзистенциалисты мало что смогли добавить к его психологическому прозрению. Но см. книги Эриха Фромма (Fromm Е. Escape from Freedom. New York: Farrar and Rinehart, Inc., 1941 [Фромм Э. Бегство от свободы. M.: ACT, 2016]), Марджори Г. Грина (Grene M.G. Dreadfuk Freedom. Chicago: University of Chicago Press, 1948) и Отто Бейта (Veit О. Die Flucht vor der Freiheit: Versuch zur geschichtsphilosophischen Erhellung der Kulturkrise. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1947). Вере в личную свободу и связанному с ней уважению к закону, преобладающим в свободных обществах, противостоит симпатия к нарушителям закона, которая постоянно проявляется в несвободных обществах и которая была столь характерна для русской литературы XIX столетия.]. Несомненно, многие люди боятся свободы именно потому, что возможность строить собственную жизнь означает также неустанный труд и дисциплину, которой человек должен подчинить себя, если желает достичь своих целей.
2. Одновременный упадок уважения к свободе и ответственности индивида в значительной мере является результатом ошибочной интерпретации уроков науки. Прежние взгляды были тесно связаны с верой в «свободу воли» – концепцию, которая никогда не имела четкого смысла и которую впоследствии современная наука, по-видимому, лишила всяких оснований. Растущая вера в то, что все природные явления однозначно определены предшествующими событиями или подчинены познаваемым законам и что самого человека следует рассматривать как часть природы, привела к выводу, что действия человека и работу его ума также следует рассматривать как непременно определяемые внешними обстоятельствами. Господствовавшая в науке XIX столетия концепция всеобщего детерминизма[145 - Тщательное исследование философских проблем детерминизма см.: Popper К.В. The Logic of Scientific Discovery – Postscript: After Twenty Years. London: Hutchinson & Co., 1959; см. также мое эссе: Hayek F.A. Degrees of Explanation II British Journal for the Philosophy of Science. 1955. Vol. 6. P. 209-225; переиздано: Idem. Studies in Philosophy, Politics, and Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1967. P. 3-21. См. также мою статью: Hayek F.A. The Theory of Complex Phenomena //The Critical Approach: Essays in Honor of Karl R. Popper / Ed. by M. Bunge. New York: Free Press, 1964. P. 332-349. [Также переиздано: Idem. Studies in Philosophy, Politics and Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1967. P. 22-42. – Ред.]] была, таким образом, применена к поведению людей, и это, по-видимому, привело к исключению спонтанности из действий человека. Конечно, следует признать, что утверждение, будто действия человека тоже подчиняются законам природы, было не более чем общим предположением и что на самом деле мы не знали, за исключением редчайших случаев, как именно они определяются конкретными обстоятельствами. Но само допущение, что работу человеческого ума, по крайней мере в принципе, следует рассматривать как подчиняющуюся единым законам, похоже, устранило роль отдельной личности, которая имеет существенное значение для концепции свободы и ответственности.
Интеллектуальная история нескольких последних поколений дает нам сколько угодно примеров того, как эта детерминистская картина мира сотрясла основание веры в свободу в сфере морали и политики. И сегодня многие люди с естественно-научным образованием, вероятно, согласятся с ученым, который, обращаясь к широкой аудитории, признает, что «ученому очень трудно обсуждать понятие [свободы], отчасти потому, что он в конечном счете неуверен, что нечто подобное существует»[146 - Waddington СИ. The Scientific Attitude. Pelican Books; Harmondsworth: Penguin Books, 1941. P. 110. См. также: «Я вообще отрицаю, что свобода существует. Я должен отрицать ее, или моя программа будет абсурдной. Не может быть науки о предмете, который скачет туда-сюда по собственному капризу» (Skinner В.F. Walden Two. New York: Macmillan, 1948. P. 257). См. также работу: Skinner В.F. Science and Human Behaviour. New York: Macmillan, 1953, которая являет собой самый крайний пример антилиберального подхода, принятого современными представителями «наук о поведении».]. Да, впоследствии физики и в самом деле отказались (по-видимому, с некоторым облегчением) от идеи всеобщего детерминизма. Однако сомнительно, что новая концепция подчиненности мира всего лишь статистической регулярности каким-либо образом влияет на решение загадки свободы воли. Так как, судя по всему, трудности, с которыми люди сталкиваются, пытаясь понять смысл произвольности действий и ответственности за них, вовсе не вытекают логически из веры в причинную детерминированность человеческих действий, а рождаются интеллектуальной путаницей, приводящей к заключениям, которые никак не следуют из посылок.
По-видимому, утверждение, что воля свободна, имеет столь же мало смысла, как и отрицание этого, и вся эта проблема иллюзорна[147 - Это ясно понимал уже Джон Локк, который говорил о «невразумительном вследствие непонятности вопросе о том, свободна ли человеческая воля или нет. Ведь если я не ошибаюсь, то из сказанного мною следует, что вопрос сам по себе совершенно неправилен» (Locke J. An Essay concerning Human Understanding. London: Printed for Thomas Basset and sold by Edward Могу, 1690. Bk. 2. Ch. 14. Sec. 14 [Локк Дж. Опыт о человеческом разумении. Кн. 2, 14 // Он же. Сочинения: В 3 т. M.: Мысль, 1985. Т. 1. С. 292]); и даже Томас Гоббс (Hobbes Т. Leviathan; or, The Matter, Forme, and Power of a Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil / Ed. by M. Oakeshott. Oxford: B. Blackwell, 1946. P. 137-138 [Гоббс T. Левиафан // Он же. Сочинения: В 2 т. M.: Мысль, 1989-1991. Т. 2. С. 163-164]). Позднейшие высказывания об этом см.: Comperz Н. Das Problem der Willensfreiheit. Jena: Diedrichs, 1907; SchlickM. Problems of Ethics. New York: Prentice-Hall, 1939; Broad C.D. Determinism, Indeterminism, and Libertarianism: An Inaugural Lecture. Cambridge: Cambridge University Press, 1934; Hare R.M. The Language of Morals. Oxford: Clarendon Press, 1952; Hart H.L.A. The Ascription of Responsibility and Rights // Proceeding of the Aristotelian Society. 1949. Vol. 49. P. 171-194, переиздано в: Logic and Language. 1
ser. / Ed. by A. Flew. Oxford: B. Blackwell, 1951. P. 145-166; Nowell-Smith P. H Free Will and Moral Responsibility // Mind. 1948. Vol. 17. P. 45-61, и того же автора: Idem. Ethics. Pelican Books; London: Penguin Books, 1954; Mabbott ID. Freewill and Punishment // Contemporary British Philosophy: Personal Statements, 3
Series / Ed. by H.D. Lewis. London: Allen and Unwin, 1956. P. 287-309; Campbell C.A. Is Free Will a Pseudo-Problem // Mind. 1951. Vol. 60. P. 441-465; MacKay D.M. On Comparing the Brain with Machines // Advancement of Science. (British Association Symposium on Cybernetics.) 1954. Vol. 10. P. 402-406, особенно c. 406; Determinism and Freedom in the Age of Modern Science: A Philosophical Symposium / Ed. by S. Hook. New York: New York Press, 1958; Kelsen H. Causality and Imputation // Ethics. 1950-1951. Vol. 61. P. 1-11; Pap A. Determinism and Moral Responsibility // Journal of Philosophy. 1946. Vol. 43. P. 318-327; Farrer A.M. The Freedom of the Will: The Gifford Lectures Delivered in the University of Edinburgh, 1957. London: Adam and Charles Black, 1958.], спор о словах, в котором спорящие стороны не договорились о том, что значит положительный или отрицательный ответ. Безусловно, отрицающие свободу воли лишают слово «свобода» его обычного значения, связанного с действием, совершаемым по собственной, а не по чужой воле; чтобы избежать бессмысленности, им следовало бы предложить другое определение, чего они никогда не делают[148 - См.: «Таким образом, мы можем подразумевать под свободой только способность действовать или не действовать сообразно решениям воли» (Hume D. An Enquiry concerning Human Understanding // Hume. Essays. Vol. 2. P. 78 [Юм Д. Исследование о человеческом познании // Он же. Сочинения: В 2 т. M.: Мысль, 1996. T. 2. С. 81]). См. также обсуждение вопроса в моей книге: Науек F.A. The Sensory Order. Chicago: University of Chicago Press, 1952. Secs. 8.93-8.94.]. Более того, само представление о том, что «свобода» в каком-либо содержательном или существенном смысле исключает идею, что действие с необходимостью определяется некими факторами, оказывается при ближайшем рассмотрении совершенно необоснованным.
Путаница становится очевидной, если проанализировать выводы, к которым приходят обе стороны в соответствии со своими позициями. Детерминисты обычно доказывают, что поскольку действия людей полностью определяются естественными причинами, нет никаких оснований говорить об их ответственности, хвалить или порицать то, что они делают. Волюнтаристы, со своей стороны, утверждают, что поскольку в человеке существует некое действующее начало, стоящее вне цепи причин и следствий, это действующее начало является носителем ответственности и законным объектом похвалы или порицания. Мало оснований сомневаться, что в плане практических выводов волюнтаристы ближе к истине, тогда как детерминисты просто зашли в тупик. Но, как ни странно, ни у одной из сторон этого спора выводы не следуют из заявленных посылок. Как неоднократно было показано, концепция ответственности опирается фактически на детерминистскую точку зрения[149 - Хотя это утверждение кажется парадоксом, оно восходит к Давиду Юму и даже к Аристотелю. Юм четко сформулировал: «Поступки какого-либо лица могут быть поставлены ему в заслугу или вменены в вину только при условии принципа необходимости, хотя бы общее мнение и склонялось к противоположному взгляду» (Hume. Treatise of Human Nature. Vol. 2. P. 192 [Юм. Трактат о человеческой природе. С. 454]). Об Аристотеле см.: Simon Y. Traitй du libre arbitre. Liиge: Sciences et lettres, 1951. P. 93–99; Heman C.F. Des Aristoteles Lehre von der Freiheit des menschlichen Willens. Leipzig: Fues’s R. Riesland, 1887, особенно с. 168–194, которые цитируются в книге Симона. Более новые публикации см.: Hobart R.E. Free Will as Involving Determination and Inconceivable without It // Mind. 1934. Vol. 43. P. 1–27; Foot P. Free Will as Involving Determinism // Philosophical Review. 1957. Vol. 66. P. 439–450.], тогда как только конструкция метафизического «я», пребывающего вне цепи причинно-следственных связей, а потому не затрагиваемого ни хвалой, ни порицанием, может обосновать освобождение человека от ответственности.
3. Конечно, можно было бы для иллюстрации заявленной детерминистской позиции сконструировать автомат, который неизменно предсказуемым образом реагировал бы на все события окружающего мира. Однако эта конструкция не соответствовала бы ни одной позиции, всерьез отстаиваемой даже самыми крайними оппонентами «свободы воли». Они утверждают, что поведение личности в каждый момент времени, ее реакция на тот или иной набор внешних обстоятельств определяются совместным действием наследственной внутренней организации и всего предшествующего опыта, так что каждый новый опыт интерпретируется в свете всего предыдущего индивидуального опыта, – кумулятивный процесс, порождающий в каждом случае отдельную уникальную личность. Эта личность действует как своего рода фильтр для внешних событий, вызывая соответствующее поведение, которое может быть с уверенностью предсказано только в исключительных обстоятельствах. Детерминистская позиция утверждает, что совокупные результаты наследственности и прошлого опыта составляют целое индивидуальной личности и поэтому не существует никакого другого «я», на характер которого не влияли бы никакие внешние или материальные факторы. Это значит, что все те факторы, влияние которых порой непоследовательно отрицают те, кто не признает «свободу воли», такие как рассуждение и аргументация, убеждение или порицание, ожидание похвалы или неодобрения, на самом деле относятся к числу наиболее важных, определяющих личность, а через нее и отдельные действия человека. Именно потому, что не существует никакого отдельного «я», которое пребывало бы вне цепи причинно-следственных связей, не существует и такого «я», на которое мы не могли бы попытаться разумно повлиять с помощью вознаграждения и наказания[150 - Наиболее крайняя детерминистская позиция тяготеет к отрицанию того, что у термина «воля» есть какой-либо смысл (употребление этого слова было даже запрещено в некоторых направлениях супернаучной психологии) или что существует такая вещь, как произвольное действие. Но даже те, кто придерживается такой позиции, не могут избежать различения между действиями, на которые могут влиять рациональные соображения, и теми, которые не поддаются такому влиянию. Но в этом все и дело. Они будут вынуждены признать – и это оказывается reductio ad absurdum для их позиции, – что то, верит или не верит человек в свою способность составлять и осуществлять планы (что обычно и подразумевается под утверждением, что его воля свободна или не свободна), может сильно влиять на то, что он будет делать.].