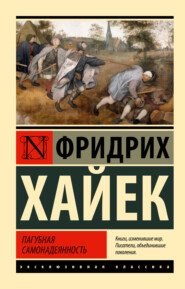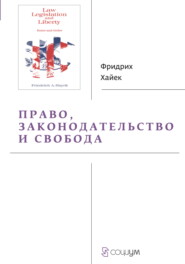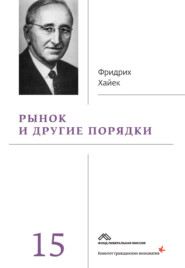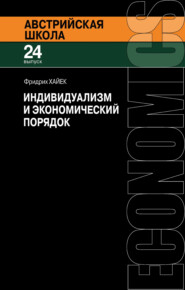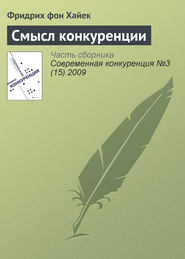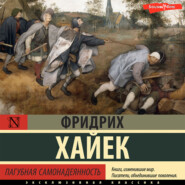По всем вопросам обращайтесь на: info@litportal.ru
(©) 2003-2025.
✖
Конституция свободы
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Лидерство индивидов или групп, способных обеспечить финансовую поддержку своим убеждениям, особенно существенно в области культуры, изящных искусств, в образовании и исследованиях, в сохранении красот природы и исторических ценностей и, что важнее всего, в распространении новых идей в сфере политики, морали и религии. Для того чтобы взгляды меньшинства имели шанс стать взглядами большинства, необходимо, чтобы возможность инициировать действие имели не только люди, уже пользующиеся авторитетом у большинства, а чтобы и у представителей самых разных взглядов и вкусов была возможность своими средствами и энергией поддержать идеалы, еще не разделяемые большинством.
Если бы нам был неизвестен наилучший способ создания такой группы, были бы серьезные аргументы в пользу того, чтобы случайным образом выбирать из популяции каждого сотого или тысячного и наделять их богатством, достаточным для преследования любых избранных ими целей. В той мере, в какой были бы при этом представлены все вкусы и мнения и каждый вид интересов получил бы свой шанс, такой метод был бы оправданным, даже если из этой выборки только один из сотни или из тысячи использовал полученную возможность таким образом, чтобы впоследствии можно было сказать, что это привело к благотворным результатам. Отбор посредством наследования от родителей к детям, который в нашем обществе порождает именно такую ситуацию, имеет по крайней мере то преимущество (даже если не учитывать вероятность наследования способностей), что те, кому достаются особые возможности, обычно получают соответствующее образование и воспитываются в среде, в которой материальные выгоды богатства привычны и, воспринимаясь как данность, перестают быть главным источником удовлетворения. Грубые удовольствия от богатства, которым, как правило, предаются нувориши, обычно не обладают особой привлекательностью для тех, кто унаследовал состояние. Если есть хоть какая-то доля истины в утверждении, что процесс восхождения по социальной лестнице иногда растягивается на несколько поколений, и если мы признаем, что некоторые люди не должны тратить много сил на добывание средств к существованию, а должны располагать временем и средствами, чтобы посвятить себя достижению избранных ими целей, то невозможно отрицать, что наследование представляет собой, вероятно, наилучший из известных нам методов отбора.
В связи с этим часто упускается из виду то обстоятельство, что действие на основе коллективного согласия ограничивается случаями, когда в результате прежних усилий уже выработан общий взгляд на вещи, когда уже установилось мнение о желательном и проблема заключается только в выборе между уже более-менее осознанными возможностями, а не в открытии новых. Однако общественное мнение не может решать, в каком направлении следует предпринять усилия, чтобы пробудить общественное мнение, и ни государство, ни другие известные организованные группы не должны иметь исключительных полномочий на это. Но организованные усилия могут быть приведены в движение немногими индивидами, которые либо сами располагают необходимыми ресурсами, либо заручились поддержкой тех, кто ими владеет; без таких людей взгляды, разделяемые сегодня лишь незначительным меньшинством, могут так никогда не получить шанса быть принятыми большинством. Сколь мало лидерского поведения можно ждать от большинства, демонстрируется недостаточной поддержкой искусства там, где большинство заменило богатого покровителя в качестве источника такой поддержки. И это еще более верно в отношении филантропических и идеалистических движений, благодаря которым меняются нравственные ценности большинства.
У нас здесь нет возможности даже кратко изложить долгую историю всех благих дел, которые получили признание лишь после того, как одинокие первопроходцы посвятили свою жизнь и богатство тому, чтобы пробудить совесть общества, – историю их длительной борьбы за отмену рабства, реформу пенитенциарной системы, предотвращение жестокого обращения с детьми и животными, более гуманное обращение с душевнобольными. Долгое время все это было только упованием горстки идеалистов, стремившихся изменить мнение подавляющего большинства в отношении некоторых общепринятых практик.
7. Однако богатый человек может успешно выполнять подобные функции только тогда, когда общество в целом не считает его единственной задачей извлечение прибыли и всяческое увеличение этого богатства, и когда класс богатых состоит не только из людей, интересующихся преимущественно тем, чтобы их ресурсы обеспечивали материальную производительность. Иными словами, необходима терпимость к существованию группы праздных богачей – праздных не в том смысле, что не делают ничего полезного, а в том, что их цели не определяются целиком и полностью материальной выгодой. То, что большинство людей неизбежно вынуждены зарабатывать себе на жизнь, не делает менее желательным, чтобы некоторые не должны были этого делать, чтобы немногие имели возможность стремиться к целям, безразличным для остальных. Без сомнения, было бы отвратительно, если бы для этого богатство произвольно отнималось у одних и передавалось другим. Мало смысла и в том, чтобы право наделять подобной привилегией было предоставлено большинству, потому что оно выбрало бы людей, цели которых уже одобрило. В этом случае большинство просто создало бы еще одну форму занятости или новую форму вознаграждения за признанные заслуги, но не возможность преследовать цели, которые еще не получили общего признания в качестве желательных.
Меня восхищает нравственная традиция неодобрительного отношения к праздности, когда речь идет об отсутствии целенаправленной деятельности. Но не работать ради дохода не обязательно означает пребывать в праздности; и нет оснований не считать почтенным занятие, не приносящее материальной отдачи. Тот факт, что большинство наших потребностей могут быть удовлетворены рынком, который одновременно дает большинству людей возможность зарабатывать на жизнь, не должен пониматься так, что никакому человеку нельзя позволить направить всю свою энергию на цели, не приносящие финансовых результатов, или что только большинство или только организованные группы должны иметь возможность стремиться к таким целям. То, что лишь немногие могут иметь подобную возможность, не делает менее желательным, чтобы некоторые ее имели.
Сомнительно, чтобы класс богатых, этос которого требует, чтобы по крайней мере каждый принадлежащий к нему мужчина доказал свою полезность приращением богатства, мог адекватным образом оправдать свое существование. Каким бы важным ни было значение независимого владельца собственности для экономического порядка свободного общества, оно, вероятно, еще больше в области мысли и мнений, вкуса и убеждений. Обществу, в котором все интеллектуальные, моральные и художественные лидеры принадлежат к классу наемных работников, особенно если большинство из них работает на государство, недостает чего-то очень серьезного. При этом мы повсеместно движемся именно к такому состоянию. Хотя в среде свободных писателей и художников, а также в профессиональных сообществах медиков и юристов все еще находятся отдельные независимые лидеры мнений, подавляющее большинство тех, кто должен бы осуществлять лидерство – ученые в области естественных и гуманитарных наук, – сегодня в большинстве стран работают на государство[208 - Я, разумеется, не возражаю против того, чтобы интеллектуальные классы, к которым я и сам принадлежу, то есть университетские преподаватели, журналисты и государственные служащие, обладали соответствующим влиянием. Но я осознаю, что, будучи наемными служащими, они неизбежно имеют профессиональные предубеждения, которые в некоторых существенных пунктах противоречат требованиям свободного общества, а потому должны встречать противодействие или, по крайней мере, подвергаться коррекции с другой позиции, с точки зрения людей, не являющихся членами организованной иерархии, жизненное положение которых не зависит от популярности выражаемых ими взглядов, которые могут на равных иметь дело с богатыми и обладающими властью. В истории эту роль порой исполняла земельная аристократия (в Виргинии в конце XVIII столетия – сельские джентльмены). Для создания такого класса не нужны наследственные привилегии, и патрицианские семьи многих торговых городов-республик, вероятно, имеют больше заслуг в этом отношении, чем вся титулованная знать. Но без какого-то количества людей, имеющих возможность посвятить жизнь тем ценностям, которые они избрали, не нуждающихся в том, чтобы их деятельность получала одобрение начальников или клиентов, и не зависящих от вознаграждения за признанные заслуги, некоторые направления эволюции, бывшие в прошлом очень благотворными, закроются. Если даже «независимость, это величайшее из земных благ» (как назвал ее Эдвард Гиббон в своей «Автобиографии» (Gibbon Е. Autobiography / World’s Classics edition. London: Oxford University Press, 1950. P. 176), является «привилегией» в том смысле, что лишь немногие могут ею располагать, это не делает менее желательным, чтобы некоторые ею обладали. Мы можем лишь надеяться, что это редкое преимущество не станет наградой, которая выдается по воле человека, а будет случайно доставаться немногим счастливчикам.]. В этом отношении произошли очень большие изменения в сравнении с XIX столетием, когда такие джентльмены-ученые, как Дарвин[209 - Сам Дарвин это прекрасно осознавал; см.: «Существование известного числа образованных людей, которым не нужно работать для добывания насущного хлеба, имеет значение, которое нельзя переоценить. В самом деле, вся высшая интеллектуальная работа производится ими, а от этой работы зависит материальный прогресс в самых разнообразных формах, не говоря уже о других высших преимуществах» (Darwin С. The Descent of Man (The Origin of Species By Means of Natural Selection; or, The Preservation of Favored Races in the Struggle for Life and The Descent of Man and Selection in Relation to Sex). New York: Modern Library, 1960. P. 502 (Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор // Он же. Сочинения. М.: Академия наук СССР, 1953. Т. 5. С. 247]).] и Маколей, Грот и Лаббок, Мотли и Генри Адамс, Токвиль и Шлиман, были известными публичными фигурами и когда даже такой неортодоксальный критик общества, как Карл Маркс, смог найти богатого покровителя, который позволил ему посвятить всю жизнь разработке и пропаганде доктрин, вызывавших искреннюю ненависть большинства его современников[210 - О том, сколь значительна в современной Америке роль богатых в распространении радикальных мнений см.: FriedmanМ. Capitalism and Freedom // Essays on Individuality / Ed. by F. Morley. Pittsburgh: University of Pennsylvania Press, 1958. P. 178 [Фридман M. Капитализм и свобода. M.: Новое издательство, 2005. С. 231]; см. также: Mises L. von. The Anticapitalism Mentality. Princeton, NJ: Yan Nostrand, 1956 (Мизес Л. фон. Антикапиталисти-ческая ментальность // Он же. Бюрократия. Запланированный хаос. Антикапиталистическая ментальность. М.: Дело, 1993. С. 169-231], а также мое эссе: Науек F.A. The Intellectuals and Socialism // University of Chicago Law Review. 1949. Vol. 16. P. 412-433; переиздано: Idem. Studies on Philosophy, Politics, and Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1967. P. 178-194.].
Почти полное исчезновение этого класса – и почти полное его отсутствие в США – породило ситуацию, когда класс собственников, теперь почти исключительно состоящий из деловых людей, не обладает ни интеллектуальным лидерством, ни даже последовательной и аргументированной жизненной философией. Класс богатых, отчасти и праздный класс, всегда насыщен непропорционально большим количеством ученых и государственных деятелей, писателей и художников. Именно благодаря общению в собственном кругу с такими людьми, которые вели тот же образ жизни, богатые деловые люди имели возможность участвовать в движении идей и в дискуссиях, формировавших общественное мнение. Европейскому наблюдателю, которого не может не поражать видимая беспомощность той прослойки, что в Америке и до сих пор иногда еще рассматривается как правящий класс, представляется, что во многом это положение дел обязано тому, что здешние традиции помешали появлению в его среде группы праздных людей, которые могли бы использовать независимость, даруемую богатством, для иных целей, нежели те, которые вульгарно именуются экономическими. Однако это отсутствие культурной элиты в рядах класса собственников сегодня наблюдается и в Европе, где сочетание последствий инфляции и налогообложения по большей части разрушило старую группу праздных людей и помешало созданию новой.
8. Не приходится отрицать, что такая группа праздных людей породит намного больше bon vivants, чем ученых и общественных служителей, и что первые будут шокировать общественную мораль своим демонстративным расточительством. Но подобное расточительство везде является ценой свободы; и было бы трудно утверждать, что критерии, по которым потребление самых праздных богачей оценивается как расточительное и предосудительное, действительно отличаются от тех, по которым потребление американских масс было бы оценено как расточительное египетскими феллахами или китайскими кули. В количественном отношении громадные расходы богачей на развлечения просто ничтожны в сравнении с тем, что тратится на похожие и столь же «необязательные» увеселения масс[211 - В США только расходы на табак и алкоголь составляют около 120 долларов в год на каждого взрослого!], отвлекающие значительные ресурсы от целей, которые можно было бы счесть важными по некоторым этическим нормам. И лишь потому, что расходы праздных богачей на свои удовольствия бросаются в глаза и выглядят непривычно, они кажутся достойными особого порицания.
Верно и то, что даже когда чрезмерная расточительность некоторых людей в высшей степени неприятна другим, вряд ли можно быть уверенным, что в каждом отдельном случае даже самые абсурдные эксперименты с образом жизни не приведут в целом к благотворным результатам. Неудивительно, что жизнь на новом уровне возможностей сначала ведет к бесцельному хвастовству. Однако у меня нет сомнений – хотя сказать так, значит стать мишенью для насмешек, – что даже для того, чтобы проводить досуг, нужны первопроходцы и что многими ныне широко распространенными образами жизни мы обязаны людям, посвящавшим все свое время искусству жизни[212 - Изучение развития английской архитектуры и обычаев повседневной жизни даже привело видного датского архитектора к утверждению, что «в английской культуре все хорошее имеет своим корнем праздность» (Rasmussen S.E. London, the Unique City. New York: Macmillan, 1937. P. 294).], и что множество игр и предметов спортивного инвентаря, ставших со временем привычными средствами массового отдыха, были изобретены плейбоями.
Наша оценка полезности разных видов деятельности была в этом отношении странным образом искажена повсеместностью денежных критериев. Поразительно, что часто те же самые люди, которые особенно громко сетуют на материалистичность нашей цивилизации, не принимают никакого другого критерия полезности тех или иных услуг, кроме того, что люди соглашаются за них платить. Но разве так уж очевидно, что профессиональный игрок в теннис или гольф – более полезный член общества, чем богатые любители, которые посвящают свое время совершенствованию этих игр? Или что получающий жалованье хранитель публичного музея полезнее частного коллекционера? Прежде чем читатель поспешит ответить на эти вопросы, я бы попросил его задуматься: а могли бы вообще когда-либо появиться профессиональные игроки в теннис и гольф, равно как и музейные хранители, если бы им не предшествовали богатые любители? Разве нельзя надеяться, что новые интересы могут появиться из хобби тех, кто, возможно, посвятил им лишь небо?льшую часть своей жизни? Совершенно естественно, что больше всего пользы для развития искусства жизни и нематериальных ценностей может принести деятельность тех, кто избавлен от материальных забот[213 - Ср.: Jouvenel В. de. The Ethics of Redistribution. Cambridge: Cambridge University Press, 1951. Особенно c. 80 [Жувенель В. де. Этика перераспределения. M.: Институт национальной модели экономики, 1995. Особенно с. 122].].
Одна из величайших трагедий нашего времени заключается в том, что массы уверовали, будто достигли высокого уровня материального благосостояния благодаря низвержению богатых, и стали бояться, что сохранение или возникновение подобного класса лишит их чего-то, что в противном случае они получат как должное. Мы уже видели, почему в прогрессивном обществе нет никаких оснований считать, что богатство, которым пользуются немногие, вообще существовало бы, если бы им не было позволено им владеть. Оно не отнято и не утаивается от других. Оно есть первый признак нового образа жизни, начатого авангардом. Нужно признать, что к числу обладателей привилегии открыто демонстрировать возможности, которыми смогут насладиться только дети или внуки всех остальных, в целом относятся не самые достойные, а просто те, кого случай поставил в столь завидное положение. Но этот факт неотделим от процесса роста, который всегда идет дальше, чем в состоянии предвидеть какой-либо человек или группа. Помешав некоторым первыми воспользоваться определенными преимуществами, мы тем самым можем помешать и всем остальным воспользоваться ими когда бы то ни было. Когда из зависти мы делаем некоторые исключительные способы жизни невозможными, мы все в конце концов обеднеем материально и духовно. Мы не в состоянии устранить неприятные проявления индивидуального успеха, не разрушив в то же время те самые силы, которые делают возможным движение вперед. Можно в полной мере разделять отвращение к демонстративной роскоши, плохому вкусу и расточительности многих новых богачей, но при этом нужно отдавать себе отчет, что если бы мы помешали появиться всему, что нам не нравится, то, вероятно, среди непредвиденных вещей, которые так и не появились бы на свете, хороших оказалось бы больше, чем плохих. Мир, в котором большинство имеет возможность не допускать появления всего, что ему не нравится, был бы миром стагнирующим, а то и угасающим.
Часть II
Свобода и закон
Первоначально, когда была одобрена некая система правления определенного вида, возможно, никто дополнительно и не продумывал способ правления, но все было оставлено на мудрость и усмотрение тех, кто должен был править; пока на своем опыте люди не обнаружили, что это очень неудобно для всех сторон, ибо то, что они придумали для исцеления, только увеличило язву, которую должно было исцелить. Они увидели, что жизнь по воле одного человека стала причиной невзгод для всех людей. Это вынудило их обратиться к законам, чтобы все люди могли заранее видеть свои обязанности и знать, каково будет наказание за их неисполнение.
Ричард Хукер[214 - Эпиграф взят из книги: Hooker В. The Laws of Ecclesiastical Polity [1593]. London: J.M. Dent, 1907. Vol. 1. P. 192; отрывок поучителен несмотря на рационалистическую интерпретацию исторического развития, которая в нем подразумевается.]
Глава 9
Принуждение и государство
Так как это – абсолютная крепостная зависимость, в соответствии с которой выполняемая служба неопределенна и точно не установлена, и нельзя знать вечером, какую службу нужно будет выполнить утром, то есть человек обязан делать все то, что ему прикажут.
Генри Брайтон[215 - Цитата из Генри Брайтона заимствована из работы: Polanyi М. The Logic of Liberty: Reflections and Rejoinders. London: Routledge and Kegan Paul, 1951. P. 158. Главная идея главы была хорошо выражена и Фредериком У. Мейтлендом: «Непредсказуемый характер отправления власти порождает самые большие ограничения, потому что ограничение больше всего чувствуется и потому оказывается наибольшим, когда оно наименее предсказуемо. Мы чувствуем себя наименее свободными, когда знаем, что в любой момент могут быть наложены ограничения на любое из наших действий, и при этом мы не в состоянии предвидеть эти ограничения. <…> Известные общие законы, сколь угодно плохие, меньше препятствуют свободе, чем решения, основанные на заранее не известном правиле» (Maitland F.W. Historical Sketch of Liberty and Equality as Ideals [1875] // Collected Papers of Frederic William Maitland, Downing Professor of the Laws of England. Cambridge: Cambridge University Press, 1911. Vol. 1. P. 80).]
1. Ранее в нашем рассуждении мы предварительно определили свободу как отсутствие принуждения (coercion). Но принуждение – почти столь же неудобное понятие, как и сама свобода, и по той же самой причине: мы не проводим четкого различия между тем, как на нас сказываются действия других людей и как влияют материальные обстоятельства. Собственно говоря, в английском языке есть два разных слова, чтобы отличать одно от другого: мы вполне можем сказать, что обстоятельства вынудили (compelled) нас сделать то или другое, но если мы говорим, что нас принудили (coerced), то подразумеваем в этом случае человеческий фактор.
Принуждение имеет место, когда действия одного человека вызваны тем, что ему приходится служить воле другого ради достижения не своей, а чужой цели. Дело не в том, что в условиях принуждения человек вообще не принимает решений; если бы это было так, нам бы не следовало говорить о его «действиях». Если кто-то, применяя физическую силу, водит моей рукой, чтобы получить мою подпись, или прижал мой палец к спусковому крючку пистолета – я не осуществил действия. Конечно, такое насилие, которое делает мое тело чьим-то физическим инструментом, так же плохо, как и собственно принуждение, и его следует предотвращать по тем же причинам. Однако принуждение предполагает, что я все-таки осуществляю выбор, но при этом в чей-то инструмент превращен мой ум, потому что открытыми для меня альтернативами проманипулировали таким образом, что поведение, которого добивается от меня принуждающий, оказывается для меня наименее болезненным[216 - См.: «Принуждение есть „произвольное“ манипулирование со стороны одного человека доступными другому условиями или альтернативами при выборе – обычно нам следует говорить о „неоправданном“ вмешательстве („unjustified“ interference)» (Knight F.H. Conflict of Values: Freedom and Justice // Goals of Economic Life / Ed. by A. Dudley Ward. New York: Harper and Bros., 1953. P. 208). См. также: Maclver B.M. Society: A Textbook of Sociology. New York: Farrar and Rinehart, 1937. P. 342.]. Хоть и под давлением силы, но все-таки это я решаю, что является наименьшим злом в данных обстоятельствах[217 - См. юридическое правило «etsi coactns tamen voluit» [«будучи принужден, я все же выразил свою волю» (перевод под ред. Л. Кофанова)], пришедшее из «Corpus juris civilis» (Дигесты. IV.4.21). О его значении см.: L?btow U von. Der Ediktstitel “Quod metns causa gestum erit”. Greisfwald: Bamberg, 1932. P. 61-71.] .
Понятно, что принуждением не исчерпываются все виды влияния, которое люди могут оказывать на действия других. Оно даже не включает в себя все случаи, в которых человек действует или угрожает действовать таким образом, что это, как ему известно, причинит вред другому и заставит его изменить свои намерения. Нельзя сказать, что человек, который преграждает мне дорогу, и мне приходится отступить в сторону, человек, взявший в библиотеке книгу, которая понадобилась мне, и даже тот, кто производит неприятные звуки и отвлекает меня, тем самым осуществляет принуждение по отношению ко мне. Принуждение подразумевает угрозу причинения вреда и намерение добиться этим от меня определенного поведения.
Хотя принуждаемый все же делает выбор, его альтернативы определены принуждающим так, что он выберет то, чего принуждающий хочет. Он не то чтобы совсем не может использовать свои способности, но лишен возможности использовать свои знания в собственных целях. Чтобы эффективно применять свой интеллект и знания для достижения своих целей, человеку нужно предвидеть некоторые условия окружающей его среды и придерживаться собственного плана действий. Большинства человеческих целей можно достичь только в результате цепочки связанных действий, задуманных как согласованное целое и опирающихся на предположение, что факты будут соответствовать ожиданиям. Только потому, что мы умеем, и в той мере, в какой умеем предсказывать события или хотя бы оценивать их вероятность, мы способны достигать чего-либо. И пусть физические обстоятельства часто непредсказуемы, они не могут злонамеренно расстроить наши планы. Но если то, что определяет наши планы, всецело находится под контролем другого, наши действия точно так же окажутся под его контролем.
Таким образом, в принуждении плохо то, что оно не позволяет человеку в полной мере использовать свои умственные способности, а значит, и вносить максимально возможный вклад в процветание общества. Хотя принуждаемый в любой данный момент времени будет делать для себя лучшее из того, что может, единственный общий план, в который составной частью входят его действия, придуман другим.
2. Политические философы обсуждали власть чаще, чем принуждение, потому что политическая власть обычно означает возможность принуждать[218 - См.: Wieser F. von. Das Gesetz der Macht. Vienna: Julius Springer, 1926; Russel B. Power: A New Social Analysis. London: Allen and Unwin, 1930; Ferrero G. The Principles of Power. New York: G.P. Putnam’s Sons, 1942; Jouvenel B. de. Power: The Natural History of Its Growth. London: Hutchinson, 1948 [Жувенель В. де. Власть. Естественная история ее возрастания. М.: ИРИС ЭН; Мысль, 2010]; Ritter G. Уот sittlichen problem der Macht: Fiinf Essays. Bern: Francke, 1948; Idem. Machtstaat nnd Utopie: vom Streit um die Damonie der Macht seit Machiavelli und Morus. Munich: Oldenburg, 1940; Radcliffe C.J. The Problem of Power. London: Seeker and Warburg, 1952; MacDermott J.C. Protection from Power under English Law. London: Stevens, 1957.]. Но хотя великие умы от Джона Мильтона и Эдмунда Бёрка до лорда Актона и Якоба Буркхардта, представлявшие власть как начало всякого зла[219 - Жалобы на власть как на архизло так же стары, как сами размышления о политике. Уже Геродот заставляет Отана сказать в своей речи о демократии: «…Если бы даже самый благородный человек был облечен такой [безответственной] властью, то едва ли остался бы верен своим прежним убеждениям» (Геродот. История в девяти книгах. III.80 [переводГ.А. Стратановского]); Джон Мильтон говорит, что «длительное обладание властью может испортить честнейших мужей» (Milton J. The Ready and Easy Way to Establish a Free Commonwealth, and the Excellence thereof, Compared with the Inconveniences and Dangers of Readmitting Kingship in this Nation [1660] // Milton’s Prose / Ed. by M.W. Wallace. London: Oxford University Press, 1925. P. 459); Монтескье утверждает: «Но известно уже по опыту веков, что всякий человек, обладающий властью, склонен злоупотреблять ею, и он идет в этом направлении, пока не достигнет положенного ему предела» (Montesquieu. Spirit of the Laws. Bk. 11. Ch. 4. Yol. 1. P. 150 [Монтескье. О духе законов. С. 137]); И. Кант: «Обладание властью неизбежно искажает свободное суждение разума» (Kant I. Zum ewigen Freiden: Ein philosophischer Entwurf [1795] / Ed. by К. Kehrbach. Leipzig: Philipp Reclam jun., 1881. P. 36 [Кант И. К вечному миру // Он же. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 7. С. 37]; Эдмунд Вёрк: «Многие из величайших тиранов в анналах истории начинали свое правление с величайшей справедливости. Но правда в том, что эта неестественная власть портит и сердце и разум» (Burke Е. Thoughts on the Causes of Our Present Discontents // Burke. Works. Yol. 2. P. 307) [В действительности цитата из: Idem. A Vindication of Natural Society; or, A View of the Miseries and Evils Arising to Mankind from Every Species of Artificial Society / 3
ed. Dublin: Printed by and for Sarah Cotter, 1766. P. 38. – Ред.~\\ Джон Адамс: «Властью злоупотребляют всегда, когда она не ограничена и не уравновешена» (Adams J. Works: With a Life of the Author / Ed. by C.F. Adams. Boston: Charles C. Little and James Brown, 1851. Yol. 6. P. 73), а также: «Абсолютная власть равным образом опьяняет деспотов, монархов, аристократов и демократов, якобинцев и sans culottes» (Ibid. P. 477); Джеймс Мэдисон: «Всякая принадлежащая человеку власть тяготеет к злоупотреблению», а также: «Власть, где бы она ни была сосредоточена, более или менее склонна к злоупотреблению» (The Complete Madison: The Complete Madison: His Basic Writings / Ed. by S.K. Padover. New York: Harper, 1953. P. 46); Якоб Буркхардт никогда не уставал повторять, что власть сама по себе зло (Burckhardt J. Force and Freedom: Reflections on History. New York: Pantheon Books, 1943. E.g. P. 115); и, разумеется, нужно вспомнить высказывание лорда Актона: «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно» (Acton. Historical Essays. P. 504). См. также: «Es liegt in der unumschr?nkten Gewalt eine so schauerliche Macht der b?sen Versuchung, da? nur die alleredelsten Menschen ihr widerstehen k?nnen» [«Абсолютная власть в самой себе содержит дьявольский соблазн склониться ко злу, сопротивляться которому могут лишь самые благородные»] (Rotteck С. von. Absolutismus II Staatslexikon oder Encyklop?die der Staatswissenschaften. Atona: Hammrich, 1834. Vol. 1. P. 155).], были по-своему правы, ошибочно говорить в этой связи просто о власти. Плоха не власть как таковая – способность достигать желаемого, – но лишь власть применять принуждение, заставлять человека служить чужой воле под угрозой причинения вреда. Нет ничего плохого во власти, принадлежащей директору большого предприятия, к которому люди присоединились добровольно и для собственных целей. Часть преимуществ цивилизованного общества и состоит в том, что благодаря такому добровольному объединению усилий под руководством одного человека людям удается чрезвычайно увеличить свою коллективную силу.
Развращает не власть, понимаемая как расширение наших способностей, а подчинение воли других людей нашей воле, использование других в наших целях против их воли. Действительно, в человеческих отношениях власть и принуждение обитают рядом, и большая власть, которой обладают немногие, может дать им возможность принуждать других, пока она не натолкнется на противодействие еще большей силы; но принуждение не столь необходимое, не столь распространенное следствие власти, как это обычно считается. Ни власть Генри Форда, ни власть Комиссии по атомной энергии, ни власть генерала Армии спасения, ни даже (по крайней мере, до недавнего времени) власть президента ОША не является властью принуждать других людей действовать в своих целях.
Во избежание путаницы следовало бы иногда вместо слова «принуждение» (coercion) использовать термины «сила» (force) и «насилие» (violence), поскольку угроза применения силы или насилия – самая важная форма принуждения. Но это не синонимы принуждения, потому что угроза применения физической силы не единственный вид осуществления принуждения. Аналогичным образом термин «угнетение», или «подавление» (oppression), – являющийся, пожалуй, настоящей противоположностью свободы, как и принуждение, – должен относиться только к состоянию постоянных актов принуждения.
3. Нужно быть внимательным в том, чтобы отличать принуждение от условий, на которых люди готовы оказывать нам те или иные услуги или предоставлять те или иные блага. Только в очень исключительных обстоятельствах единоличный контроль доступа к жизненно важной для нас услуге или ресурсу дает другому возможность осуществлять настоящее принуждение. Жизнь в обществе неизбежно подразумевает, что удовлетворение наших потребностей в большинстве случаев зависит от услуг других людей; в свободном обществе эти взаимные услуги добровольны, и каждый определяет, кому и на каких условиях он хочет оказывать услуги. Польза и возможности, предлагаемые другими, доступны, только если мы принимаем их условия.
Это верно как для социальных, так и для экономических отношений. Если хозяйка приглашает меня на свои вечеринки только при условии, что я буду соответствовать определенным требованиям к одежде и поведению, или если мой сосед разговаривает со мной только при условии моего приличного поведения, в этом нет никакого принуждения. Нельзя назвать «принуждением» и то, что производитель или продавец соглашаются предоставить мне желаемое только по своей цене. Это бесспорно в случае конкурентного рынка, где я могу обратиться к другому поставщику, если условия первого меня не устраивают; но, как правило, это не менее верно и в случае с монополистом. Если, например, я захотел, чтобы мой портрет написал знаменитый художник, а он требует за это очень высокую цену, было бы абсурдным утверждать, что меня принудили. То же верно и в отношении любого другого товара или услуги, без которых я могу обойтись. Пока от чьих-либо услуг не зависит моя жизнь или то, что я ценю больше всего, условия, которые требует человек за предоставление своих услуг, не могут быть названы «принуждением».
Однако монополист мог бы осуществлять настоящее принуждение, если бы он оказался, скажем, владельцем родника в оазисе. Предположим, что там поселились какие-то люди, рассчитывавшие, что вода всегда будет доступна по разумной цене, а потом обнаружили – например, из-за того что пересох второй родник, – что смогут выжить, только приняв все требования владельца единственного источника воды, – вот это несомненный пример принуждения. Можно придумать еще ряд примеров, в которых люди оказываются в полной зависимости от монополиста, способного контролировать жизненно важный ресурс. Но если монополист не имеет возможности полностью перекрыть поставки незаменимого ресурса, он не в состоянии осуществлять принуждение, как бы ни были его требования неприятны тем, кто зависит от его услуг.
В свете того, что ниже будет сказано об адекватных методах обуздания государственной принудительной власти, следует отметить, что как только возникает опасность, что монополист получит возможность осуществлять принуждение, вероятно, самый разумный и действенный метод предотвращения этого – потребовать от него, чтобы он обращался со всеми потребителями одинаково, то есть настаивать на том, чтобы его цены были одинаковыми для всех, и запретить ему всякую дискриминацию. Тот же самый принцип мы используем для обуздания принудительной власти государства.
Отдельный работодатель в обычной ситуации способен осуществлять принуждение не в большей степени, чем любой поставщик каких-либо товаров или услуг. До тех пор пока он в состоянии устранить только одну из множества возможностей зарабатывать на жизнь, пока он может лишь перестать платить людям, которые не смогут ни в каком другом месте зарабатывать столько же, сколько у него, он способен причинять неприятности, но не в состоянии принуждать. Бесспорно, бывают случаи, когда условия найма создают возможность для настоящего принуждения. В периоды острой безработицы угроза увольнения может быть использована, чтобы принудить к действиям, не предусмотренным договором найма. Л в условиях, скажем, горняцкого поселка управляющий вполне может установить режим произвола, самодурства и тирании в отношении неугодного ему человека. Но в процветающем конкурентном обществе такие ситуации хотя и возможны, но они будут редкими исключениями.
Абсолютная монополия найма, подобная той, которая возникает в полностью социалистическом государстве, где единственный работодатель и собственник всех средств производства – правительство, дает неограниченные возможности для принуждения. В свое время Лев Троцкий сделал открытие: «В стране, где единственным работодателем является государство, эта мера [не давать работы оппозиционерам] означает медленную голодную смерть. Старый принцип: кто не работает, тот не ест, заменен новым: кто не повинуется, тот не ест»[220 - Trotsky L. The Revolution Betrayed: What Is the Soviet Union and Where is it Going? Garden City, NY: Doubleday, Doran and Co., 1937. P. 283 [Троцкий Л. Преданная революция. M.: НИИ культуры, 1991. С. 234].].
За исключением подобных случаев монополии на жизненно важные услуги, простая возможность отказать в получении выгоды не порождает принуждения. Использование такой власти каким-либо человеком действительно может изменить социальный ландшафт, к которому я приспособил свои планы, и заставить меня пересмотреть все прежние решения, возможно, даже перестроить всю свою жизнь и побеспокоиться о многих вещах, которые я прежде воспринимал как данность. Но хотя вставшие передо мною альтернативы могут быть до обидного малочисленны и рискованны, а мои новые планы будут всего лишь паллиативом, тем не менее мои действия не подчинены чужой воле. Я могу действовать под очень большим давлением, но нельзя сказать, что меня принуждают. Даже если угроза голода для меня и моей семьи заставляет меня пойти на малоприятную работу за очень низкую плату, даже если я оказываюсь «во власти» единственного человека, готового дать мне работу, меня не принуждает он или кто-то еще. До тех пор пока действие, поставившее меня в затруднительное положение, не имеет целью заставить меня сделать или не сделать что-то определенное, до тех пор пока причиняющее мне вред действие не направлено на то, чтобы принудить меня служить целям другого человека, оно влияет на мою свободу не больше, чем любое стихийное бедствие, вроде пожара или наводнения, уничтожающего мой дом, или несчастный случай, наносящий ущерб моему здоровью.
4. Настоящее принуждение имеет место, когда вооруженные отряды завоевателей заставляют покоренный народ работать на них, когда организованные бандиты вымогают деньги за «защиту», когда тот, кто узнал чужую темную тайну, шантажирует свою жертву и, конечно, когда государство угрожает наказать или применить физическую силу, чтобы заставить нас подчиняться его распоряжениям. Возможны разные уровни принуждения, от крайнего случая господства хозяина над рабом или тирана над своими подданными, когда неограниченная власть наказывать обеспечивает полное подчинение воле хозяина, до единичной угрозы причинить человеку такой вред, что тот предпочитает согласиться почти на все, чтобы избежать этого.
Будет ли успешной попытка принудить к чему-то отдельного человека, в большой мере зависит от его внутренней силы: одного и угроза убийства не заставит отказаться от своих целей, а другого остановит угроза мелкими неприятностями. Но, хотя мы можем пожалеть слабых или слишком впечатлительных людей, которых даже грозный взгляд «вынудит» сделать то, чего так бы они делать не стали, нас все же интересует принуждение, которое может воздействовать на нормального среднего человека. Обычно используют угрозу телесных повреждений по отношению к самому человеку или его близким или угрожают уничтожить какую-то ценную или важную ему собственность, однако принуждению не обязательно применять силу или насилие. Можно лишить человека всякой свободы действий, затруднив его жизнь бесконечным множеством мелких препятствий: коварство и злоба найдут средства принудить физически более сильного человека. Ватага сорванцов вполне может прогнать из города человека, который им не нравится.
До известной степени все тесные отношения между людьми, которых связывают между собой чувства, экономическая необходимость или внешние обстоятельства (например, нахождение на корабле или в экспедиции), создают возможности для принуждения. В отношениях с домашней прислугой, как и в более близких отношениях, несомненно, есть возможности для особо деспотичной разновидности принуждения, которая в результате создает ощущение ограничения личной свободы. Угрюмый муж, сварливая жена или истеричная мать способны сделать жизнь невыносимой, если только не удовлетворять каждый их каприз. Но здесь общество мало чем способно помочь человеку, разве что сделать подобные союзы подлинно добровольными. Любая попытка регулировать эти близкие отношения больше предполагает такие серьезные ограничения свободы выбора и поведения, которые могут породить только еще большее принуждение: если люди вольны выбирать себе спутников жизни и близких друзей, принуждение, возникающее в результате этих добровольных союзов, не должно быть предметом заботы государства.
Читателю может показаться, что мы уделили слишком много внимания различиям между тем, что может обоснованно считаться «принуждением», а что нет, между более жесткими формами принуждения, которые необходимо предотвращать, и менее серьезными его формами, которые не должны быть заботой властей. Но, как и в случае свободы, постепенное расширение этого понятия сделало его почти бессмысленным. Свободу можно определить так, что она станет почти недостижима. Равно и принуждение можно определить так, что оно окажется повсеместным и неустранимым явлением[221 - Характерный пример этого, попавшийся мне на глаза, когда я работал над этой главой, содержится в обзоре Бертрана Ф. Уилкокса: Willcox B.F. “The Labor Policy of a Free Society” by Sylvester Petro # Industrial and Labor Relations Review. 1957-1958. Vol. 9. P. 273. Чтобы оправдать «мирное экономическое принуждение» со стороны профсоюзов, автор утверждает: «Мирная конкуренция, основанная на свободном выборе, вся пронизана принуждением. Свободный продавец товаров или услуг, устанавливая цену, принуждает желающего купить – принуждает его либо заплатить, либо обойтись без этого товара, либо искать товар где-то еще. Свободный продавец товаров или услуг, устанавливая условие, что не будет продавать тому, кто покупает у X, принуждает потенциального покупателя – принуждает его либо обойтись без покупки, либо отправляться за товаром куда-то еще, либо не покупать у X – в последнем случае объектом принуждения оказывается также и X». Это злоупотребление термином «принуждение» имеет главным источником работу Джона Р. Коммонса (см.: Commons J.B. Institutional Economics. New York: Macmillan, 1934. Особенно c. 336-337; см. также: Hale B.L. Coercion and Distribution in a Supposedly Noncoercive State // Political Science Quarterly. 1923. Vol. 38. P. 470-494; Idem. Freedom through Law: Public Control of Private Governing Power. New York: Columbia University Press, 1952).]. Мы не можем предотвратить весь тот вред, который один человек может причинить другому, и даже те сравнительно мягкие формы принуждения, которые возникают в отношениях между близкими людьми; но это не означает, что мы не должны пытаться предотвратить более тяжелые формы принуждения или что нам не следует определять свободу как отсутствие такого принуждения.
5. Поскольку принуждение – это контроль над важнейшими данными, от которых зависят действия индивида, осуществляемый другим индивидом, его можно предотвратить лишь позволив человеку обеспечить себе некоторую частную сферу, где он будет защищен от подобного вмешательства. Гарантию того, что определенные факты не подвергаются умышленному манипулированию со стороны других, может дать только некая власть, обладающая необходимой силой. Именно в этом смысле принуждение одного индивида по отношению к другому может быть предотвращено только угрозой принуждения.
Существование такой защищенной сферы представляется нам настолько нормальным условием жизни, что мы склонны определять «принуждение» с помощью таких выражений, как «нарушение законных ожиданий», «нарушение прав» или «произвольное вмешательство»[222 - См. высказывание Фрэнка X. Найта, цитируемое выше в этой главе в примечании 1 (Knight F.H. Conflict of Values: Freedom and Justice. P. 208).]. Но определяя принуждение, мы не можем принимать как данность установления, созданные для его предотвращения. «Законность» чьих-либо ожиданий и «права» человека – результат признания такой частной сферы. Если бы такой защищенной сферы не существовало, принуждение не только имело бы место, но и было бы намного распространеннее. Только в обществе, которое ради предотвращения принуждения уже провело демаркацию этой защищенной сферы, выражение «произвольное вмешательство» имеет точный смысл.
Однако чтобы само признание защищенной частной сферы не превратилось в инструмент принуждения, ее размеры и содержание не должны задаваться преднамеренным приписыванием определенных вещей определенным людям. Если бы то, что подлежит включению в частную сферу индивида, зависело от воли одного человека или группы людей, то полномочия на применение принуждения были бы просто переданы этой воле. Точно так же было бы равно нежелательным, чтобы содержание частной сферы человека оказалось зафиксированным раз и навсегда. Для того чтобы люди могли наилучшим образом использовать свои знания, способности и предвидение, желательно, чтобы они сами могли участвовать в определении того, что должно быть включено в их защищенную частную сферу.
Найденное людьми решение этой проблемы опирается на признание общих правил, регулирующих условия, при которых объекты или обстоятельства становятся частью защищенной частной сферы человека или людей. Признание таких правил позволяет каждому члену общества формировать содержание своей защищенной сферы, а всем вместе осознать, что принадлежит к их личной сфере, а что не принадлежит[223 - О роли собственности в американской традиции свободы см.: Freund Р.А. On Understanding the Supreme Court: A Series of Lectures Delivered under the Auspices of the Julius Rosenthal Foundation at Northwestern University School of Law, in April 1949 / 3
ed. Boston: Little, Brown and Co., 1951. P. 14 ff.].
Не следует представлять себе дело так, что эта сфера состоит исключительно или даже преимущественно из материальных объектов. Хотя разделение окружающих нас материальных объектов на «мое» и «чужое» – важнейшая задача правил, разграничивающих частные сферы, эти же правила закрепляют за нами много других «прав», таких как гарантированная возможность определенным образом использовать вещи или просто защита от вмешательства в наши действия.
6. Таким образом, признание частной, или раздельной (several)[224 - Выражение «раздельная собственность» (several property), использованное сэром Генри Мэйном (Maine Н. Village Conununities in the East and West: Six Lectures Delivered at Oxford to which are added Other Lectures, Addresses, and Essays. New York: H. Holt and Co., 1880. P. 230), во многих отношениях более удачно, чем привычное словосочетание «частная собственность», и время от времени мы будем заменять им последнее.], собственности – существенное, хотя далеко не единственное условие предотвращения принуждения. Нам редко удается осуществить последовательный план действий, если мы не уверены в своем исключительном контроле над некоторыми материальными объектами; а если такого контроля нет, то необходимо знать, у кого он есть, чтобы иметь возможность наладить с этими людьми сотрудничество. Признание собственности, несомненно, первый шаг в определении частной сферы, защищающей нас от принуждения; уже давно признано, что «народ, питающий отвращение к институту частной собственности, лишен первейшего элемента свободы»[225 - Acton J. Nationality // Acton. History of Freedom. P. 297 [Актон. Очерки становления свободы. С. 135].] и что «никто не может нападать на раздельную собственность и одновременно заявлять, что ценит цивилизацию. Их история неразделима»[226 - Maine Н. Village Communities in the East and West. New York: H. Holt and Co., 1880. P. 230.]. Современная антропология подтверждает тот факт, что «частная собственность очень определенно возникает на примитивных стадиях» и что «укорененность собственности как правового принципа, который определяет материальные отношения между человеком и его окружением, естественным и искусственным, является совершенно необходимым условием любой упорядоченной – в культурном смысле – деятельности»[227 - Malinowski В. Freedom and Civilization. New York: Roy Publishers, 1944. P. 132-133.].
Однако в современном обществе существенным условием защищенности индивида от принуждения служит не то, что он владеет собственностью, а то, что материальные средства, необходимые для осуществления его плана деятельности, не находятся под чьим-либо исключительным контролем. Одно из достижений современного общества заключается в том, что свободным может быть человек, не имеющий практически никакой собственности (за исключением личных вещей, вроде одежды, – но даже это можно брать на прокат)[228 - Я не хочу сказать, что это предпочтительная форма существования. Тем не менее немаловажно, что сегодня заметная часть людей, во многом определяющих общественное мнение, таких как журналисты и писатели, нередко на протяжении долгого времени обходятся минимумом личного имущества, и это, несомненно, влияет на их мировоззрение. Похоже, что некоторые люди, которые располагают доходом, позволяющим покупать все необходимое, даже стали считать материальное имущество помехой, а не подспорьем.], и что мы можем предоставить другим заботу о собственности, которая служит нашим нуждам. Важно, чтобы собственность была достаточно рассредоточена, чтобы индивид не зависел от отдельных людей, которые были бы единственными, кто может предоставить то, что удовлетворяет его нужды, или были бы для него единственными работодателями.
То, что собственность других людей может быть полезной для достижения наших целей, связано с возможностью обеспечить принуждение к выполнению договоров (enforcibility of contracts). Сеть создаваемых договорами прав – столь же важная часть нашей защищенной сферы и такая же основа наших планов, как и всякая наша собственность. Решающим условием взаимовыгодного сотрудничества между людьми, опирающегося на добровольное согласие, а не на принуждение, является наличие множества людей, способных помочь нам в достижении наших целей, так что никто не связан зависимостью от отдельных людей в том, что касается удовлетворения основных жизненных потребностей или возможности развития в том или ином направлении. Благодаря конкуренции, которую сделало возможной рассредоточение собственности, индивидуальные владельцы конкретных вещей лишаются всякой возможности осуществлять принуждение.
Ввиду широко распространенного непонимания известной максимы[229 - «Поступай так, чтобы ты всегда относился к человечеству в своем лице и в лице всякого другого так же как к цели и никогда не относился бы к нему только как к средству» (Kant I. Critique of Practical Reason / Ed. by L.W. Beck. Chicago: University of Chicago Press, 1949. P. 87 [Кант И. Основоположения метафизики нравов // Он же. Собрание сочинений: В 8 т. М.: Чоро, 1994. Т. 4. С. 205]). Если это означает, что ни одного человека нельзя принуждать делать то, что полезно лишь для достижения целей других людей, то это всего лишь еще один способ сказать о необходимости избегать принуждения. Но если интерпретировать эту максиму в том смысле, что, сотрудничая с другими, мы должны руководствоваться не только собственными, но также их целями, то, как только мы будем не согласны с их целями, неизбежно возникнет конфликт с их свободой. В качестве примера такой интерпретации см.: Clark J.M. The Ethical Basis of Economic Freedom: Kazanijan Foundation Lecture. Westport, CT: C.K. Kazanjian Economics Foundation, 1955. P. 26; а также немецкую литературу, которая рассматривается в работе, процитированной в следующем примечании [Engels F. Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie / 5